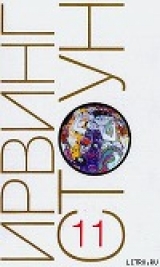
Текст книги "Страсти ума, или Жизнь Фрейда"
Автор книги: Ирвинг Стоун
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 72 страниц)
4
Его номер в отеле «Де ля Пэ», в строгой манере обычных тихих холостяцких комнат, был удобным. Питался он в ресторанах, где завсегдатаями были студенты Сорбонны, а блюда – простыми, но обильными. Свободные от работы дни он проводил в Лувре и у Нотр Дам в Сите, частенько поднимаясь на верхнюю площадку башни, чтобы еще раз полюбоваться захватывающим дух видом Сены, описывающей плавную дугу от дворца Инвалидов до Булонского леса на юго–западе города. За пределами больницы у него не было друзей, и часы одиночества он возмещал своей влюбленностью в Париж. Зигмунд испытал необычное удовлетворение, когда, пересекая улицу около собора Сен–Жермен де Пре, поймал себя на том, что сначала думал на немецком, а потом, когда перешел на противоположную сторону, обнаружил, что думает уже по–французски.
Наступил перелом. Он провел в Сальпетриере уже две недели и как–то раз в начале ноября ранним утром на прогулке попал под шквал дождя. Врачи из лаборатории профессора Шарко дали ему взаймы одежду и пару тапочек. Он пришел на консультацию с небольшим опозданием, и ему пришлось занять место позади врачей, сидевших полукругом. Он увидел перед собой узкий череп, покрытый бледной кожей и редкими светлыми волосами. Этот человек обернулся и кивнул ему, приветливо улыбаясь. Зигмунд узнал Даркшевича из Москвы, с которым он работал в лаборатории Меинерта и который перевел на русский язык его статью об окраске образцов мозга. После консультации высокий худой меланхоличный славянин пригласил Зигмунда к себе на скромную трапезу: хлеб, сыр и ароматный чай по–русски. В Вене они не были близки, а здесь встретились как старые друзья, и это чувство усилилось, после того как Зигмунд узнал, что Даркшевич много лет был помолвлен с девушкой, которую преданно любил, но на которой не мог жениться до окончания учебы, написания учебника и получения обещанного места профессора в Московском университете.
Даркшевич познакомил его с другим русским студентом – Кликовицем, помощником личного врача царя. Тот достаточно хорошо знал Париж и научил Зигмунда, как торговаться в молочной, где он покупал за тридцать сантимов то, что в ресторане стоило бы шестьдесят; показал ряд небольших семейных ресторанов, где блюда были вкусными и дешевыми. Кликовиц был молодым, веселым, остроумным и любезным; они оба говорили на ломаном французском и однажды вечером отправились к воротам Сен–Мартен посмотреть Сару Бернар в пьесе Сарду «Феодора». Пьеса, продолжавшаяся четыре с половиной часа, показалась Зигмунду напыщенной и затянутой. Во время антракта, когда они вышли на свежий воздух и лакомились апельсинами, он сказал Кликовицу:
– Как удивительно играет Сара! После первых слов, произнесенных этим западающим в душу голосом, у меня родилось чувство, словно я знал ее всю жизнь. Никогда не видел более забавной фигуры, чем у нее, но все в ней волнует и чарует. А как она ласкает, упрашивает, обнимает, как она льнет к мужчине, ведь играет каждый мускул, каждый сустав, просто невероятно!…
Кликовиц засмеялся:
– Ты говоришь о ней, как на уроке анатомии. Мы все влюбляемся в Сару, в какой бы пьесе она ни играла, пусть даже в плохой.
Затем его приютила пожилая чета – обучавшийся в Вене невролог итальянского происхождения по фамилии Рикетти и его жена, немка из Франкфурта. Рикетти перебрались из Вены в Венецию, где, как сказал глава семейства Зигмунду, он успешно практиковал и накопил четверть миллиона франков. Его жена, по натуре домоседка, принесла ему огромное приданое. Бездетные и одинокие, в Париже они взяли Зигмунда под свое покровительство: водили его ежедневно на ланч в ресторан Дюваля. Вместе они сходили на церковную службу в Нотр Дам в воскресенье. На следующее утро Зигмунд купил роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», прочитанный им еще в Вене, но теперь открывший ему новые грани Парижа и французского языка, неведомые ранее.
Между тем исследования в лаборатории продвигались трудно, несмотря на то, что известный гистолог доктор Луис Ранье хорошо отнесся к нему и высоко отзывался о его работе. Он не добился новых успехов в изучении срезов детского мозга, возможно, потому, что его воображение захватил Шарко, который не только давал ценные сведения о неврологии и мужской истерии, но и был достаточно любезен, чтобы поправлять его французское произношение, и разрешил ему начать клинические исследования интересных случаев в палатах. Иногда наступали моменты депрессии, было ощущение, что он здесь чужой. Он тосковал по Марте и постоянно беспокоился о том, что называл «проклятыми деньгами». Он совершил, по собственной оценке, акт величайшего безумия: зайдя в книжную лавку на бульваре Сен–Мишель за «Мемуарами» Шарко по объявленной в каталоге цене пять франков и обнаружив, что книга распродана, он поддался уговорам книготорговца и приобрел собрание работ профессора Шарко за шестьдесят франков. Еще двадцать франков он потратил на годичную подписку на «Архивы».
Добравшись после этих покупок до тупика Руайе–Коллар, он поднялся к себе на второй этаж и стал ходить взад–вперед по комнате. Ежедневно он старался отложить пару франков на рождественские подарки Марте и членам ее семьи, а тут израсходовал около восьмидесяти франков… Впрочем, «Архивы» Шарко будут необходимы для работы.
Деньги таяли быстрее, чем он рассчитывал. Он знал, что упрекать можно только себя, поскольку жил не столь экономно, как следовало бы. Но как можно быть в Париже и не видеть «Опера комик», ведь брат Александр помимо поездов питал страсть к оперетте, ему же нужно рассказать? Как не сходить в «Комеди франсез», где звучит чистейшая французская речь? Как не съездить в Версаль?… Такие возможности могут представиться лишь раз в жизни. Он вздохнул: «Ну хорошо, что не дается, тем надо завладеть».
Демонстрация Шарко мужской истерии стала впечатляющей частью опыта, приобретенного в Сальпетриере. Так, был показан шестнадцатилетний Марсель, находившийся в больнице целый год. Смышленый, обычно веселый парень, но подверженный вспышкам ярости, во время которых крушил все, что попадалось под руку. Два года назад на него напали на улице двое, он был сбит и потерял сознание. Видимых ран у него не было, но по ночам его одолевали кошмары и приступы истерии. Как ни старались врачи, они не могли обнаружить повреждений или пороков на теле Марселя.
Тридцатидвухлетний Жильбер, золотильщик, поступил в больницу за год до этого. У него бывало в месяц четыре–пять спастических приступов. Хотя доктор Шарко не мог обнаружить серьезных нарушений, Жильбер потерял чувствительность одной стороны тела, не ощущавшей прикосновения. Пытаясь покончить с собой, он проглотил огромную дозу хлоралгидрата. Вскрытие подтвердило диагноз – истерическая эпилепсия, не было обнаружено каких–либо повреждений мозга или нервной системы.
Погода в первые недели декабря выдалась плохая: мрачное серое небо обрушивало на землю потоки дождя; затем стало так холодно, что мокрые тротуары покрылись наледью, и нужно было быть крайне осторожным при ходьбе. Холод в чужом городе казался более пронзительным, чем дома.
На первой консультации в декабре, проводившейся в понедельник, Зигмунд осознал, что это будет его последний месяц в Париже, что он может посетить на Рождество Вандсбек, задержаться на несколько дней в Берлине, а затем вернуться домой. Шарко упомянул походя, что он давно ничего не слышал о переводчике своих лекций на немецкий язык. Зигмунд подумал: «Может быть, это и есть путь к сближению с Шарко? И не позволит ли гонорар за перевод задержаться на несколько столь необходимых ему месяцев?»
За обедом он сказал доктору и мадам Рикетти:
– Мне пришла в голову идея. Сегодня господин Шарко упомянул, что давно не видел своего немецкого переводчика. Как вы думаете, не мог бы я просить у него разрешения перевести третий том его «Уроков»? Я могу объяснить, что во французском языке страдаю лишь двигательной афазией; мне не хотелось бы, чтобы он думал, будто я читаю столь же плохо, как говорю.
Мадам Рикетти ответила с материнским энтузиазмом:
– Конечно, следует попытаться.
В течение часа они составляли письмо, обсуждая ту помощь, которую окажет Зигмунд своим соотечественникам, переведя работы Шарко.
Спустя несколько дней Шарко, отведя Зигмунда в сторону, сказал:
– Я счастлив согласиться с тем, чтобы вы перевели мой третий том на немецкий; не только первую половину, которая уже опубликована на французском, но и вторую, о которой вы слышали на лекциях и которую я еще не отдал в типографию.
В тот же день Зигмунд написал письмо Дойтике, предложив ему права на немецкий вариант книг Шарко. Контракт прибыл в Париж с обратной почтой. Зигмунд принес его в кабинет профессора Шарко; вместе они прошлись по всем пунктам. Шарко вроде бы был доволен, что им интересуются издатели.
– Но я не вижу в контракте упоминаний о гонораре переводчику, господин Фрейд, – заявил он. – Он должен быть определен, не так ли?
– Да, господин Шарко, я попрошу четыреста флоринов, сто шестьдесят долларов. Это обеспечит мое существование в течение нескольких месяцев. – Он оторвал серьезный взгляд от бумаг. – И я буду иметь удовольствие вернуться после Рождества и продолжить обучение у вас.
– Хорошо. Я помогу вам с переводом. Я знаю, как трудно врачам, говорящим на немецком, согласиться с моим тезисом о мужской истерии. Работа даст вам возможность увидеть больше случаев этого странного явления. Тогда, быть может, вы сумеете убедить своих коллег в Венском университете.
5
К Рождеству наступила зима. Он купил коробку шоколада «Маркиз» для Минны, французский шарф для фрау Терке, истопницы в семье Бернейсов. В Кёльне, где поезд делает остановку, он купит флакон одеколона для фрау Бернейс. Он обещал Марте золотой браслет, все жены доцентов их носят, «дабы отличаться от жен других врачей». Но у него не было достаточно денег, чтобы купить такой браслет. В Гамбурге он нашел серебряный браслет в виде змейки. Он немедленно купил его и таким образом частично выполнил обещание.
За пять дней до Рождества, приятных и сухих, он выехал из отеля «Де ля Пэ», оставив на хранение свой ящик и чемодан у четы Рикетти, которые дали ему дорожную сумку и плед, чтобы не мерзнуть в поезде. После возвращения он займет более удобный номер в отеле «Де Брезиль», всего на расстоянии квартала от Руайе–Коллар и в нескольких шагах от бульвара Сен–Мишель.
Он жил ожиданием бесед с Мартой и Минной. После приезда в Париж единственными женщинами, с которыми он разговаривал, были мадам Рикетти и жена одного из давнишних врачей семейства Фрейд в Вене, фрау Крейслер, которая привезла в Париж своего сына Фрица в надежде сделать из него концертирующего скрипача. На улицах было много девушек, но Зигмунду они не казались такими же красивыми, как прогуливающиеся по Кертнерштрассе венские девушки.
Фрау Бернейс пригласила его остаться в доме. Зигмунд занял свободную комнату на том же этаже, где жила Марта. Он вставал рано утром и будил Марту своими поцелуями. Услышав их голоса, Минна приносила из кухни на подносе серебряный кофейник, кипяченое молоко, свежие булочки, масло и джем. После того как Марта умывалась и причесывала свои длинные волосы, она садилась в изголовье кровати, а Зигмунд и Минна усаживались в ногах, и начинались разговоры. Такое было не принято в гамбургском буржуазном обществе и осуждалось им. Однако фрау Бернейс закрывала глаза на подобное отступление от этикета, называя это «венско–парижской моральной чепухой».
Днем Марта и Зигмунд прогуливались по декабрьскому лесу, под ногами шуршали опавшие листья. Свежий воздух заставлял прятать уши под воротник пальто; в дождливые дни они читали вслух у камина, а в солнечные выезжали в Гамбург и сливались с праздничной толпой.
Накануне Рождества Марта, подавая ему в пять часов кофе и кулич с изюмом, миндалем и маслом, тихо спросила:
– Как долго теперь, Зиги? Какие у тебя планы?
Он вытянул ноги к огню, удовлетворенно отдыхая после пробежки, когда спасались от грозы, и внимательно всматривался в лицо Марты, наливавшей ему дымящийся кофе. Марте было уже двадцать четыре с половиной; прошло три с половиной года, как она дала согласие ждать его. За это время она превратилась из робко вступающей в жизнь девочки в молодую женщину. Ее глаза стали крупнее и выразительнее, овал лица – уже, а волосы зачесаны более строго. Он потянулся к ней и поцеловал ее в губы. Она обняла его за шею и ответила страстным поцелуем.
– Как скоро, Марта? Раскрою свои планы. Я проведу еще два месяца у Шарко; хотелось бы поработать возможно больше над проблемой истерии и тем временем завершить перевод «Уроков». После этого я проведу месяц в Берлине, в приюте, посмотрю, как там лечат истерию, а также в больнице Кайзера Фридриха, чтобы понаблюдать за лечением детских неврологических болезней. После этого вернусь в Вену, представлю отчет о поездке, открою свой первый кабинет и приму предложение Кас–совица учредить детское неврологическое отделение в Первом публичном институте детских болезней… Институт ничего не платит, но он предоставит мне материал для исследований и публикаций. Другое преимущество кроется в репутации специалиста. Я постараюсь повысить возможно быстрее свои доходы до сотни долларов в месяц, что требуется для содержания семьи и конторы.
– Сколько времени это займет, Зиги?
– Может быть, до конца следующего года, самое позднее – до весны. В конечном счете практика врача зависит от его умения; первые шаги предопределяют успех. Это такая же большая игра, как скачки в Пратере.
Марта села на пол, положив свою руку на его колено. Она подняла на него свои задумчивые глаза и сказала:
– Я подпадаю под категорию Мильтона: «И те служат, что стоят и ждут». Зиги, ты как–то сказал, что когда молоды, то безрассудны, а безумство в среднем возрасте скорее акт отчаяния, чем веры. Я не боюсь игры. Полагаю, что ты заработаешь эти тысячу двести долларов в год быстрее, если будешь женатым, а не холостяком.
Он повернул серебряную змейку на ее запястье, но промолчал. Утром в день Рождества Минна попросила Зигмунда прогуляться с ней. Они пошли в небольшой парк, расположенный на Штейнпитцвег, по другую сторону улицы от дома семейства Бернейс. В церкви было много верующих. Остальная часть пустующего парка с деревьями, сбросившими листву, была покрыта снегом.
– Зиг, я не получила ни слова от Игнаца, с тех пор как ты его видел прошлым летом. Мое сердце разрывается от того, что все это время я вдали от него, а он нуждается во мне…
– Минна, болезнь Игнаца разрушила его мозг и его волю раньше, чем тело. Поэтому он разорвал помолвку с тобой, он слишком истощен, чтобы думать о любви.
– Но вряд ли он так болен, если в Бадене он ходил с тобой в театр, курил сигару и был счастлив?
– Такова природа болезни. Когда больной туберкулезом, находясь в больнице, говорит нам, что хочет завтра отправиться домой, потому что хорошо себя чувствует, мы знаем, что на следующий день в это время он умрет.
– Что же, Игнац должен умереть?
– Я не был удовлетворен своим собственным осмотром. Его обследовал через пару дней доктор Мюллер из Бадена. Ты должна быть готова, Минна: известие о смерти Игнаца может прийти со дня на день.
Минна отвернулась, пряча свои слезы. Он положил руку на ее плечо, чтобы успокоить:
– Минна, ты молода, тебе всего двадцать. Судьба нанесла вам, тебе и Игнацу, тяжелый удар. Тебе было бы легче, если бы вы были вместе до конца, тогда ты скорбела бы только о его смерти. – Он повернул ее к себе и поцеловал уголки глаз, смывая слезы. – Моя дорогая сестренка, у тебя долгая жизнь. Придет другая любовь. Когда Марта и я поженимся, ты приедешь к нам в Вену и присоединишься к нашему семейному кругу.
Она постояла в его объятиях, возвышаясь над ним и склонив голову к его плечу, потом вздрогнула и, решительно выпрямившись, сказала:
– Пошли. Марта обещала, что приготовит глинтвейн с корицей. Он согреет наши души.
6
Гостиница «Де Брезиль» была куда более роскошной, чем отель «Де ля Пэ». Окно его номера выходило на улицу Гоф. Комната была, пожалуй, больше прежней, а потолки выше, кровать, стол, прислоненный к одной стене, и бюро – к другой, лучшего качества. На полу лежал ковер, окно украшали красные бархатные гардины, за занавеской в укромном углу – биде и умывальник. Зеркало напротив его кровати оказалось сомнительного качества. Когда он проснулся в первое утро, то почувствовал себя совсем одиноким в меблированной комнате на том же этаже, как в Вандсбеке, без невесты, которую он мог разбудить своим поцелуем.
«Я не подающий надежд филистимлянин, – подумал он, глядя на свои темные глаза, взъерошенные после сна волосы, – при всех экзотических и романтических авантюрах, доступных свободному и отважному молодому человеку, я мечтаю лишь о Марте, свадьбе, домашнем очаге, детях и жизни в трудах праведных».
Первый день нового года он был занят переводом книги Шарко. Это было приятное занятие, ибо, читая строки, написанные Шарко, он как бы слышал голос профессора, беседующего с аудиторией. Позже в этот вечер он написал своим родителям и друзьям в Вену – Брейерам, Пакетам, Флейшлю, Коллеру, пожелав им счастливого нового 1886 года и сделав приписку: «Пью за ваше здоровье». Единственным осложнением было то, что у него нечего было выпить, кроме воды из кувшина: было грустно поднимать стакан воды в знак символического привета.
Он вернулся в Сальпетриер на следующий день, чтобы заняться исследованием невроза, известного под названием «железнодорожный позвоночник», или «железнодорожный мозг»[7]7
Сам 3. Фрейд называл такие неврозы, вызванные железнодорожными и иными катастрофами, травматическими (Фрейд 3. «Я» и «Он». Кн. 1. Тбилиси, 1991. С. 143).
[Закрыть], такое название было предложено Пейджем в Англии. Вследствие роста сети железных дорог в Англии, Европе и Америке стали довольно частыми несчастные случаи, вызывавшие новые нервные заболевания. Пять французских врачей написали работу на эту тему. Патнэм и Уолтон в Америке, подобно Пейджу в Англии, документально доказали, что частые случаи «железнодорожного позвоночника» были всего–навсего проявлением истерии.
В Сальпетриер поступили девять травмированных пассажиров. Изучив их симптомы, Зигмунд понял, что несколько случаев, которыми он занимался в Городской больнице в Вене, относились к этому же виду заболеваний. Он следил за выздоровлением пациентов после решения суда о выплате им компенсаций. Шарко подчеркнуто заявил группе врачей:
– Эти серьезные и упорно сохраняющиеся нервные состояния после столкновений, делающие их жертвы неработоспособными, зачастую являются истерией, и только истерией. Но будьте осторожны, порой они могут быть проявлением вымогательства или обмана.
Зигмунд ходил по палатам, обследуя формы истерии. У восемнадцатилетнего каменщика по имени Пинан, упавшего с двухметровых лесов и получившего лишь легкие травмы, через три недели наступил полный паралич левой руки. Спустя десять месяцев его доставили в Саль–петриер. Обследование показало сильнейшую пульсацию артерии на шее при полной кожной анестезии, сделавшей руку нечувствительной к холоду, уколам, электрическому шоку. Его рука стала инертной и вялой, правда, без признаков атрофии. Не было также признаков повреждения позвоночника, и двигательный паралич руки не сопровождался соответствующими явлениями на лице. Истериогенные зоны были обнаружены под левой грудью и на правой мошонке. Когда нажимали на эти зоны, Пинан терял сознание и наступал приступ истероэпилепсии буйного характера. Он кусал свою левую руку, выкрикивал оскорбления, призывал воображаемых людей к убийству:
– Держи! Вынимай нож! Быстро… бей!
В последующие дни было несколько приступов, во время одного из них левая рука пациента вдруг стала подвижной. Когда он очнулся, то обнаружилось, что он способен двигать рукой и плечом, которые были неподвижны десять месяцев. По всем данным, он излечился.
– От чего, господа? – спрашивал Шарко. – Симулировал ли Пинан? Или не симулировал? Каким же образом в таком случае его рука после почти десяти месяцев предполагаемого паралича оказалась почти нормальной? Упражнялся ли он в темноте, когда никто его не видел? Возможно. Таковы загадки, которые нам еще предстоит разгадать. Однако факт, что это не случай моноплегии руки, а явная истерия, и вы видели доказательства.
Примерно в это же время пациент Порз, упавший с сиденья своего экипажа, что привело в конечном счете к параличу правой руки, ввязался в яростный спор с другим пациентом во время игры в домино. Он настолько разъярился, что вскочил на ноги и принялся угрожать своему противнику. Парализованная до этого рука вновь обрела подвижность. Через несколько часов ему пришлось сложить свои пожитки и покинуть больницу. Зигмунд находился в кабинете Шарко вместе с Мари и Бабински, когда Шарко выписывал из больницы Порза.
– Вы были правы, господин Шарко, – пробормотал Зигмунд, – пациент никогда не был парализован.
– Ах, а он таки был, – ответил задумчиво Шарко. – Может быть, по причине небольшого расстройства нервной системы, вызванного травмой при падении? Он сам вылечил это расстройство другой травмой, приливом ярости столь сильным, что он стал угрожать обеими руками противнику.
– Господин Шарко, – спросил встревоженный Зигмунд, – не оказываемся ли мы скорее в области душевных, а не физических травм? Не было ли заболевание Порза надуманным?
– Нет, нет, – резко парировал Шарко. – Психология не является частью медицинской науки. Истерический паралич Порза был соматическим, вызванным нарушением коры головного мозга, в основном сосредоточенным в двигательной зоне и не носящим характер крупного органического изменения. Мы гипотетически предполагаем его существование, чтобы объяснить развитие и наличие различных симптомов истерии.
– Мы предполагаем гипотетически! Господин Шарко, не есть ли это своеобразный способ сказать, что мы не знаем?
Шарко вежливо ответил:
– Справедливо, господин Фрейд, но не выносите такое соображение за рамки медицинской профессии.
Когда Шарко ушел, Зигмунд повернулся к шефу клиники.
– Господин Мари, доводилось ли вам когда–нибудь вскрывать истерического паралитика, умершего по иным, чем истерия, причинам, такого, у которого по «гипотетическому предположению» имелось поражение ткани?
– Нескольких.
– Обнаружили ли вы поражение ткани?
– Нет.
– Почему нет?
– Поражение исчезало в момент смерти. Зигмунд поднял руки в отчаянии.
– Почему некоторые после сравнительно легких несчастных случаев становятся истерическими паралитиками, тогда как другие избавлены от этого?
Доктор Мари стоял, молча уставившись на него, а затем произнес:
– Врожденная слабость нервной системы.
Зигмунду стало известно, что профессор Шарко намеревается провести одну из своих ставших нечастыми демонстраций большой истерии. Подобные демонстрации гипноза были популярными в Париже, но он не ожидал такой толпы, валом валившей через вход и заполнившей ряды амфитеатра: модно одетые женщины из высшего света; бывшие придворные; завсегдатаи бульваров в высоких серых цилиндрах и с тросточками; артисты из «Комеди франсез»; журналисты, художники и скульпторы с альбомами для зарисовок – все они оживленно обменивались репликами со сдержанным возбуждением, какое замечал Зигмунд во французских театрах перед тремя ударами, возвещавшими начало спектакля.
Шарко, серьезно исследовавший мужскую истерию как расстройство нервной системы, а не симуляцию, столь же ответственно практиковал в начальные годы своей медицинской деятельности гипнотизм, называя его «искусственно вызванным неврозом, которому подвержены лишь истерики», и сделал ряд клинических открытий. В Вене доктор Антон Месмер, окончивший Венскую клиническую школу более чем за сто лет до того, как поступил в нее Зигмунд, добился богатства, славы и влияния благодаря сеансам своего гипнотического «животного магнетизма». Затем австрийские власти заставили его прекратить такие сеансы, а позднее он, обвиненный в шарлатанстве, сбежал в Париж. Жан–Мартен Шарко вернул респектабельность гипнозу, хотя в Сальпетриере он лишь установил определенные категории гипноза и выявил его природу; в отличие от Йозефа Брейера в случае с Бертой Паппенгейм он не применял внушение под гипнозом как метод лечения.
Четыре привлекательные молодые пациентки ожидали в соседней комнате. Ассистенты Шарко под руководством доктора Бабински по очереди гипнотизировали их, сажая в центре сцены и помещая перед их глазами блестящий металлический предмет или стеклянный шар. Девушки быстро впадали в полудрему. Ассистенты проводили предварительные эксперименты; Шарко должен был появиться позже, чтобы показать три стадии большой истерии.
Первой пациентке сказали, что перчатка, брошенная к ее ногам ассистентом, – змея. Она ужасно завопила, задрала юбку до колен и отпрянула назад. Убрали перчатку, и молодая женщина сказала, что она вновь счастлива. Она широко улыбнулась, а затем захихикала. Второй пациентке дали бутылку с раствором аммиака и сказали, что это душистая розовая вода. Она с большим удовольствием вдыхала аммиак. Затем убрали бутылку и сказали женщине, что она в церкви и должна молиться. Она опустилась на колени, сложила руки и прочитала молитву. Третьей пациентке дали древесный уголь и сказали, что это шоколад. Она откусывала кусочки и смаковала их. Четвертой молодой женщине было объявлено, что она собака; она встала на четвереньки и принялась лаять. Ей приказали встать и сказали, что она превратилась в голубя. Женщина стала энергично размахивать руками, пытаясь взлететь.
Первая часть демонстрации завершилась. Зигмунд повернулся на стуле, услышав сзади одобрительный шепот. Он выпрямился вовремя, чтобы увидеть Шарко, поднявшегося из кресла, которое стояло сбоку сцены. Сегодня он выглядел моложаво – гладко выбритый, постриженный по последней моде. Он был в изысканном черном сюртуке, модной сорочке и модном галстуке, на ногах поблескивали черные ботинки.
Ввели пациентку, приятную брюнетку с собранным назад шиньоном, в легком лифе, свободно спадавшем на грудь. Ее сопровождали две медицинские сестры.
Амфитеатр замолк, когда Шарко начал пояснять, что гипнотизм – это искусственно вызванный невроз, который свойствен лицам с повышенной чувствительностью и неуравновешенным, что он первый из неврологов, который изучил, проследил его развитие и разработал научную теорию, описывающую его многочисленные стадии. Около Шарко стояли его верные помощники – Бабински и Рише. Доктора Мари не было. Ассистент внушил девушке первую стадию гипноза – ввел ее в дрему. Шарко рассказал о соотношении между дремой и подлинным сном, высказал свои суждения о различиях между ними. Затем с помощью яркого луча, направленного на глаза пациентки, он продемонстрировал вторую стадию гипноза – каталепсию. Ее руки и ноги перестали гнуться, потеряли чувствительность даже к уколам булавки, кожа побледнела, а дыхание замедлилось. Шарко привлек внимание к физическому состоянию тела, показав то, что стало известным как «иконография Сальпетриера». Он мог заставить девушку принять любую паралитическую позу: со скрюченными руками, ногами, спиной, шеей и даже выгнуться дугой – наклониться назад с закрытыми глазами настолько сильно, что любой человек давно бы упал.
Затем Шарко вывел пациентку из каталепсии и ввел в третью стадию гипноза – стадию расслабленного сна. Когда она вышла из этого состояния, то были налицо признаки летаргии, а признаков паралитического состояния не наблюдалось. Она бегло отвечала на вопросы. Зигмунд внутренне понимал, что в ходе демонстрации Шарко воздерживался давать толкование явления. Чем оно вызвано? Были ли действия под гипнозом исключительно физическими? Сохраняло ли тело контроль над собой, принимая такие изуродованные, гротескные позы? Или же Шарко пробуждал какие–то иные силы в пациентах, склонных к истерии?
Аудитория наградила Шарко громом аплодисментов. Он поклонился налево, направо, надел цилиндр и исчез в дверях.
Зигмунд возвращался вместе с врачом из Скандинавии, которого он видел на нескольких лекциях во вторник. Он не расслышал его имени и был слишком смущен, чтобы попросить высокого голубоглазого блондина повторить имя по складам. Он видел, что лицо врача, возвышавшегося над ним, было возбужденным, а. глаза метали искры. Он повернулся к Зигмунду и сказал с обжигающей резкостью:
– Это обман! Театральное представление! Девушки так часто исполняли эти сцены, что могут повторить их во сне. Пройдите в любое время в палату, скажите им, что делать, и они повторят показанное перед вами.
Зигмунд был ошеломлен:
– …Но… вы предполагаете… не может быть, чтобы вы обвиняли профессора Шарко в подлоге?…
Врач ответил жестко:
– Конечно нет. Это его ассистенты. Они натаскали девиц, как муштруют балерин. Девицы знают, что от них требуется, они любят аудиторию, их опекают и балуют, потому они исполняют то, что нужно Шарко. Это не гипнотизм. Да и девицы эти не истерички. Их просто используют. Я только что приехал из Нанси, где несколько недель обучался у Льебо и Бернгейма. Вот они истинные гипнотизеры! За их спиной тысячи случаев. Я наблюдал сотни случаев, когда путем внушения ослаблялись симптомы, болезнь ставилась под контроль. Шарко отказался применять внушение под гипнозом в качестве лечебного инструмента, считая это частью неврологии, приемлемой для демонстрации большой истерии. Доктора Бернгейм и Льебо – честные люди. Когда–нибудь вы поймете, сколь опасны такие демонстрации для медицинской профессии и для репутации Шарко.
Зигмунд сказал вполголоса, чтобы не слышали идущие толпой к бульвару де Л'Опиталь:
– Но Шарко – создатель современной неврологии! Врач несколько успокоился и сказал более ровным тоном:
– Он больше, чем кто–либо иной со времен Гиппократа, раскрыл миру функции различных частей тела, а также центральной нервной системы. А то, о чем мы говорим, – его страшная ошибка.
– Говорили ли вы об этом Шарко?
– Однажды я упомянул Шарко о докторе Бернгейме. Он пришел в ярость и запретил мне вообще когда–либо упоминать это имя в Сальпетриере. Но поверьте мне, школа Нанси права в вопросах использования гипноза, а школа Сальпетриера глубоко заблуждается.
Спустя несколько дней Зигмунд узнал, что молодой врач–диссидент попал в беду. Он встретился со смазливой деревенской девчонкой, приехавшей в Париж, поступившей на работу в кухню Сальпетриера и оказавшейся прекрасным объектом для гипноза. Она находилась в одной из палат. Врач загипнотизировал девицу, внушил ей мысль ускользнуть из больницы и прийти к нему.
– Всякий поймет, для какой цели! – сказал доктор Бабински Зигмунду.
Девушку перехватили, когда она выходила из палаты, и она рассказала, что приказал ей сделать скандинав. Шарко вызвал его в свой кабинет, обвинил в гнусном преступлении против невинной жертвы и выставил из больницы. Лишь только потому, что не хотел наносить ущерб репутации Сальпетриера, он не передал этого врача полиции!






