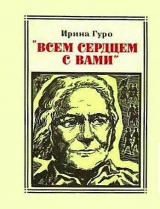
Текст книги ""Всем сердцем с вами". Клара Цеткин"
Автор книги: Ирина Гуро
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
«Отцы города» числятся в социал-демократической партии, но не помышляют ни о какой борьбе с капиталом… А есть и другой мир – пролетарских кварталов. Клара работает в профсоюзах: у печатников, деревообделочников, швейников. Она сблизилась со многими рабочими семьями. И с радостью встретилась со старым другом Паулем Тагером.
В маленький домик Тагеров и пришла перво-наперво Клара с новостью: ей предложили стать редактором газеты для женщин. Газета носила программное название «Равенство».
– В общем-то «Равенство» до сих пор довольно серенькое издание. Оно вносит в рабочий дом политические новости в достаточно причесанном виде. И огромное количество полезных, по преимуществу хозяйственных советов, – думала вслух Клара.
– По правде, – сказал Пауль, попыхивая трубкой с длинным чубуком, – я не знаю, на месте ли вы будете в этой газете, где помещаются на главном месте инструкции по засолке огурцов.
Клара решает: она произведет основательную перетасовку в редакции…
Клара стала редактором «Равенства». Девятого января 1892 года редакция «Равенства» обращалась к читателю:
«Редакция просит всех друзей женского рабочего движения способствовать распространению нашей газеты, которая всегда будет активной помощницей женщин-работниц в их борьбе».
Итак, «Равенство» – газета для немецких работниц. Но надо, чтобы и мужчины заглядывали в нее… Очень скоро им приходится поневоле это делать, когда газета начинает кампанию против мужей-рабочих, не желающих, чтобы их жены, а тем более дочери ходили на собрания, читали политическую литературу… В то же время газета дает бой и феминизму.
Феминистки – дамы из буржуазной интеллигенции – ратовали за равноправие женщин в рамках буржуазного общества, не помышляя о его низвержении. Они снискали себе славу истерическими выступлениями и слыли опасными фуриями, вооруженными длинными булавками для шляп…
Феминистки усиленно вербовали сторонниц среди трудящихся женщин. «Равенство» разоблачало болтовню о «великом сестринстве», о единстве интересов буржуазной дамы и работницы.
Газета занималась не только политикой. В ней нашлось место и художественно-литературным произведениям: рассказам и стихам первоклассных авторов, выпускались специальные страницы для детей.
Штутгарт того времени еще не был тем бойким промышленным городом, каким стал много лет спустя. Живописный городок со множеством готических зданий уютно расположился в долине светлого Неккара, неоднократно воспетого поэтами: «У Неккара, у Неккара, где так светла вода, там в солнечном сиянии купается земля…»
«Отцы города», принадлежавшие к верхушке социал-демократической организации Штутгарта, хотели спокойно жить у светлой воды и «купаться в солнечном сиянии».
Они имели к тому возможности. Среди них были владелец швейной фабрики, староста печатного цеха, монополист-кондитер. Ресторатор Кунде считался в этой компании уже чистым бедняком: у него было всего пять пивных и один ресторан…
Все это были люди пожилые, усатые, толстые; они носили высокие воротнички и закручивали усы «а-ля Вильгельм»…
То обстоятельство, что именно в их городе родился великий Гегель, склоняло их к философии. И когда они с важным видом сидели за сдвинутыми столиками, уставленными пивными кружками, и обменивались мнениями, им казалось, что сам Георг Вильгельм Фридрих Гегель сидит среди них – с длинными волосами по плечам и тонкой шеей в белом платке.
Все эти господа в свое время отлично приспособились к закону против социалистов и не имели от него никаких неприятностей. Они спокойно взирали на бесчеловечные условия жизни рабочих и аресты революционеров.
В соответствующие даты они посылали поздравления коронованным особам, обстоятельно обсуждая их текст и соревнуясь в верноподданнических чувствах. Они жили спокойно и хотели так жить дальше. Клара свалилась на них как снег на голову.
Агитатор – женщина! Редактор газеты, к тому же незаурядный деятель: первая женщина, выступавшая на Международном форуме по женскому вопросу! Они почесали затылки и туже закрутили кончики усов. Охотник Куурпат, слывший трезвым реалистом, сказал, что это знамение времени.
Клара вошла в жизнь штутгартских пролетариев, объединенных многочисленными профсоюзами.
Она выступала на больших рабочих собраниях. Ее полюбили за решительные и прямые высказывания. За отличный образный язык, за беспощадные и остроумные разоблачения противников. И даже за присущую ей манеру запросто обращаться к любому из слушателей. Ее популярность росла, и отцы города в конце концов признали Клару Цеткин энергичной и деловой женщиной и, немного побаиваясь ее бескомпромиссности, отчасти даже гордились ею, решив, что она «внесла в мирный Штутгарт веяния века, пропитавшись ими в Париже».
Они пригласили Клару вместе сфотографироваться. Клара надела модную шляпу с целым цветником на ней и, посмеиваясь, села в середине. Четыре усача расположились по обе стороны. Пятый улегся на ковер у их ног.
– Для живописности, – заметила Клара. Никто не улыбнулся.
– Господин Фохт! Вы выглядите очень торжественно! Почти так же, как на том снимке, где вы подписываете приветствие Бисмарку!
Она это тоже знает?
Действительно, они послали приветствие канцлеру в день его рождения. Все посылали. Почему же им надо отделяться от всех?
– Фрау Цеткин считает, что раз мы социал-демократы, то должны отделяться от всех? – спрашивает Фохт уже вслух и видит, что Кунде подает Кларе пальто, а сам даже побледнел: предвидит с ее стороны какую-нибудь ядовитую шутку.
– Нет, почему же, – отвечает Клара спокойно, – я считаю, что мы не должны отделяться от рабочих масс, которые и не помышляют о приветствии канцлеру… бывшему канцлеру!
И добавляет, поднимая воротник своего легкого парижского пальто:
– А если бы они и написали ему, то там были бы совсем другие слова, чем в вашем послании! До свидания, господин Фохт! Счастливо оставаться, господин Кунде!
Через несколько минут она в юмористических тонах рассказывает об этой сцене друзьям.
В квартире Тагеров собрались товарищи. Здесь, кроме хозяев, профсоюзный деятель Курт Рааб, получивший прозвище Лютый за свои резкие выступления против хозяев. Он еще молод. Когда он не на трибуне и не в центре спорщиков, это тишайший человек. Даже стеснительный. Его маленькая жена Мария, работница перчаточной мастерской, наоборот, бойка за столом и робеет, если ей приходится сказать на собрании всего только три слова: «Товарищи, не курите!»
Собравшиеся обсуждают конфликт с хозяином швейной фабрики.
– Владельцы отвергли требования рабочих упорядочить расценки. Надо их принудить, – полагает Клара, – забастовкой!
– Я того же мнения, – Пауль всегда поддерживает Клару.
Курт Рааб задумчиво грызет ноготь.
– Да что, в конце концов, тебя смущает, Курт? – с досадой спрашивает Пауль.
– Лично меня ничего! Но хозяин наш, господин Фохт, такой же социал-демократ, как мы с вами…
– Нет, вовсе не такой! – возражает Клара. – Я против того, чтобы подлые дела прикрывались именем партии!
– Абсолютно согласен. – Курт ерошит свою шевелюру. – Фохт покрывает приставания мастеров к молодым работницам, Некоторые мастера завели себе прямо-таки гаремы.
– Призови этого Фохта вместе с его мастерами к порядку, Клара! Через «Равенство»! – горячо воскликнула Эмма – жена Пауля. – Нельзя же замалчивать такие вещи!
Они засиделись допоздна, обдумывая план выступления в газете.
Клара приняла приглашение лейпцигских товарищей. Она выступит на больших собраниях рабочих и интеллигенции в зале «Пантеон» и в новом профсоюзном клубе.
Поезд проносил ее мимо весенних полей, мимо аккуратных поселков, и она отмечала все перемены в знакомых ландшафтах: выросшие на берегах реки фабричные корпуса, частую сеть подъездных путей, густые дымы множества труб, вышки торфяных разработок, броские рекламы торговых домов, акционерных обществ, компаний…
Несколько лет назад, когда Клара уже была опытным партийным работником, она все никак не могла преодолеть робость перед публичным выступлением даже в самой привычной ей среде. Ну что поделаешь, душа у нее уходила в пятки, едва она представляла себя на трибуне…
Осип когда-то подсмеивался над ней:
– Ты пропагандируешь женское равноправие, а трибуну уступаешь мужчине. Неужели ты не можешь высказать на людях то, что так хорошо знаешь?
Первое выступление Клары состоялось в Зелерхаузене во времена «Исключительного закона». Собрание было нелегальным.
Полиция узнала о его подготовке.
Но в скромной молодой женщине, типичной домохозяйке, как бы невзначай заглянувшей в трактирчик «Золотая долина», было трудно заподозрить злокозненную агитаторшу.
За столиками сидели рабочие окрестных фабрик, завсегдатаи трактирчика, они пили пиво, курили, толковали о своих делах или играли в карты. На этот раз многие привели с собой жен. Они понимали, что нужна немалая отвага, чтобы в такое время произносить противоправительственные речи. Да и все собравшиеся вполне могли очутиться под арестом: «Исключительный закон» действовал точно и неумолимо. Поэтому дозорные охраняли вход, чтобы собрание могло мгновенно превратиться в безобидное празднование какого-нибудь местного события: юбилея пожарной команды или городской бани.
Клара запомнила этот вечер, доброжелательные лица слушателей и то теплое, как бы родственное отношение к ней, к ее несмелости, искреннее внимание к ее рассказу о человеческих судьбах, о положении рабочих в бисмарковской Германии. О том, что они, в сущности, сами знали из своего жизненного опыта, но над чем не задумывались, считая это неизбежным злом жизни.
Клара запомнила зеленые ставни на окнах, герани на подоконниках, тускловатый фонарь у входа. Тишину собрания, сначала смутившую ее, а затем подбодрившую. И даже гудки паровоза, который тащил тяжелый состав совсем близко…
И теперь в поезде, приближавшем ее к родным местам, Клара с некоторой гордостью думала, что за ее плечами уже многое, отделяющее ее от вечера в «Золотой долине».
Разве можно забыть тот день, когда она поднялась на трибуну конгресса?
Она была тогда во власти горя. Но именно память о муже поддерживала ее.
Наступала бурная пора – лето 1889 года. Учредительный конгресс Второго Интернационала открывался в Париже четырнадцатого июля, в день народного праздника в этом году особенно знаменательного, потому что исполнялось сто лет со дня взятия Бастилии.
Уже не было в живых Маркса, не мог приехать на конгресс Энгельс, но он руководил его подготовкой. Он требовал от Лафарга как главы партии полного размежевания с оппортунистами.
Энгельс заметил боевые статьи и выступления Клары Цеткин. Энгельс написал Лафаргу, что находит превосходной статью Цеткин в «Берлинертрибюне».
В этом же году вышла брошюра Клары «Работницы и женский вопрос сегодня». Она вышла в серии «Берлинская рабочая библиотека» в издательстве «Берлинер фолькстрибюне». Скромная брошюра, стоившая всего двадцать пфеннигов, чтобы каждая работница могла ее купить, – первая книга Клары. Ее замысел она обсуждала со своим мужем: она особенно дорога была Кларе.
Клара говорила на конгрессе о женском движении.
Впервые на трибуну поднялась женщина с призывом бороться рядом с мужчинами за идеалы социализма.
На конгрессе Клара снова встретилась со своими учителями, чье слово так много значило для нее: Августом Бебелем и Вильгельмом Либкнехтом.
…Поезд подходит к платформе. Что происходит здесь? Почему так много народу? И цветов? Можно подумать, что этим поездом прибывает имперский министр или сам кайзер!
Но Клара видит, что в толпе больше всего рабочих и работниц. Хотя все они одеты по-праздничному, она распознает их.
Буржуа разных стран вовсе непохожи друг на друга. А рабочие и работницы всюду имеют нечто общее.
Теперь она видит, что над толпой на перроне реет красное полотнище, она различает знакомые слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Да здравствует Социал-демократическая партия Германии!»
Поезд останавливается, и разом открываются двери всех купе. Клара еще стоит на ступеньках, когда толпа окружает ее. Ей протягивают цветы, она оказывается в кольце улыбающихся и громко приветствующих ее незнакомых людей. Какой-то пожилой здоровяк, чья голова возвышается надо всеми, басовито кричит: «Да здравствует наша Клара!» Растерянная, отвечает Клара на приветствия. Она растрогана почти до слез.
Она еще не знает, что станет «нашей Кларой» для многих поколений рабочих. Не знает, что будет с честью носить это имя много-много лет.
В глазах пестрит от реклам. Их слишком много. Они слишком ярки для старого города. И слишком назойливы: «Спешите покупать!», «Скорее!», «Только у нас!», «Лучшие в мире!»
«Новый, лучший в городе ресторан!» – самонадеянно вещает реклама. С удивлением Клара читает вывеску: «У павлина». Да, над башенкой здания медленно поворачивается на ветру павлин с распущенным хвостом.
– Сюда переехал «Павлин»? – удивляется Клара.
– Нет, ресторатор Кляйнфет открыл здесь филиал. У него еще несколько заведений. И старый «Павлин» уже совсем не та уютная харчевня, которую до сих пор вспоминает мой отец. Там теперь собираются «сливки общества».
«Его отец!.. Да, товарищ Курт молод, ему не более двадцати пяти».
– Значит, Гейнц Кляйнфет процветает?
– О да, товарищ Клара. С тех пор как он женился на дочке мукомола Шманке, его состояние удвоилось, Как и он сам: Гейнц едва пролезает в дверь. И наши остряки утверждают, что магистрат постановил выкинуть первый слог его фамилии[6]6
Кляйн – малый, фет – жирный (нем.).
[Закрыть].
Клара печально улыбается.
– Он всегда был не прочь поесть, – говорит она. – Когда-то мы были дружны.
Курт смотрит удивленно на Цеткин: что общего может быть между обрюзгшим бюргером и подтянутой, энергичной партийной деятельницей, «нашей Кларой»?
Ему трудно понять, какие чувства бушуют в ней, когда они проезжают мимо Иоганнапарка, еще более разросшегося, так, что даже не виден горбатый мостик. Тот самый мостик… А там, за углом, совсем недалеко, серый дом на Мошелесштрассе…
– Плавают еще лебеди на озере в парке? – вдруг спрашивает она.
– Озеро сейчас осушено, там работают землечерпалки: углубляют дно.
Клара не знает, что любимый ею парк будет носить ее имя…
– Это самый приличный отель у нас, – говорит Курт.
Господи! Теперь это «отель», а когда-то, если она не ошибается, на месте этого шикарного подъезда была просто-напросто коновязь…
– «Астория», конечно, роскошнее, – продолжает Курт, – но мы бойкотируем ее: Гашке, владелец «Астории», – нещадный эксплуататор, на его кожевенной фабрике творятся такие безобразия…
– Как? Лео Гашке жив? – удивляется Клара. – Он еще в мои школьные годы был развалиной.
– Нет, Лео Гашке умер. Но его наследник превзошел отца.
Боже мой! Его наследник! Это Густав Гашке, он посещал их кружок и лучше всех читал Гейне…
– Впрочем, это не мешает ему быть членом партии. И с этим у нас мирятся! – негодующе говорит Курт.
Вечером Клара выступала в ресторане на Дрезденер-штрассе. Здесь когда-то она впервые слышала страстную речь Августа Бебеля.
Проходя мимо зеркала, Клара оглядывает себя: пожалуй, те, кто знал ее когда-то, могут и не узнать. Постарела? Впрочем, короткая стрижка молодит ее. Ее платье с вышивкой на закрытом вороте и на плече, со сборками и буфами на рукавах – дань моде. Клара терпеть не может «синих чулков» – этих дам, которые считают, что первый шаг к женскому равноправию – мятый костюм и растрепанная прическа.
Да, теперь стало модно болтать о женском равноправии. Никто уже не печатает карикатур на женщин – зубных врачей, усаживающихся на колени пациента, чтобы вырвать ему зуб. Или на женщину-кассира, застрявшую в окошечке кассы из-за своей непомерно большой шляпы.
Как всегда, Клара пользуется богатым материалом, который дают ей письма читательниц «Равенства». Ее слова заставляют кое-кого в зале поежиться, словно от холодного колючего ветерка: похоже, что времена сильно переменились, если такие слова произносятся под сводами «Пантеона»! Речь идет – увы! – не о каких-нибудь культурных, просветительных мероприятиях, чего можно было бы ожидать от такой образованной дамы, как Эйснер-Цеткин, не о «приличных» реформах, а о новом обществе! Новом строе! «…Полную свободу женщине даст только пролетарская революция!» – говорит она.
Впрочем, многие из присутствующих относятся к этим идеям как к пророчествам об остывании солнца: «Когда еще это будет! До тех пор наука что-нибудь придумает». Гораздо опаснее для них призывы к борьбе рабочих за этот строй уже сейчас. Каждый день стачки – черт побери! – это баснословные убытки! А именно в этом, в призыве к активной, бескомпромиссной борьбе, пафос выступления этой женщины! И как угрожающе то что массы – массы! – женщин могут присоединиться к борющимся пролетариям! О, это реальная угроза!
Когда Клара кончает, ей аплодируют все. Никто не хочет прослыть отсталым. «Нежелательно, чтобы она выступила перед моими рабочими. Пусть лучше где-нибудь в другом месте», – думают многие.
– Фрау Цеткин, вас ожидает молодой офицер, – сообщил портье, подавая Кларе ключ от номера.
Офицер! Военнослужащие не имеют права посещать политические собрания. Значит, он не мог быть в «Пантеоне»…
– Попросите его пройти в ресторан…
В ресторане она усаживается за столиком у окна.
К ней подходит молодой человек в новеньком мундире. И сам весь словно бы новый: тщательно приглаженные бронзового цвета волосы ярко блестят, пробор в них безупречен. Офицер сдвигает каблуки, держа новенькую фуражку на сгибе локтя левой руки.
– Вольно, – шутливо командует Клара. – Вы, молодой человек, кажется, приняли меня за фельдмаршала?
– Никак нет, фройляйн Эйснер!
– Боже мой, Нойфиг. Георг… или Уве?
– С вашего разрешения, Уве.
Теперь, когда он улыбается, показывая неровные зубы, она окончательно узнает его:
– Садись, Уве! Каким образом ты уже офицер?
– Мне двадцать четыре, фройляйн Эйснер, виноват, фрау Цеткин.
– Вот как! Значит, ты служишь кайзеру в рядах…
– Тяжелая артиллерия, фрау Цеткин. За ней будущее.
– А кроме артиллерии, ты ничего не видишь в будущем, Уве?
Он молчит, принимая ее вопрос за шутку.
– Как отец, Уве?
– Отец скончался год назад. Да, фрау Цеткин. Очень, очень печально.
– Твой отец был деятельным человеком. А где Георг?
– О, Георг уехал чуть ли не с похорон! Даже не дождавшись, пока войдет в силу завещание. Он потом уже написал мне, что отказывается от владения фабрикой.
– Жестяная посуда?
– Видите ли, фрау Цеткин, сегодня это посуда, а завтра что-нибудь другое: Германия должна вооружаться!
– Ну а Георг тоже помогает Германии вооружаться?
– Нет, он просил выделить его денежную часть наследства, чтобы закончить образование в Мюнхене. Но так его и не закончил.
– Чему же он учился?
– Ах, фрау Цеткин, боюсь, что брат всегда будет неудачником! Он учился живописи! Но, на мой вкус, в его картинах мало толку. В них смещены все пропорции. Клянусь вам, я видел на братнином холсте духовную особу, у которой не две, а целых восемь рук… И еще я думаю, что это не очень порядочно – изображать кайзеровских офицеров в виде гусаков! С касками на головах и в мундирах.
Клара прячет улыбку.
– А как же ты попал в армию?
– Тут сыграл роль наш гувернер Жиглиц. Отец послушался его и отправил нас в военное училище. Но Георг тут же удрал.
Клара смеется:
– Узнаю Георга. Поужинай со мной, Уве!
– Благодарю. С удовольствием. Что вы пьете, фрау Цеткин?..
– Расскажи мне еще про брата, Уве.
– Видите ли, я вам уже сказал, что он отказался от своей доли в акциях предприятия. А деньги быстро промотал.
– Вот как!..
– Конечно, я не раз предлагал ему помощь. Мы же не просто братья, мы близнецы, – продолжал Уве с некоторой гордостью, словно именно то, что они близнецы, его как-то особенно обязывало. – Но Георг почему-то юмористически к этому отнесся. Правда, когда я приехал в Мюнхен по делам и разыскал его в этом Швабинге, – ужасное место, но, говорят, Латинский квартал еще хуже, – он созвал огромное количество какого-то ну просто сброда и объявил, что приехал его богатый брат. И всех угощает. Георг мне сказал, будучи, конечно, не очень трезвым: «Ты, мой любимый братишка, будешь самым великим шибером[7]7
Шибер – спекулянт (нем.).
[Закрыть] в военном мундире!» Почему вы смеетесь, фройляйн Эйснер? Впрочем, это правда забавно.
– То, что ты рассказываешь, напоминает мне твоего отца.
– Да, отец был немного эксцентричен. Но он жил в другое время. Он мог позволить себе пустить на ветер все своё состояние и начать сначала. А теперь, если ты нокаутирован, тебе не дадут подняться. Да… Отец часто вспоминал вас. Я помню, он говорил нам: «Если вы у меня не совершенные оболтусы, то это только благодаря фройляйн Кларе».
Клара, смеясь, наполнила его бокал.
– Благодарю. Я, собственно, не пью, но ради встречи… Я как раз хотел сказать вам. Я стараюсь следовать идеалам своей юности! – выпалил он напыщенно, и она посмотрела на него с веселым любопытством. – Моим рабочим живется неплохо. Я облегчаю им положение как могу. Но, конечно, мы, промышленники, тоже люди подневольные…
– Вот как?
– Понимаете, бешеная конкуренция! К тому же я вынужден постоянно жить в Берлине. А мой управляющий не очень гуманный господин.
– Да, я слыхала о нем. Кажется, это он додумался до вычетов за простои механизмов.
– А, это ерунда! Вообще я задумал большие реформы. Вы знаете, мой адвокат Лангеханс, он был консультантом еще у моего отца, говорит, что сейчас главное – реформы! Реформы, реформы, реформы! Даже несущественно, какие именно! Но люди должны видеть, что положение меняется.
– Лангеханс? Зепп?!
– Да, Зепп Безменянельзя. Помните его прозвище? Но что же это я все о себе! Расскажите, фрау Цеткин, как вы живете? Вы стали так известны. Газета «Равенство» очень популярна. У вас есть семья? Раз вы носите другую фамилию…
– Мой муж умер, Уве.
– Ох, простите!
– У меня два сына. Хорошие мальчики. Только сорванцы. Вроде вас с Георгом в детстве. Помните, как вы удирали в Америку?
– Сломали замок в папином секретере и забрали деньги. Не знаю, почему надо было бежать в Америку через Кельн, где нас и сцапали…
– Вы всегда были слабы в географии.
– А что вам дает ваша общественная деятельность, фрау Цеткин?
– Удовлетворение.
– Я имею в виду – экономически…
– Экономически? Нет, Уве, партийная работа социал-демократов не оплачивается. Если, конечно, они не занимают каких-либо должностей. А работа редактора оплачивается.
– И этого хватает? Вам и вашим сыновьям?
– Да.
– Это меня радует. Было бы несправедливо, если бы такая женщина, как вы, жила в нужде.
– Я долго жила в самой горькой нужде. И скажу тебе, Уве, была очень счастлива!
На следующий день Клара выступала на большом собрании работниц-текстильщиц. Она всегда перед выступлением знакомилась с положением на фабрике.
И сейчас начала с того, что произошло здесь совсем недавно: стачка захлебнулась, потому что ткачихи не поддержали ее.
Веками немецкая женщина воспитывалась рабой трех «К» – «Kuche, Kirche, Kinder…»[8]8
Кухня, церковь, дети (нем.).
[Закрыть] Времена изменились. Уже не три «к», а фабричный цех и ферма деревенского богатея становятся рабочим местом женщины.
Но прошлое дает себя знать. Почему сдали позиции бастующие? Только из-за пассивности, нерешительности…
Хозяин фабрики вынужден был бы пойти на уступки: простои на фабрике означают, что фабриканта опередят на рынке сбыта!
Женщины должны понять, что они огромная сила, когда они вместе и борются рядом с мужчинами.
Буржуазные дамы лепечут о женском равноправии. Послушать их, так все женщины – сестры, а единственный их враг – мужчина!
Но какое отношение все это имеет к пролетаркам? Рабочие и работницы равно страдают от бесчеловечной эксплуатации.
Что может разделять мужчин и женщин в борьбе за лучшее будущее, за социализм?
Решительной борьбой за полное уничтожение несправедливого социального строя, за то, чтобы смести с лица земли всех монархов, завоюем мы подлинную, а не бумажную свободу!
На обратном пути Клара проезжает мимо «Павлина», старого «Павлина»! «Тут теперь модное кафе и танцплощадка», – объясняет ей извозчик.
– Остановитесь, пожалуйста! Она входит в зал. Одинокая дама здесь, конечно, не в почете: к ней долго не подходят.
– Герр обер! – зовет она. – Бокал мозеля, пожалуйста. И попросите сюда хозяина!
– Господина Кляйнфета? – изумляется обер.
– Разве у вас есть другой хозяин?
– Сию минуту… А как сказать?..
– Скажите, что его хочет видеть Карл из харчевни «На развилке».
Пятясь, кельнер исчезает, Клара посмеивается, представляя себе лицо Гейнца в эту минуту.
Смотрите, как проворно пробирается он между столиками, несмотря на свое пузо!
– О, Клара, какой сюрприз ты мне сделала! Я знал, что ты в городе. Но, признаться, не думал, что ты захочешь меня видеть.
– А ты-то сам? Ты хотел меня видеть?
– Еще бы, Клара. Ты для меня всегда останешься лучшим, что было в моей жизни. – Глаза его увлажняются: он по-прежнему сентиментален. – Я так рад, Клара, я не нахожу слов. Фриц, принеси шампанского! Французского.
– Ты полагаешь, что французское шампанское поможет найти эти слова? Однако ты расширяешься не только сам: твой «Павлин»…
– Да, я расширил свое дело, – бормочет Гейнц, – знаешь, собственность, она диктует… Каждому свое.
– Вот именно. Ты расширяешь свою собственность, я поднимаю людей на ее уничтожение.
– Ах, Клара, я понимаю: борьба в рейхстаге, реформы… Дух времени… А ты мало изменилась, Клара!
– Вот твое знаменитое шампанское! О, запотевшая бутылка в серебряном ведерке со льдом! Все правильно. Только сними плюшевые портьеры: теперь в моде простота…
– Да? Расскажи о себе, Клара. Я слышал, что ты теперь одна.
– У меня сыновья. И друзья. И работа. Этим я и богата. А ты счастлив, Гейнц?
– Как тебе сказать? Если у человека есть деньги, жена – хорошая хозяйка и трое детей, так, наверное, это и есть счастье… – Он продолжает: – Правда, иногда мне становится так тоскливо, словно я обделен чем-то. Но это, видно, уже возраст.
– И толщина, Гейнц, – отвечает она. – Ты стал просто Гаргантюа.
– Ты все такая же насмешница? – говорит он точно так же, как когда-то…
– Надо гулять перед сном! – отрезает Клара, – И еще, Гейнц, я хотела тебе сказать: не будь скрягой! Я слышала: ты зажилил сверхурочные персоналу…







