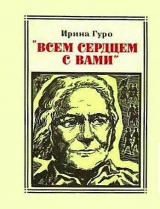
Текст книги ""Всем сердцем с вами". Клара Цеткин"
Автор книги: Ирина Гуро
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Ирина Гуро
«Всем сердцем с вами». Клара Цеткин
Тайный груз
Осенней ночью 1882 года имперская пограничная стража схватила одного из тех, за кем охотилась давно. Правда, стражникам не очень повезло: сообщники задержанного, отстреливаясь, скрылись в горах вместе со своей ношей.
Эти люди недаром считались самыми опасными нарушителями границы: они перебрасывали из Швейцарии в Германию нелегальную литературу.
Арест Жозефа Бели нанес партии чувствительный урон. Жозеф знал все сложности перехода границы, все тайные тропы пограничной полосы.
И вот он в тюрьме… Это приводило в отчаяние и ярость Юлиуса Моттелера, отвечавшего за переброску через границу Германии партийной газеты.
Пощипывая свои длинные светлые бакенбарды, Моттелер с сомнением глядел на молодую девушку, которой он даже не предложил сесть…
«Цюрихские товарищи полагают, что молодая девица – пусть даже, как они утверждают, сорвиголова, – может заменить отважного курьера Бели», – сердито думал Моттелер, без стеснения разглядывая Клару.
Нет, девушку не назовешь эфирным созданием. В ее коренастой фигуре, круглых и румяных щеках, лукавом взгляде есть что-то крестьянское. Товарищи говорили, что ей уже двадцать пять и что она очень образованна. Образование, конечно, украшает молодую социал-демократку, но для переправки литературы через границу нужно, конечно, кое-что еще…
Он вздохнул, снова вспомнив о Жозефе.
– Как ты оказалась в Цюрихе? – спрашивает Моттелер, перебирая в памяти все добрые слова, услышанные о Кларе: она-де и отважна, и сметлива, и дисциплинированна, и инициативна…
– Садись, – наконец предлагает он.
Девушка рассказывает свою историю. Ну ясно, рано или поздно там, на ее родине, в Лейпциге, ее бы схватили, раз она работала в партии… Вот она и уехала. Нанялась воспитательницей в семью аристократов в Италии…
– А это несладкий кусок хлеба?
– Нет, – отвечает Клара. – Я всегда мечтала стать учительницей. Но учить уму-разуму бездельников, которые пойдут по стопам своих отцов-эксплуататоров, благодарю покорно!.. Моя подруга Мария, которую вы знаете, написала мне, чтобы я приехала сюда… И я ей очень благодарна!
– Что ты делаешь сейчас?
– Даю уроки. Я ведь знаю четыре языка.
– Это, конечно, не сулит таких денег, как место воспитательницы у какого-нибудь Эстергази, а?
– Разумеется. Но я ценю независимость.
– И ты хочешь работать со мной?
– Да.
– Это опасно.
– Я работала при «Исключительном законе».
– Ты провалилась?
– Да. Меня предупредили, что грозит арест. Ну я и удрала…
– Гм… У тебя есть родные?
– Я порвала с ними.
– Почему?
– Политика…
У него еще один вопрос:
– У такой хорошенькой девушки есть, наверное, милый?
Клара не краснеет; она отнюдь не жеманна:
– У меня есть любимый, он русский эмигрант. Сейчас он в Париже.
– Гм… – Юлиус размышляет: – Товарищи сказали мне, что ты разбрасывала наши листовки на фабриках… Но, видишь ли, у нас дело сложнее; нашу литературу надо перебрасывать через государственную границу…
Клара встряхивает своими короткими волосами:
– Я уже делала это. Однажды меня остановил стражник в пограничной деревне: я несла в мешке с травой нелегальные газеты…
– Ну и как же ты выкрутилась?
Клара улыбается… Нет, недаром в детстве она играла в школьных спектаклях.
– Господин вахмистр! Я не понимаю, о чем вы говорите! Я ищу свою телку… Откуда мне знать, что здесь какое-то оцепление? Эй, люди! Вы слышите? Где это видано, чтобы не давали пригнать домой собственную скотину! Благодарю вас, господин вахмистр! Покорнейше благодарю!
Клара неузнаваема. Она сама простота: этот простонародный саксонский говорок, эти руки, упертые в бока! Да, с такой крикуньей лучше не связываться, даже жандармам!
Моттелер сдается:
– Пожалуй, ты пригодишься на новой базе.
Он думает:
«Власти уже знают, что нелегальную литературу провозят даже в детских колясочках, проносят в лотках бродячих торговцев… Необходимо придумать что-то новое. Для этой бойкой девушки надо подобрать хорошее прикрытие…»
Германия жила под пятою Железного кирасира[1]1
Так звали канцлера Отто фон Бисмарка, носившего кирасирский мундир.
[Закрыть], более свирепого защитника монархии, чем сам кайзер. В черный 1878 год в Германии вошел в силу «Исключительный закон против социалистов». Отныне самая суровая кара грозила тем, кто посмеет говорить и писать о социализме, о борьбе с капиталом, о революции. Разгромлены редакции газет, закрыты рабочие клубы. Социалистическая рабочая партия Германии поставлена вне закона. Что значат эти два слова: «Вне закона»? Они грозят жестокой расправой без суда и следствия всем членам этой партии, всем сочувствующим ей.
И вот через бдительные пограничные кордоны в Германию проникают слова, зовущие к борьбе…
На берегу Боденского озера расположился немецкий курортный городок.
Здесь было все, что положено такому городку у светлого огромного озера, омывающего берега трех государств: рыбачий поселок, небольшая ткацкая мануфактура, магазин колониальных товаров, сапожная мастерская и, конечно же, две-три харчевни. У подножия холма стояла кузница мастера Траубе. И мастер, и три его сына работали в партии. Секретный груз – нелегальная литература – доставлялся из Швейцарии первым делом сюда. Во дворе кузницы стояли повозки, а у коновязи лошади. Приезжие, незнакомые в городе люди были тут обычны, это облегчало задачу. Наибольшие трудности представляла сама переправа груза.
Литература поступала сначала на секретную базу в Швейцарии. Ею служила деревенская харчевня в пограничной полосе.
Собственно говоря, это был скорее постоялый двор, поскольку в харчевне принимали и на ночлег, и было куда поставить лошадь.
Ни у кого не вызывало удивления, что к хозяйке харчевни – она была немкой «с той стороны», а ее муж горняком из Эльзаса – приехала погостить племянница, молодая девушка из деревни «по ту сторону». Девушка говорила на диалекте приозерных жителей, носила живописный костюм местных крестьянок: бархатную безрукавку и пестрые сборчатые юбки. Они всегда развевались, так быстро девица бегала по небольшому помещению, неся поднос, уставленный металлическими блюдами с кроличьим жарким или свиными ножками и глиняными кружками с сидром или пивом: французская и немецкая кухня пользовалась успехом на равных!
Сюда часто заходили невысокие чины полевой жандармерии, пограничной стражи. Им нравилась веселая белокурая и светлоглазая племянница хозяйки. И не было ничего удивительного в том, что самостоятельная деревенская девушка, копившая себе приданое, ходила, как она объясняла, к родным в долину через границу, легко взвалив на спину узел с какими-нибудь своими пожитками.
…Едва Клара сбрасывала эту ношу в кузнице Траубе, один из трех его сыновей уже седлал коня: старик Траубе не любил, когда опасный груз долго находился под его крышей.
А какое веселье начиналось, когда Клара благополучно возвращалась в харчевню эльзасца! Сдвигались к стене столики, и под скрипку хозяина молодежь отплясывала немецкую «Деревенскую польку» и «Французскую кадриль». И «племянница» хозяйки всегда была в центре простодушного молодого веселья.
Клара нисколько не выделялась среди местных жителей ни речью, ни одеждой, ни поведением.
И Моттелер со свойственным ему темпераментом сказал товарищам, рекомендовавшим Клару, что девушка «пришлась ко двору».
Клара работала в Красной почте Моттелера с радостью: она служила своей родине.
Слово партийной правды находило тех, кто ценил его дороже благополучной жизни под драконовым законом Железного – кирасира. Она была горда причастностью своей к тайной работе.
А ведь смутные мечты о ней посещали юную Клару, дочь сельского учителя Эйснера, когда она читала на чердаке отчего дома в своей родной деревне толстую книгу о Великой французской революции…
Эту книгу Кларе подарил дедушка, когда гостил у них в Видерау. Он был похож на моряка. Лицо его, темно-коричневое, с орлиным носом, с глубоко врезанными морщинами, казалось выдубленным солеными ветрами. Он заполнял дом своим трубным голосом и медовым запахом крепкого табака, которым набивал короткую вишневого дерева трубку.
Само имя его звучало романтически: Джиованни Доминик Витале. Француз, наполеоновский солдат, солдат республики, отказавшийся служить Наполеону-императору. Он навсегда оставил родину и стал учителем в Лейпциге.
Кларе всегда казалось, что дедушке скучно жить в Лейпциге и быть учителем в Томасшуле. Наверное, ему снятся военные походы, сражения и парады… Украдкой при свете свечей она взглядывала на дедушку, чуть прищурив глаза… И вдруг седые его волосы становились черными-пречерными, на них вырастал кивер с султаном. На чисто выбритом дедушкином лице появлялись душистые усы, вместо широкого черного платка шею его сжимал, тугой воротник мундира с золотым позументом.
Кларино воображение вело ее дальше.
«Мой государь! – вскричал дедушка, ведя в поводу высокого вороного коня. – Я служил верой и правдой великому полководцу Наполеону, но никогда не буду служить Наполеону-императору!» – «Как! – вскричал император. – Ты был моим адъютантом в трудных походах, ты не кланялся пулям на поле брани! Я любил тебя, мой верный Витале! Я прошу тебя, останься!» – «Нет, нет и нет! – вскричал дедушка и вдел ногу в стремя. – Свобода, равенство и братство – мой девиз! Мир хижинам, война дворцам!» – И он пришпорил коня…
И после всего этого дедушка самым прозаическим образом преподает в лейпцигской Томасшуле!
В 1872 году, когда семья Клары переехала в Лейпциг, дедушки уже не было в живых. На кладбище Иоганнисфридхоф на серой гранитной глыбе выбит его орлиный профиль…
Клара трудно осваивалась в Лейпциге. Не сразу открылась ей прелесть Иоганнапарка, где тень горбатого мостика падает на лодку, легкую и быструю как бумажный кораблик. Рыночная площадь со старой ратушей, возносящей свой шпиль над крутыми черепичными крышами домов, с фонарями, вечером при одном прикосновении палки фонарщика зажигающимися удивительным желтым газовым светом. Катились по улице экипажи с господами, одетыми по моде времени – в длиннополые сюртуки и узкие брюки со штрипками, – и дамами в больших шляпах с перьями.
Но был и другой Лейпциг. Задолго до рассвета в железные ворота бумагопрядилен, сукновален, дубильных, кожевенных фабрик вливался поток бледнолицых, изможденных людей. Они непохожи на господ, фланирующих по улице Мартина Лютера… Это будто другой город, даже другая страна: вовсе не та благополучная кайзеровская Германия, о которой говорится в газетах и книгах…
А женщины… Они, даже молодые, так ужасно выглядят… Клара никогда не думала, что на фабриках работает столько женщин!
Как удивительно! Клара слышала о женском равноправии еще в те далекие времена, когда, прижавшись к коленям матери, рассматривала ленты на чепцах дам, собиравшихся у них дома.
Но дамы не говорили о женщинах, работающих по четырнадцать часов у ткацких станков, или у типографских машин, или у пивных котлов. А ведь существуют еще дубильни, и красильные цехи с ядовитыми парами, и чулочные в подвальных помещениях, где и в помине нет такого света, которым залита главная улица города, – там чадят под потолком керосиновые лампы.
В чем же, в чем же оно, женское равноправие? В том, что женщины вправе работать наравне с мужчинами? Наравне с ними калечиться?
Твердя о женском равноправии, мамины гостьи чаще всего говорили о праве женщин учиться и преподавать. А позже – уже тут, в Лейпциге, – о праве выступать в судах, подписывать векселя, участвовать в торговых сделках.
Но женщины, которые спешат поутру на работу – у них серая кожа, и так серо они одеты, – вряд ли они думают об учении. Им надо прокормить своих детей. Эти женщины не смогут учиться, даже получив право на это! И конечно же, они не помышляют о векселях, ведь из торговых сделок им доступна разве только покупка меры картофеля или пачки маргарина.
А самое ужасное, что страдают дети. Какая мука для матери не иметь возможности досыта накормить детей! Что может быть тяжелее, чем сознание своего бессилия: как ни бейся, ты не можешь выполнить свой материнский долг – обеспечить детей самым необходимым – едой, теплой одеждой… И уж конечно, работницы и не мечтают дать своим детям образование.
Клару терзает и другая мысль: для этих людей не существует тот мир, который для нее, Клары, имеет огромную ценность: мир музыки, книг, мир искусства.
Эти люди не знают Баха и Гайдна! Если орган и звучит для них в часы церковной службы, то вряд ли они обретают здесь покой и погружаются в те глубины музыки, где начинается царство гармонии.
Не для них завлекающий шелест книжных страниц, звучание рифмованных строк… Возвышенная любовь Ромео и Джульетты, злоключения Дон Карлоса, трагедия Фауста и смешные приключения джентльменов из Пикквикского клуба…
Все это недоступно огромному количеству мужчин и женщин… Народу! Который все хотят любить и жалеть и которому никто не может помочь…
Не может? Неужели нет выхода? Или она еще не видит его? Но где его искать?
Клара уже слышала о шумных спорах, которые разгораются под низким потолком ресторанчика «У павлина» неподалеку от дома Клары.
Один раз она видела, как оттуда выходил, окруженный мужчинами, Вильгельм Либкнехт. Во всем его облике Кларе видится печать упрямой мысли и мужества. Она знает, что Август Бебель и Вильгельм Либкнехт выступали в рейхстаге против войны.
Клара многое узнает от своего приятеля Гейнца. Гейнц их сосед, он племянник хозяина ресторанчика «У павлина». Конечно, он и в подметки не годится товарищам ее игр в Видерау. Чаще всего она вспоминает Пауля Тагера – сына чулочника, огромная семья их жила в хижине под горой. Пауль был самым смелым мальчишкой в Видерау. Но сейчас Пауля там нет. Он уехал куда-то на юг. Туда, где заводы и фабрики. Где есть работа.
Похоже, что Гейнц даже драться не умеет! Хотя ростом чуть пониже колонны на базарной площади. Зато Гейнц знает многое, он слушает разговоры клиентов «Павлина»… Например, о том, что в загородной харчевне «На развилке» собираются рабочие и ведут запрещенные речи…
Клара недолго думает:
– Гейнц, я хочу послушать, что там говорят!
– Что ты, Клара! Там ругательски ругают хозяев… И молодой девушке…
– Я переоденусь парнем, – перебивает Клара.
– У меня есть костюм, из которого я давно вырос… – нерешительно говорит Гейнц.
Сумерки. На безлюдном перекрестке в условном месте переминается с ноги на ногу мальчишка. Гейнц едва узнает Клару. Ее светлые волосы выбиваются из-под картуза, а короткие штаны и куртка, порядком потертые, не по ней, но такой неказистый парнишка вполне может щеголять в одежде старшего брата.
– Я теперь Карл, слышишь? Не спутай! – приказывает она.
Сорвиголова! Если бы уважаемая фрау Эйснер, ее мать, узнала!
Клара прыгает в двуколку и перехватывает у Гейнца вожжи:
– Маус, вперед!
Пони Маус трогается…
Тележка тарахтит по крупному булыжнику окраины.
Очень весело трястись так по пустынной проселочной дороге. Клара нарочито хриплым голосом мальчишки запевает песню:
– На лесной полянке девушка-смуглянка…
Гейнц охотно вторит:
– Деревенскую польку пляшет под шум листвы…
И оба вразброд, но с жаром вытягивают:
– Ах, почему же, ах, почему же пляшет она без музыкантов, совсем одна?..
Вопрос этот остается невыясненным, потому что Маус отказывается перейти чепуховый ручеек…
– Ты удачно назвал его, в самую точку! – говорит Клара. – Это самый трусливый пони на свете[2]2
Маус – мышь (нем.).
[Закрыть].
Клара никогда не бывала в таких местах. В тесном помещении накурено, все плавает как в тумане. А народу!..
– Откуда они все? – робко шепчет Клара. Гейнц объясняет:
– Тут ткачи с фабрики Ротберга. Их легко узнать по тому, как громко они говорят, прикладывая к уху ладонь. Кузнецы тоже здесь. У них темные руки в рубцах и слезящиеся глаза.
– А… Гейнц! – кричит хозяин за стойкой, завидев вошедших. – Как здоровье дядюшки Корнелиуса? Садись к столику у окна!
Хозяин собирает со столов пустые кружки и заменяет их полными, не забывая подкладывать под них новые картонные подставочки, по которым ведется счет выпитому.
– Скажи спасибо Гейнцу, хозяин! – громогласно объявляет груболицый человек. Его красное лицо и толщина выдают любителя пива.
– За что же? – Хозяин ожидает какого-нибудь подвоха.
– За то, что он посещает твою паршивую пивную! Когда Гейнц станет хозяином «Павлина», он будет подавать тебе только два пальца, как это делает наш мастер!
Все кругом смеются. Гейнц густо краснеет. Клара обижена за него: он никогда не будет гордецом! Даже если окажется хозяином ресторана!
Разве он не смеется вместе с ней над чванной Бертой, дочкой мукомола Шманке?
Клара внимательно слушает, о чем шумят вокруг.
– Подавись он своей лавкой! Я лучше будут подыхать с голоду, чем покупать это дерьмо! – кричит фальцетом пожилой человек с большой бородавкой на лысине.
– Все равно с тебя вычтут, не за то, так за другое, – меланхолически замечает его собеседник, прихлебывая пиво из литровой кружки.
– Мне надо кормить шестерых, – отвечает пожилой. – А эти лавки – чистое свинство! Когда это было видано, чтобы принуждали закупать в фабричной лавке? На черта мне ихняя файнлебервурст[3]3
Файнлебервурст – ливерная колбаса высшего качества (нем.).
[Закрыть], если я могу купить просто лебервурст, не тратя лишку за одно слово «файн»!
– Э… Фриц! Зато «файн» тебе записывают в книжку, а денежка остается у тебя в кармане, – басит собеседник.
– А в получку сдерут втридорога! – вставляет кто-то. – Для того и заведены эти лавки, чтобы драть семь шкур с рабочих.
– Что же получается? Что мы опять в дураках!
– Держись, Фриц! Скоро Железный кирасир введет налог на бородавки! – кричит кто-то под общий смех.
Да, они смеются, хотя в общем-то им не до смеха. Но почему-то всюду, где собираются простые люди, всегда звучит шутка, часто горькая.
Среди общего шума вскакивает на стул парень в вельветовой куртке:
– Друзья! К нам пришел товарищ Курт! Сейчас он нам кое-что скажет…
Видно, этого Курта здесь знают. Тотчас воцаряется тишина. Все смотрят на плечистого молодого человека.
Он рассказывает, как боролись рабочие за свои права в разных городах Германии.
– Главное – это организованность! В одиночку хозяин скрутит каждого, но все вместе мы сила! Каждый день забастовки стоит хозяину таких денег, что он волосы на себе рвет… Недавно закончившаяся война была очень выгодна владельцам фабрик. Они держат в руках всю промышленность страны и диктуют свои законы. Кто же может противостоять им? Только организация рабочих!
Клара еще никогда не слышала таких слов. Но вдруг в харчевню влетает парнишка, которого она приметила у коновязи.
– Скачут! – кричит он.
И только теперь Клара замечает спутника Курта, который поспешно выводит его куда-то, вероятно, к другому выходу… Как же она не заметила его раньше?
Не то чтобы он поразил ее красотой, хотя, конечно же, был красив, очень красив! – во всем его облике было мужество и благородство. Узкое лицо, обрамленное темной бородкой, проницательные глаза…
Клара видела его совсем недолго. Что-то мешало ей спросить Гейнца, кто этот незнакомец. Нет, нет! – она не спросит…
Когда он пошел за Куртом, как бы охраняя его, Клара подумала: «Ему не более двадцати пяти. Мне тоже уже семнадцать, а что я успела в жизни?»
Курт и его спутник исчезли; составленные вместе столы мгновенно были раздвинуты; мужчины, взявшись под руки и ритмично раскачиваясь на стульях, запели:
– На лесной полянке девушка-смуглянка…
– Ах, почему же, ах, почему же… – закатывая глаза и дирижируя огромной лапищей, допытывался лысый с бородавкой.
– Уходим! – шепнул Гейнц и положил деньги на картонную подставку.
У дверей им пришлось посторониться, чтобы пропустить двух жандармов, которые, выпятив грудь и заложив руки за борт мундира, победоносно звеня шпорами, вступили в «Развилку». Риторический вопрос насчет «одиночества смуглянки» зазвучал еще громче.
Клара и Гейнц отъехали совсем немного, когда оба жандарма перегнали их на своих сильных холеных лошадях. Жандармы не очень твердо держались в седлах, и лица их были подозрительно красными…
Это были еще не самые строгие времена. Времена до «Исключительного закона», который отправит на пенсию патриархальных жандармов и упрячет под замок дерзких шутников. Это были те времена, когда молодые функционеры молодой Социал-демократической рабочей партии Германии несли в пролетарские массы великие идеи Маркса и Энгельса. Когда в рейхстаге гремел убедительный голос Августа Бебеля, воздающий хвалу парижским коммунарам. И трудно было протиснуться в зал культур-ферейна, где Вильгельм Либкнехт с ораторским блеском немецкого Демосфена звал на борьбу за изменение мира под знаменем Маркса.
Те времена, когда бежавшие из темниц Александра Второго русские революционеры находили приют в Лейпциге под сенью холма Трех монархов и городской ратуши XVI века…
Да, это были еще не самые строгие времена…
На обратном пути Клара была задумчива и молчалива.
Будто во сне видела она дома окраины с закрытыми на ночь ставнями, в которых кое-где слабо светились вырезанные в них сердечки. «Они светятся так тепло и нежно…» – прошептал Гейнц: он был чувствителен, как и полагалось восемнадцатилетнему ученику коммерческой школы в те времена, когда коммерция еще не предполагала качеств, которые станут совершенно необходимыми для деловых людей позже, очень скоро…
Клара посмотрела на него с изумлением… Если бы он знал, где ее мысли, то, конечно, не сказал бы эти дурацкие слова: «Знаешь, Клара, в наших краях есть поверье: если девушка шутки ради переодевается в одежду парня, то как пить дать она выйдет замуж именно за него. А не за кого-нибудь другого!»
Какая чушь! Клара начисто забыла и самого Гейнца и его слова, едва влезла через окно в свою комнату в сером доме на Мошелесштрассе.
«Я так и знала, знала, что еще раз увижу его…» – сказала себе Клара, и с этой минуты все, что происходило на сцене, воспринималось ею по-новому… Она все время чувствовала, что этот человек здесь, на галерке Штадттеатра, где обычно сидят студенты, и радовалась тому, что он вместе с ней слышит высокий звенящий голос Луизы: «О Фердинанд, ты зажег пожар в моем юном безмятежном сердце, и уже ничто, ничто его не потушит…»
Наверное, и он переживает судьбу влюбленных, ставших жертвой неслыханного коварства!
В антракте она поискала глазами незнакомца, но его не было. Спутница Клары, Мария, тоже оглядела все ряды галерки…
– Ты кого-нибудь ждешь, Мария? – спросила Клара.
– Да, он был здесь… Ты его не знаешь. Он русский, мой земляк. Его зовут Осип… Тсс… подымают занавес!
Клара ни о чем не спросила Марию. Почему? Она не могла бы ответить, хотя в Учительском институте у нее не было более близкой подруги, чем Мария.
Она многое слышала от нее о непонятной, загадочной стране, где лежат глубокие снега на необозримых равнинах. Там под гнетом жестокого царя гибнут лучшие люди – борцы за свободу. Родители Марии бежали от преследований и поселились в Лейпциге. Мария тосковала по родине, которую оставила ребенком. Она рассказывала подруге о своем детстве в большом городе на берегу великой русской реки. Может быть, там жил и Осип… Она так и не задала подруге ни одного из вопросов, готовых сорваться у нее с языка: кто он? Что делает в Лейпциге? Но про себя твердо решила: да, он один из тех, кто боролся за свободу… Его преследовали… Он бежал…
Воображение подсказывало Кларе то одну, то другую историю Осипа… В каждой из них он выглядел героем.
Осип Цеткин упоминался в полицейских документах как «…выходец из Одессы, подмастерье столяра», что полностью соответствовало действительности. А то, что мастер, у которого жил и работал Осип Цеткин, – известный функционер социал-демократической рабочей партии Мозерман, это до «Исключительного закона» не имело еще того рокового значения, какое приобрело позднее. И то, что Осип Цеткин, хотя и занимался столярным делом, но в гораздо большей мере пропагандой марксизма среди интеллектуальной молодежи, тоже до поры до времени оставалось без внимания со стороны властей.
Осип как-то пришел к своей землячке, студентке Марии, на квартире которой собиралось «Общество любителей гребли».
Клара Эйснер тоже посещала этот кружок молодежи, занимавшейся социальными вопросами. Она слушала множество рефератов, убедительно доказывающих обнищание низших слоев общества и процветание высших. Но что нужно делать, чтобы покончить с этим? Клара хотела ясности. Ясности не было.
Однажды Клара поймала взгляд синих глаз, пристальный и рассеянный одновременно. Она узнала лицо со впалыми щеками и высоким лбом, обрамленное курчавой бородкой.
Осип слушал реферат без всякого одобрения и даже иронично.
Мария познакомила их:
– Это Клара Эйснер, любознательная и восторженная студентка.
– Осип Цеткин, – назвал себя незнакомец.
– Мария преувеличивает, – сказала Клара, – я не очень склонна к восторгам!
Цеткин улыбнулся:
– Оставим восторги обществу гребцов-социологов! Мария спросила:
– Ты признаешь какие-нибудь авторитеты, Осип?
– Да, – ответил тот.
Его лицо оставалось серьезным. Мария, подзадоривая, продолжала:
– Вы все узкие как футляр от флейты. Учение Маркса…
– Учение Маркса широко как мир, – сказал тихо Цеткин, и Клара удивилась, что эти слова не показались ей высокопарными. Наверное, потому, что в них прозвучала непоколебимая убежденность.
Осип рассказал ей о себе. Он разделил участь многих русских революционеров своего поколения. В царских тюрьмах определилось его мировоззрение. Его дорога к марксизму была нелегкой.
Вскоре Клара стала участницей нелегального кружка, которым руководил Осип Цеткин. Здесь изучали теорию Маркса, предлагавшую вместо требований реформ коренное переустройство общества…
Клара была потрясена грандиозностью идей, которые открывались ей в речах нового наставника, произносимых со страстью пророка и логикой ученого.
В тот год Клара блестяще сдала выпускные экзамены в Учительском институте. Она стала «домашней учительницей» в семьях аристократов. Другая сторона ее жизни до времени оставалась неизвестной… Только до времени.
Фрау Августа Шмидт, директриса Учительского института, всегда отличала Клару. Она от души радовалась ее успехам. Ей нравилось достоинство, с которым держалась эта девушка из семьи в общем-то бедных людей.
Именно фрау Августа Шмидт выхлопотала для Клары бесплатную вакансию. Наставница следила за успехами Клары до самого окончания курса в институте…
Странные слухи дошли до Августы Шмидт: ее любимица, ее надежда, лучшая ученица увольняется из самых достойных домов города… Она якшается с опасными элементами. И даже… с русскими политическими эмигрантами. Боже мой! С этими цареубийцами!
Фрау Шмидт была в ужасе. Она не могла этому поверить. Она послала Кларе открытку с просьбой навестить ее.
Клара явилась в назначенный час. Нет, по крайней мере внешне она ничем не напоминала этих нынешних… которые носят пенсне на шнурочке и юбки – вот срам! – еле-еле закрывающие верх ботинка…
На Кларе была юбка до полу, как и полагается. Волосы ее были собраны в гладкую «учительскую» прическу, и, главное, взгляд ее зеленоватых глаз был по-прежнему открытым, доброжелательным, располагающим…
«Вздор! Сплетни!» – с облегчением подумала Августа Шмидт. Видит бог: ей было бы тяжело обмануться в Кларе Эйснер!
И в то время как Клара заботливо спрашивала о ее здоровье, прекратились ли у нее мигрени, которыми она страдала, и кто теперь сопровождает ее на воскресных прогулках… В это время фрау Августа придирчиво оглядывала ее…
Да, Клара не стала ни нахалкой в короткой юбке, ни мужеподобным созданием в пенсне.
Но что-то новое в ней угадывается.
Фрау Шмидт пошла напрямик.
– Послушай, Клара, дитя мое, – сказала она, когда они пили кофе в маленькой кухоньке, похожей на шкатулку для рукоделия, – правду ли говорят, что ты встречаешься с… – фрау Шмидт не могла произнести вслух такие слова, как «цареубийца» или «преступник»… – с людьми, проповедующими анархию и хаос?
Клара улыбнулась; это не понравилось фрау Августе, – какие могут быть улыбки, когда речь идет о ниспровергателях основ!..
– Если вы имеете в виду социалистов, то да, фрау Августа, я сторонница социалистических взглядов…
Боже мой! И потолок не рушится от этих слов! «Сторонница»! И как уверенно она произнесла свое неслыханное признание…
Но фрау Шмидт была педагогом и свято верила в «перевоспитание» даже закоренелого преступника.
– Ты хорошо обдумала ту дорогу жизни, которую избрала, Клара?
– Да, – ответила девушка лаконично. И – о ужас! – улыбнулась снова.
Улыбнулась потому, что слова «дорога жизни» вызвали в ее памяти другие такие же напыщенные слова фрау Шмидт, которые когда-то казались Кларе прекрасными.
Эта улыбка сразила директрису.
– И ты отдаешь себе отчет в том, что воздвигаешь непереходимую стену между собой и… обществом приличных людей?
«Приличных людей!» Клара уже знала их лицо…
– Да, – ответила она.
– Стену между собой и своей семьей… И мной, твоим другом и наставницей… – голос фрау Шмидт дрогнул, на мгновение ей показалось, что «сердце возмутительницы растопилось»…
Клара подняла на директрису свои ясные глаза и произнесла таким знакомым ей голосом, голосом «лучшей ученицы»… «примерной и подающей надежды»… «достойной дочери нации»… Этим своим голосом она произнесла кошмарные слова:
– Я сознаю все это, но не могу изменить своих убеждений.
Вот так. Вот оно, знамение будущего века, века, который несет, по всем приметам, безбожные и безнравственные идеи… И кто знает, быть может, их осуществление!
И фрау Шмидт, потрясенная до глубины души, «указала заблудшей овце на дверь»… По-христиански ли поступила она?
Позже, обдумывая ответ на этот вопрос, фрау Шмидт пришла к заключению, что – да, она поступила по воле бога.
Разрыв с наставницей повлек для Клары и разрыв с семьей. Ведь ее семья «поступалась всем, чтобы дать Кларе образование». Ведь «она должна быть благодарной»…
Семья! Когда-то семья была для Клары родным гнездом, прибежищем, куда несла она свои детские обиды и недоумения.
Скромная квартирка на Мошелесштрассе казалась юной Кларе самым уютным и привлекательным местом на земле. Ласково и рассудительно говорил со старшей дочкой отец, вникала во все ее маленькие заботы мать. Малыши – брат и сестра – те просто заходились от радости, когда Клара подымала с ними веселую возню.
Несчастье – смерть отца – еще больше сплотило маленькую семью, и постепенно Клара становилась ее опорой, надеждой матери, примером для младших. Что же произошло? Как могло случиться, что Клара стала чужой в своей семье?
«Исключительный закон против социалистов» породил массовый психоз в буржуазных кругах. Оголтелая пропаганда реакционных идей проникала в каждый дом.
Вероятно, Августа Шмидт не без сожалений порвала со своей любимой ученицей. Но для матери Клары подлинно драматическим был уход Клары из семьи.







