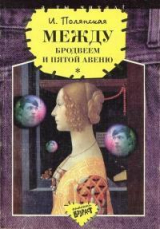
Текст книги "Между Бродвеем и Пятой авеню"
Автор книги: Ирина Полянская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
На той фотографии наша мама сидит на поваленном дереве в своем лиловом крепдешиновом платье, освещенная столь щедрым солнцем, что его лучи выходят за рамки и наполняют нашу комнату исступленным светом былого. Голова ее запрокинута, волосы светятся, золотятся в летнем воздухе того дня. Отец снял маму в сосновом лесу – ты чувствуешь запах хвои в кабинете? Самое яркое пятно на этом снимке – мамино лицо, мама блаженно надкусывает травинку, думая о том, что у нее родится сын. Вот эта былинка – последнее, что подарила фея Золушке, отправляя ее на бал. Мамино лицо так и тянется за нею, пьет через нее воздух... Не правда ли, так и хочется продолжить каждую сосну за рамку, раскатать во всю ширину поляну, на которой фотографировал маму отец, подсадив на поваленное дерево, продолжить до неба июльский воздух и таким образом восстановить всю ее загубленную жизнь...
Мы помним ее усталой и надломленной, тянущей крыло из-под руин развалившегося дома. Она как тень неустанно бродила по комнате и с места на место переставляла предметы. Все, от массивного шкафа до статуэтки музы с лирой в руках, утратили постоянное местожительство: не успевала пыль обвести подножия часов на серванте, как они уже переходили на холодильник в кухне; трельяж кочевал по углам, как новогодняя елка. Дом втягивал в себя мелочи безвозвратно: варежки, логарифмическую линейку, ножницы – ничего нельзя было найти, все уворачивалось от рук и пряталось. Мама постоянно что-то искала. «Ну как же, я точно помню, что в эту вазу положила облигации. Геля, ты убирала последняя...» – «Я ничего не видела, ты сама куда-то сунешь, а потом нас терзаешь». – «Что я, с ума сошла, что ли? Вот в эту вазу!» Вызывающе гремела посудой на кухне, электрические искры пробегали даже по полу, когда она принималась выворачивать наизнанку ящики стола, боль сияющими кругами расходилась по квартире от ее мечущейся фигуры, ее голос проникал во все закоулки, а ее шаги начинали наводить на нас тот же унылый страх, что и разгневанный топот отца. Гелины гаммы долго соперничали с ее нарастающим раздражением, наконец и Геля не выдерживала, срывалась со стула и бросалась на поиски, не столько веря в их успех, сколько просто приноравливая себя к течению урагана. Но не было облигаций, покоя не было. Фурии носились по комнатам, роняли стаканы, дыбом стоял ворс на диванном ковре, хлопали двери. «Нет, я ничего не путаю, вот в эту вазочку, дай, думаю, положу, специально еще запомнила...» Хотелось на этом сквозняке как-нибудь выбрать себя из жизни, хотя бы простейшим методом отчисления, истаять – в мириадах возможностей развести прадедов, уговорить судьбу, чтобы наши дедушка и бабушка жили в разных городах, а другие дедушка и бабушка никогда бы вместе не играли на любительской сцене «Отелло», бросить гребень между родителями, чтобы на их пути друг к другу восстали непроходимые леса, разлились моря; вычесть из любви любовь, разъять время, уничтожить самую надежду на свое появление.
Что, что можно было придумать еще?
Мы знали, конечно, что жизнь прекрасна и удивительна – об этом нам часто говорил отец, большой жизнелюб, вечный жизни поклонник, – но мы не знали, когда же она наконец начнет становиться удивительной и прекрасной, когда исчезнет в душе это напряжение, скованность, на преодоление которой уходили многие силы.
Особенно выть хотелось тогда – выть и бить стену кулаками, – когда появлялись некоторые из соседей. За закрытой кухонной дверью мама развертывала перед ними полотно нашей жизни, которое они могли разглядеть и в замочную скважину. Она щедро утоляла чужую потребность к пересудам и сплетням, под подобострастные кивки и влажные аплодисменты она распинала себя и нас, пока последний зритель не исчезал. Страшно было появиться на кухне и застать обрывок исповеди среди горы грязной посуды. Мама оставалась одна и с горящим, лицом смущенно спрашивала, не хотим ли мы есть?.. Она сорвала голос на воспоминаниях.
Как-то мама призналась нам, что самые тяжелые минуты тогдашней ее жизни были связаны даже не с теми огорчениями, которые мы, точно соревнуясь друг с другом, доставляли ей, а вот с чем: раз в месяц она ходила на почту получать на нас алименты.
– И чего тут такого, – утешала ее Ира, наша соседка, которая тоже получала алименты на сына. – Это дело законное, это платит тебе государство, оно обязало вашего папу, иначе бы ты от него шиш чего получила.
– Не говори так, – возражала мама. – В этом смысле Александр глубоко порядочный человек, щедрый, щепетильный. Он посылал бы в любом случае, даже еще больше бы посылал, если б я позволила – ведь он любил девочек.
– Оно и видно, – фыркала Ира, – любил, крепко любил. Поди, ждет не дождется, пока девкам стукнет по восемнадцать, вот тогда он черта лысого будет тебе посылать.
– Ирочка, ты очень озлоблена, – мягко возражала мама, – нельзя думать о людях только плохое.
– Да, Мариночка, – в тон ей говорила Ира, – озлоблена, еще как озлоблена. Для меня один черт – бросил дитя, так вот посылай теперь не посылай, все равно ты скотина, так-то.
В притихшей угрюмой очереди за алиментами мама была самой тихой. Она уже знала всех одиночек, стоявших в очереди, и они знали ее. Каждая женщина пыталась сделать равнодушное лицо, и мама тоже, но ей все хотелось показать, что у нее ситуация иная, менее обидная, чем у них; и женщины, в свою очередь, старались сделать вид, что здесь они потому, что сами покинули мужей, а не наоборот. Мама получала 100 рублей 94 копейки; особенно обидными ей казались копейки, ибо круглую сумму посылают по доброй воле, а строгий, до последней копеечки, счет ведет закон. Каждый раз мама громким голосом требовала три лотерейных билета, с которых все равно ей выдавали четыре копейки. Скорее всего женщины-одиночки завидовали ей: мама получала самую крупную сумму, хоть и на двух девочек, другие не могли позволить себе лотерейные билеты. Мама на каждом из них писала: «Тая», «Геля», «Марина», – мы ничего не выигрывали.
Неожиданно она открыла для себя комиссионный магазин и сделалась его постоянной покупательницей. Мы помним эти фантастические наряды, которые с торжествующей усмешкой подносила она нам на плечиках, призывая в свидетели Иру, что они прекрасны. Ира, хитрюга, подтверждала, но подмигивала нам потихоньку. Эти замысловатые произведения мама заставляла нас примерять и, довольная, отступала к дверям, любуясь тем, как ей удается водить за нос свою небольшую зарплату. Мы покорялись маминой идее об экономии и не оказывали сопротивления оборочкам, рюшкам, фонарикам и вышивкам. «У меня настоящий вкус, – горделиво говорила она. – И вещи совсем новые, дорогие. Видно, кто-то привез из-за границы, но не подошло, вот и сдал». Мы кивали, как болванчики. Саму ее было невозможно уговорить принарядиться, тронуть губы помадой. «Не люблю молодящихся дам, – твердила она на наши попытки сделать ей прическу или даже напудрить. – Это все равно что раскрашивать огородное пугало». И мы перестали спорить с нею, мы не пытались сопротивляться, мы-то знали, что у нас есть непочатый запас жизни – помнишь, сестра?
...Но Геля молчит. Геля затаилась. Ночами она сидит на балконе, обхватив колени, и смотрит в темноту, в глубокую августовскую ночь. Голубые граненые звезды проделывают знакомый путь сквозь тонкий слой облаков, над балконом встал как вкопанный месяц. Босыми ногами пришлепала сестра, села рядом.
– Гелико-сан, что ты не спишь?
– Не сплю и не сплю, – неласково отзывается Геля.
– У нас что-то случилось, нет? – быстро спрашивает Тая.
– Случилось. Случай. Луч случайный.
– А почему звезды мигают?
– Надо уроки учить, тогда будешь знать почему.
– Я учу, Гелечка-сан, этого мы еще не проходили. Так почему?
– Потому что на них ветер дует, – сердито отвечает Геля.
Пройдет две недели, он снова уедет в Москву, он учится в МФТИ, такой умница, никакие репетиторы не готовили, сам поступил. Его нельзя пленить, рассеянно думает Геля, им нельзя не плениться, ах, зачем он так настойчиво дружит с ней, зачем, когда идет дождь, снимает с себя куртку – она же нарочно забыла дома плащ, чтобы идти с ним под одной курткой. Но нет, он учтиво набрасывает ее на Гелины плечи, он – друг, товарищ, приятель, и больше никто. Он беседует с ней о пустяках – Господи, какая там «Таганка», зачем Архангельское? И к чему нам Марсель Пруст? Но скажи она ему небось, зачем мне Марсель Пруст, не до него мне сейчас, – и он заскучает, решит, что Геля такая же, как все они, с которыми и поговорить-то не о чем. А ведь пару лет назад он был неприметным ее одноклассником – обыкновенный скучный мальчик, белесые волосы и брови, когда прыгал через гимнастического козла, все хихикали. Теперь одноклассникам не до смеха, так он высоко прыгнул. А мама еще по старинке, видя задумчивость Гели, посмеивается: «Как там Коля Сазонов?» – «Какой Коля? Ах да... Коля». Померк, полинял, смешался с толпой на улице скромняга Коля, Дон Жуан местного значения. Коля – мальчишка, билетов в автобусе не берет и бегает от контролеров. Ему не совестно. Это вроде шутка такая – не брать билетов, а на самом деле просто жадничает; бедняжка, старается жадничать обаятельно, с гримасами, с подмигиванием. Уже не обаятельно, уже не смешно. И сам все лысеет и лысеет, но говорит, что это у него лоб растет, потому что там, внутри, много-много мыслей. Над Колей и мама смеется, а с этим робеет; когда он звонит, говорит услужливо: «Да, да, сейчас, минуточку. Геля, тебя! – и шепчет: – Твой поклонник». Если бы поклонник! Увы, только друг, только товарищ, только приятель. Видно, в нашем городе не водится больше людей, способных часами рассуждать о Сване, вернее, летними часами напролет слушать о Сване, нет их, таких людей, кроме Гели. Никому не поплачешься на такую дружбу. Полтора месяца дружили; дружили – к руке его не смела прикоснуться. А подруга Алла подошла на улице, сказала ему и Геле какую-то пошлость – и глаза его потеплели, заблестели. Дальше пошли втроем, и никакого тебе Пруста, никакой «Таганки», разговор пошел глупейший, точно с Колей Сазоновым хиханьки-хаханьки – увела. Всегда будет уводить. И мама, называя Колю, отстает. Увы, ей не поспеть за сменой времен года в Гелином сердце, – тогда была робкая весна, теперь лето, собирается гроза, клубятся тучи, стелются низко, истошно пахнут цветы на клумбах – август.
...И вот теперь подруга Аллочка пригласила их к себе. Он не знает дорогу, и она ведет его. Хотя неправда, нет! Это он ведет ее, и она не может встать посреди улицы, топнуть ногой: ни за что! Он торопится и ни о чем не говорит с нею, он чувствует неловкость оттого, что не может скрыть свой интерес к ее подруге. Но послушай же, она так неаккуратно накрашена, тушь комочками на ресницах, у нее грубые, секущиеся на концах волосы, она грубая, грубая! Ну и что? Разве это что-то меняет? Ну и что из того, что Геля уже читает «В поисках утраченного времени», и читает невнимательно, не вникая в чужие страсти, иначе многое ей стало бы ясно.
Впустую прошли все летние вечера, когда они гуляли до тех пор, пока не переставали ходить автобусы, и тогда он своим замечательным жестом ловил для нее такси. И вот она шла, торопясь на чужое свидание, едва поспевая за ним. Он устремился в магазин, забыв о ней совершенно, купил бутылку вина. Они снова вышли на улицу и остановились, пережидая поток машин. Геля почувствовала, что она зябнет – действительно, было солнечно, но довольно прохладно, ясно проступали намеки осени, – но ему было тепло, он не видел, как она обхватила себя руками. Они двинулись дальше мимо старух, торгующих гладиолусами, мимо автоматов с газировкой, от которых чем-то тошнотворно несло, мимо витрин магазинов шагали они, и Геля размышляла, как бы все-таки вырвать его из Аллочкиных хищных коготков, и ей начало казаться, что это вполне возможно, что сейчас он к Аллочке приглядится и ему все станет ясно. Геля повеселела, особенно после того, как он проговорил: «Конечно, твоя подруга не блещет умом, но...» Геля заполнила многоточие по собственному желанию. И ей стало совсем легко. Они вдруг оживленно заговорили об Аллочке, посмеиваясь над нею, причем Геля чувствовала, что ее слова очень остроумны – по крайней мере, он все время нервно хихикал. Так они шли и шли, обмениваясь шутками, охотно смеясь каждому замечанию другого, легко и весело шагали они, как вдруг перед Гелей предстало видение.
Ей навстречу, в стареньком сером пальто, таком старом и сером на фоне толпы, шла ее мать с кошелкой в одной руке и сеткой с бидоном в другой. Ее глаза испуганно округлились, когда она увидела Гелю, она попыталась показать знаком, чтобы ей позволили и дальше совершать свой анонимный поход, но не смогла поднять ни руки с кошелкой, ни руки с бидоном и только слабо качнула головой. Идущая навстречу Геле толпа померкла и отступилась от мамы, отдавая весь свет ее маленькой полной фигуре, ее габардиновому пальто, ее куцему платочку, завязанному, как у детей, крепким узлом под подбородком, голой шее и тускло поблескивающим резиновым сапогам. Расстояние меж ними сокращалось, и Геля только сейчас поняла, как она померкла и постарела за эти четыре года. Мама низко наклонила голову, чтобы не обнаружить себя перед Гелиным великолепным спутником, прошла мимо со своей кошелкой и сеткой, припадая на левую ногу, стесняясь своего пальто и своих красных, измученных рук. Холодный ветер круто развернулся и, почуяв в маме добычу, помчался следом за нею.
– А я не понимаю этих слов, при всем своем уважении к Ивану Сергеевичу не понимаю... – горячась, сказал Татаурщиков. – Что значит Онегин – «лишний человек»? Кому это он лишний?..
– Вы правильно рассуждаете, Татаурщиков, – довольным голосом сказала мама. – Вы правы. И вы не правы. Мы немного поговорим об этом, хоть придется отвлечься от темы. Но тема, которую вы затронули, столь существенна, что позволим себе это отвлечение. Вы правы: Онегин, по нашим понятиям, не может быть лишним человеком, и Печорин, и Чацкий, и прочие тургеневские «лишние» – они вовсе не лишние, скорее наоборот. Прежде всего это умнейшие и образованнейшие люди своего времени, они в какой-то мере определяли духовный климат эпохи...
– Они эгоисты, – подала голос Рыбалина, головка в мелких кудрях, очаровательная мордашка, закройщица в ателье. – Они только о себе и думали, а на страдания окружающих им было наплевать.
– Они сами страдали, – заступилась нескладная Маша Потехина, продавщица продуктового магазина, похоже, она заступалась не столько за лишних, сколько за Татаурщикова. Но Татаурщиков, улыбчиво раскрыв рот, смотрел на Олю Рыбалину. – Их чувств и мыслей не могли разделить те, кому они причиняли страдания, и они от этого мучились и терзали других.
– Как это, не могли разделить их чувств?.. – высокомерно отозвалась Оля. – Татьяна-то натура исключительная... Значит, могла! Она не глупее, между прочим, вашего Онегина, все его книжки прочитала, осилила, значит.
Татаурщиков все улыбался, подперев рукой щеку, смотрел на нее как завороженный. (Ясно тебе, Машенька?)
– Правы и вы, Оля, и вы, Маша, – вмешалась мама. – Конечно, они сами глубоко страдали, и конечно, Татьяна – натура исключительная. Но, Маша, для Татьяны Онегин был с самого начала всего лишь предмет любви – не более, ведь она только почувствовала, что он выше и глубже других, но вполне оценить его никак еще не могла. В том, что он не ответил на ее чувство, нет ничего удивительного, она для него была еще ребенком. Но страдание – опыт души – помогло ей дорасти до него, даже подняться над ним. Действительно, они точно поменялись ролями. Если сначала она, не столько поняв его, сколько ошеломленная им, ослепленная, полюбила его, то позже и он был ослеплен ею, еще не поняв ее до конца. Вот она упрекает его: «Зачем у вас я на примете, не потому ль, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сраженьях изувечен, что нас за то ласкает двор, не потому ль, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принесть вам соблазнительную честь?» И она глубоко, она страшно права: теперь эта новая Татьяна льстила бы его самолюбию, теперь она ему ровня. Но ведь точно такие же упреки мог ей предъявить и Онегин задним числом. Не полюбила же она ни Буянова, ни Петушкова, а может, это были прекрасные люди с отзывчивой душой, но нет – ее поразил великосветский щеголь, денди из Петербурга, ее увлек не виданный ею доселе блеск.
– Вот и я говорю, – подхватила Оля, – они стоили друг друга.
– Не будем больше останавливаться на этой истории, – продолжала мама, – хоть она еще тыщу лет будет хватать за сердце миллионы людей, вернемся к тому, о чем говорил Татаурщиков. Конечно, эти люди лишними быть не могут. И если смотреть шире, ни один смертный не может быть лишним.
– Даже алкаш? – вдруг проснулся и пошутил в своем углу Демидов.
– Да, Толя, даже тот, кто выпивает, хотя на данном отрезке жизни он приносит своим поведением окружающим много горя.
– Раз так, значит, лишний, – сурово сказала Маша Потехина. – Ведь если б его не было, и горя было бы поменьше.
– Кого это если б не было? – насмешливо и угрожающе спросил Демидов. – Меня, что ль?
– И тем не менее ни об одном человеке нельзя сказать, что он лишний. Если изъять из среды тех, кто кажется нам лишним, что-то непоправимо изменится, провалится, уйдет в землю, ведь на свете все устроено так, что одно цепляет другое, – если убрать одно звено, вся цепь разрушится, – объяснила мама.
– Вот-вот, – поддержал Демидов. – Если я, например, пьянь, извините, то у меня сын, может, вырастет не пьянью, а каким-нибудь ученым, а если б не было меня, не было бы и сына, правильно?
– Не надо переходить на личности, Толя, – произнесла мама, – вы сужаете проблему.
– Я это к примеру, – сказал Демидов, – что я – тоже звено.
– Звено-то звено, Толечка, но лучше б завязывал, и голова бы сейчас не болела, – ехидно заметила Маша.
– А может, оно нелишнее, что у меня сейчас голова болит, значит, она для чего-то болит, а для чего – мы и сами не знаем...
– Вот и дождались, – засмеялась мама, – Толя буквально спародировал нашу с вами дискуссию.
– Он всегда находчивый, когда речь идет о знакомом ему предмете, – опять доложила Маша.
– Ладно вы, балаболы, – вмешался Татаурщиков, – уши вянут слушать. Мы говорим о лишних людях и о том, почему их так называют, а не о всякой ерунде. Почему же их называют лишними?
– А вам не случалось, Витя, – сказала мама, – говорить о не очень умном человеке приблизительно так: «Ну, он голова!» Чувствуете оттенок? Так и Тургенев – он называет этих людей лишними с горьким сарказмом. Лишние потому, что не могут приспособиться к другим, не могут найти применения своим силам, своему интеллекту, лишние потому, наконец, что общество еще не доросло до них, – вот отчего они лишние, я думаю...
«Надо же, – подумала Тая, – вот как здорово у них проходят уроки, не то что у нас. Вот возьму завтра и спрошу Анну Федоровну про лишних людей. Так она скажет, конечно, что мы сейчас Морозку и Мечика проходим, а не лишних».
Щеки у мамы все еще горели. Ученики расходились. Мама только сейчас открыла журнал и обнаружила, что сегодня так и не спросила никого, а ведь конец четверти, оценок в журнале мало. Снова раскрутили ее и обвели вокруг пальца.
– Ну что, Тая, – спросила она, – понравились тебе ребята?
– Татаурщиков – ничего, – сказала Тая, – но твой прежний любимец Руденко был интересней.
– Не скажи, Татаурщиков умница. Всегда в каждом классе находится несколько человек, с которыми интересно. А чего ты, собственно, вдруг явилась?
– Я тебе зонт принесла.
– Дождя нет, между прочим, – сказала мама. – Так что случилось?
– Ничего. Нельзя, что ли, прийти было?
– Можно, конечно, только, пожалуйста, будь скромнее. Я и ученикам не разрешаю опаздывать, а ты врываешься посреди урока, это некрасиво.
– Мама, – торжественно сказала Тая, – я тебя послушала и поняла: мне оттого так трудно в жизни, что я лишний человек. И общество еще не доросло до меня.
– Бедное общество, – пожалела мама. – Ну, может, если оно привстанет на цыпочки, то дорастет, а?
– Нет, мама, – с горечью произнесла Тая, – и тогда не дорастет. Вот так всегда – сначала мы ему лишние-лишние, а как помрем, так выяснится, что были самые насущные.
– Ну да, – подтвердила мама, – ты ужасно насущная.
– Я – это камень в стоячее мещанское болото.
– Это ты Оле своей рассказывай, – она тебе поверит. Она тебе пока еще верит.
– Чем я не лишняя? – продолжала Тая с увлечением. – Учителя в школе на меня волком смотрят, в классе не любят, родители моих подруг меня не выносят. Выходит, самая что ни на есть лишняя.
– Демидова тоже ругают в цехе за прогулы, и родители тех ребят, с которыми он дружит, тоже его терпеть не могут, потому что он пьет. Но это еще не главный признак того, что он тот самый лишний человек, у тебя мания величия.
Тая вздохнула и раскрыла над собой зонт.
– Вот-вот, – сказала мама, – ты именно такой человек, который берет зонт, когда на небе ни единого облачка, но если льет дождь – все наоборот. Пошли домой, лишний человек...
«А главное мучение, – думала мама, шагая под руку с дочерью, – не могу понять, что у нее на уме. Все ее ровесницы уже определились, а эта неизвестно о чем помышляет. Или она сама этого не знает, или знает, но не желает говорить. Как хорошо, если б в этих безмятежных глазах можно было читать мысли. Или нет, нехорошо, страшно? О чем хочешь говорит с подкупающей искренностью, но как заходит речь о главном – замыкается, отшучивается, и ничего не сделаешь с ней. Не могу подыскать интонацию для разговора с нею, сама себя ненавижу за базарные нотки в голосе, но ведь именно этим голосом кричит моя тревога о ней! Я знаю все ее любимые лакомства, оперы и цветы, помню все ее болезни с пеленок, но главного не знаю, и она не хочет, чтобы я знача. Уходит, уходит – куда? Так знаю я или нет о ней главное? Может, я считаю, что это вовсе не главное, что я знаю о ней, а главное – в какой институт она задумала поступать, в какой уезжать от меня решила город?..»
Какой там может быть институт, когда в Таиной тыщу раз ею обруганной и недостойной жизни наконец появился некий витамин, под воздействием которого жизнь выздоровела, налилась силой и юностью, и назывался этот витамин с легкой руки Вальки – ходить по острию ножа.
Валька была Таиной одноклассницей. Уже в девятом классе у нее была смелая любовь с физкультурником, а в начале десятого – с одним маменькиным сынком, страшным нюней, который Валькины чулки был готов стирать, но привести ее в дом для знакомства с родителями не смел, и Валька великолепно бросила его, наставив рога с его же, нюниным, приятелем. Что будет после школы, Бог знает, а Валька и не предполагает, плевать – отчаянная девка. Эта Валька начала таскать Таю по компаниям; положа руку на сердце, компании были неподходящие, и Тая не подходила к этим компаниям, потому, когда приближалась полночь, норовила, как Золушка, улизнуть. «Однова живем», – веселилась Валька, ничего не боялась, ничего не жалела, не пожмотилась Тае подарить лучшие свои клипсы. Жила она в центре в коммунальной квартире с матерью, еще молодой, с такими же, как у Вальки, живыми, смеющимися глазами. Про материных ухажеров Валька говорила симпатично: мой сто первый или, дай Бог памяти, сто второй папочка. (Папочки, к слову сказать, уже зарились на саму Вальку, и в доме возникали легкие скандалы.) Валька напропалую кокетничала; где бы она ни появлялась, вместе с ней возникала тревожно-радостная атмосфера, насыщенная ожиданием чудес, мужчины начинали острить и искриться. «Дурни эдакие», – упершись рукой в матерое бедрышко, говаривала Валька. Дурни млели, подчинялись ей, представлялись холостыми, бежали за вином и шоколадом, косясь на Таю – а это что за птичка? Птичка и сама не знала, что она за птичка, а Валька была стреляный воробей. Поднимался вихрь, небольшой такой вихрик, взвивались в воздух студенческие, с трудом накопленные на магнитофон рубли, орала музыка, доставались родительские сервизы, пока родители пахали себе в ночную, дрожал пол, дрожали свечи, бились бокалы, Валька выстраивала всю честную компанию в цепочку и заставляла мальчиков танцевать «летку-енку»... Комната плавала в дыму. Тая сидела в сторонке, тоже курила, держа руку на отлете, к ней приставали неуверенно и даже неохотно, от Вальки же не отлипали, хотя она щедрой рукой направо и налево отвешивала пощечины, бормоча: я девушка серьезная и воробей стреляный. Из компании в компанию вместе с ней кочевал получивший отставку нюня, жаловался Тае на Валькину жестокость, умолял посодействовать. Однажды в такой компании Тая встретила ученика своей матери Татаурщикова. Он узнал ее, изменился в лице, подошел к Тае и, крепко взяв за ухо, вывел за дверь: «А ну марш отсюда!» Тая испугалась и слиняла.
Было много другого авантюризма: голосовали, останавливали грузовики и мчались с шофером Бог весть куда, со смехом, с Валькиными шуточками, с сиянием глаз. Шофер доверчиво останавливал машину и несся в гастроном, девицы, похихикав, исчезали. Были чьи-то сомнительные дни рождения, сомнительного качества стихи, которые выкрикивал какой-то якобы известный поэт, говорил, что всюду печатается, врал, наверное; был какой-то Димуля, неряшливо одетый, всклокоченный, намекал, что он вор в законе. Были новогодние праздники в каком-то общежитии, выбили окно – от милиции укрылись, было, было... И ничего не было, пустота одна, все к весне надоело. И развеселая Валька надоела, и ее нюня, переключившийся на саму Таю, и дружный вой: «Утки все парами, как с волной волна», и дым коромыслом, и ходить по острию ножа надоело. Та же скука, та же неопределенность, и мысли – куда дальше, куда дальше, зачем живем?
И вот однажды, оказавшись в каких-то смутно, непонятно откуда взявшихся гостях – именно так, не Тая возникла среди них, а они появились, точно из воздуха, вокруг нее, сидели на подушках, разбросанных по полу, пили дешевую сладкую гадость, – Тая тоже хлебнула из общей пивной кружки, чтобы показать, что не брезгует, не обидеть. Какой-то взрослый, скорее даже пожилой мужчина вцепился в Таю не на шутку. Вальке он понравился – вылитый Жан Маре! – но Валька ему не приглянулась, а вот от Таи он не отходил. Гости исчезали. Тая же им удерживалась сначала как бы в шутку, потом со свирепой серьезностью в совершенно трезвых глазах. Он закрывал двери за уходящими и оттирал от двери норовящую ускользнуть Таю. Валька перешептывалась с каким-то пьяненьким дружком хозяина – физиономия в слащавых бакенбардах, вполне смазливая, – Валька таким доверяла. По-настоящему Тая испугалась, когда и Валька с бакенбардами ушли якобы на кухню и куда-то исчезли. И тогда Тая уже в жарком ужасе воззрилась на Жана Маре, который уже и руку – вполне свинцовую лапу – наложил на Таино плечико и тянулся чокнуться. Тая дрожащим голосом запросилась домой – нет, невозможно! – потом попросила горячего чаю – это можно. Мужчина убрался на кухню, а она бросилась к раскрытому настежь балкону. Кроны деревьев шумели внизу. На соседнем балконе парень вывешивал мокрые тренировочные брюки на веревку. Тая, торопясь, перелезла через перила и как в лихорадке закричала парню, чтобы он подал ей руку.
– Сдурела, – сказал он, – пятый этаж...
– Руку! – закричала Тая.
– Стой! – Парень оказался догадливым. – Полезай назад, чокнутая, я сейчас там дверь выломаю, если не отопрет...
Она моментально поверила в свое освобождение. Дверь высаживать не пришлось. Свирепый Маре, после того как отчетливо постучали, выругался, с ненавистью глядя на Таю, и пошел открывать. Оказалось, паренек за дверью не один, с отцом, человеком внушительным и серьезным.
– Ух и дал бы я тебе по шее, – сказал отец рыдающей Тае, а парень взял ее за руку и повел прочь.
Дорогой Тая вполне освоилась, рыдать перестала и неблагодарно огрызалась на упреки, которые взрослым голосом произносил ее ровесник.
Но в общем, парень ей приглянулся. И в общем, она уже кокетничала.
– Наш сосед на Севере деньгу зашибает, – объяснял парень, – а ключи оставил дружкам, и мы уже привыкли, что в этой квартире тамтарарам. Отец уже пару раз разгонял компании. А этого мужика я вообще впервые вижу, а ты?
– Ладно уж, – пробормотала Тая, – спаситель. Ну спас, молчи теперь, чего уж напоминать о своем благодеянии.
– Тю! Я и не напоминаю, – удивился спаситель, – но учить тебя некому, точно. Как хоть тебя зовут?
– Мерседес, – сказала Тая.
Ночью маме приснился сон...
Она лежала в своей комнате, уставившись без всякой мысли в полоску света, пробивавшегося из комнаты девочек. Послышался ворчливый голос Таи: свет, видите ли, мешал ей. Опять до глубокой ночи шаталась неизвестно где, а явилась с кротким, виноватым лицом, но, взглянув на мать, тотчас же углядела, что нагоняя не будет, и выклянчила рубль. «Лентяйка, лгунишка, – думала мама, – и нет сил угнаться за нею. Ни на что больше нет сил. В школе спят и видят, как бы с подарками и причитаниями спровадить меня на пенсию. Прибытков уже руки потирает: конечно, его жена будет читать курс не хуже меня. Как это жестоко – дожить до таких лет безо всякой защиты и помощи!» Опять послышалось Таино ворчание, и свет погас.
До таких лет! Кто бы мог подумать, что ее жизнь превратится в узкий темный коридор, по которому она ковыляет, теснимая со всех сторон бедами. Ветер пел о том, как хорошо в такую ночь быть молодой, влюбленной. В форточку пахнуло весной, по небу шли темные, с багровым отсветом облака, как тени, ветер выл, заметал на небе самые следы слабых апрельских звезд. Никто, ни один человек уже страшно подумать сколько лет не называет ее Мариной, она носит как дополнительную тяготу отчество, и после рождения Гели даже ее собственная мать стала называть ее «мамочкой». Ветер выл, раздувал паруса, в большой комнате трещал камин, там обычно собирались до слез любимые друзья; когда они собирались, не всех можно было усадить. «Они свисают гроздьями с веранды», – говорил отец, он очень любил свою старшую – кудрявую, смешливую, первую красавицу города. «Нам с отцом уже и места в доме нет, – довольным голосом вторила мать, – нет отбоя от твоих кавалеров!» – «Они не кавалеры, а друзья», – услышала она свой собственный голос, который мог звучать одновременно во всех уголках их просторного дома. В городе бурно дышала весна, через заборы перевешивалась пена яблоневых садов, оживали, оттаивали трамваи, тренькали каким-то обновленным звоном, рассвет заставал ее на ступеньках веранды, она сидела на коврике, прислонясь спиной к стене, а несколькими ступеньками ниже стоял какой-нибудь воздыхатель с печальными глазами. Марина! Этому не могло быть конца. Легким весенним чувством жила она в окружении преданных друзей, щебечущих подружек. Она училась на филологическом, Александр был химик. В то время все ее знакомые говорили о нем – мальчики сдержанно, девочки восторженно. Учился он прекрасно, имя его мелькало в научной периодике; профессор Богомилов, великий умница, настоящий ученый, души в нем не чаял. Марину тоже любили на факультете. Когда она входила в аудиторию, со всех сторон неслось: «Марина, сюда! Сюда, Марина!» Сколько у нее было мест, сколько иных возможностей!








