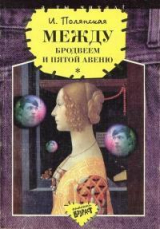
Текст книги "Между Бродвеем и Пятой авеню"
Автор книги: Ирина Полянская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Но чем? Когда? Эти вопросы задавала себе мама и не могла найти на них ответа. Она хорошо знала отца, с людьми, чем-то задевшими его, он порывал отношения излишне шумно, громогласно, с привлечением широкого круга людей. Но вокруг этой истории возник заговор молчания. Никто ничего не знал. Никто ничего не мог объяснить. Мама отправилась к Альберту домой. Вернулась она еще более растерянная и расстроенная. Альберт отказался что-либо объяснять, а когда мама принялась настаивать, он, смертельно бледный, через силу произнес: «Умоляю вас, не требуйте от меня ответа. Я... я ничего не могу вам сказать...» Так в чем же она заключалась, эта правда? И мама, и бабушка ни минуты не сомневались, что виноват в чем-то был отец, а не Альберт, но в чем? Они принялись перебирать варианты. Альберт поймал отца на плагиате? Невозможно. Отец предложил Альберту какую-то сделку? Бред. Но что же, что? Бедные, они искали вовсе не там, где следовало. Никому из нас не пришло в голову увязать в один причинный узел уход Альберта, смущение отца, когда с ним заговаривали об Альберте, и особую, ставшую в последнее время какой-то торжествующей и одновременно виноватой тихость Наташи. Наташа казалась маме и бабушке такой никакой, таким совершенным нулем и пустым местом, что даже если бы кто-то из них застал ее и отца на выяснении своих уже существующих отношений, как, очевидно, случилось с Альбертом, то они бы глазам не поверили. Что угодно можно было ожидать от отца, но только не измену, ведь он всегда с таким чувством говорил о нравственных устоях семьи, но это была измена, и это была Наташа, и все мы, в том числе и бабушка, ставшая впоследствии на сторону отца, поплатились за свое легковерие и снисходительную иронию к тихой Наташе, которую бабушка, как бы путая, временами называла Соней, намекая на одну из толстовских героинь. Но Наташа и не думала поправлять бабушку. Соня так Соня, хоть Ефросинья. Никто из нас, кроме тебя, не подозревал тогда, что Наташа ведет точный счет обидам, нанесенным ей в нашем доме, что у нее имеется целая бухгалтерия проглоченных едких намеков и замечаний, что она не такая уж никакая, как нам грезилось... Но у тебя был абсолютный слух, ты что-то слышала в ее голосе, ты что-то видела в душе этой русалки, которая для других была прозрачна и ясна как Божий день, а твой взгляд наталкивался на иное, вовсе не то, что сулили слова и застенчивое помешиванье сахара в стакане, когда она боялась зазвенеть ложкой; ты уворачивалась от налитого ею чая, точно прозревала накапанный туда яд, не изменивший ни вкуса, ни цвета жидкости, твой пристальный взор заставлял ее поеживаться, отец замечал, что ты пугаешь Наташу, и еще больше не понимал тебя. Ты удалялась из-за стола и шла в нашу комнату вертеть волчок, а отец, чтобы утешить Наташу, выпивал злополучный напиток, после чего не падал, отравленный, – у него был здоровый желудок и стальные нервы.
– Вот варенье, – любезно угощал он, – очень вкусное.
– Очень, – соглашалась Наташа и скромно пробовала. Марина же резвилась, пугая комплиментами Гошу, Серафима Георгиевна выспрашивала у Цилды, кем она собирается стать, не век же ходить в лаборантках. Цилда, рослая плотная девица с милым акцентом, ответствовала, что да, не век, конечно, она собирается стать женой одного перспективного студента (Гоша как бы не слышал) и никем больше – женой, с нее хватит. Вообще она спуску старухе не давала. Геля, старшая дочь Александра Николаевича, смотрела отцу в рот, ей было приятно, что он так добр с жалкенькой Наташей.
И вот при такой мизансцене и при таких позах и лицах, которые наметил именно бы в подобном порядке режиссер будущей драмы, прозвучало слово «рояль».
– Вы хотите купить девочкам пианино?
Серафима Георгиевна поправила:
– Рояль. Это, видите ли, не одно и то же.
– Рояль – большой, – тихо объяснила Гоше Наташа, – пианино поменьше.
– Конечно, конечно, – сказала Цилда, миролюбиво улыбаясь, – но в магазин завезли только пианино, две штуки. Мои соседи справлялись: пианино, не рояли.
– Дело в том, – сказала бабушка, чувствуя на себе взгляд Марины, – что мы действительно сначала решили приобрести пианино. Но вчера Саше на глаза попалось объявление о продаже рояля. Сегодня мы пойдем, так сказать, на смотрины.
Марина побледнела. Ей было все равно, рояль ли, барабан ли – из сказанного она уловила одно: с мамочкой поделился, а с ней нет, с мамочкой все успел обговорить.
– Рояль займет слишком много места, – дрожащим голосом сказала она.
Гости затаили дыхание. Они-то видели, что началось ристалище и два всадника с опущенными забралами, с копьями наперевес движутся через кухонный стол, швыряя на пол чашки, навстречу друг другу. Свекровь слегка усмехнулась, как человек, знающий, что он собою владеть умеет и с ним все в порядке, а вот соперник сейчас продемонстрирует свою слабость и неумение себя вести.
– Рояль займет слишком много места, – повторила Марина.
На это свекровь заметила добродушным тоном, что некоторые люди, к сожалению, отдают предпочтение целесообразности перед красотой. Конечно, добавила она, рояль громоздкая штука, но если думать о нем как о мебели, то лучше всего купить балалайку (отец залился хохотом, Гоша издал хриплый смешок), ибо она, балалайка, займет мало места, и для нее вполне достаточно лишь гвоздика в чулане. Александр Николаевич потрепал жену по щеке; рояль и только рояль, сказал он, может сообщить девочкам то чувство ответственности, которое необходимо для такого важного занятия, как музыка, рояль – это целая держава, автономия музыки в доме, а не мебель у стенки; хорошо также и то, что этот инструмент, конечно, имеет свою историю, а он лично верит в вещи, у которых есть своя история и индивидуальность, и не терпит запаха серийного выпуска!
Странно было услышать это признание из уст человека, не терпящего лжи, человека, для которого серийность людей и поступков являлась как бы условием его собственного существования, каковое не было столь независимо, как нам в то предлагалось поверить; всяческая индивидуальность, неожиданность человеческого экземпляра были ему противопоказаны. Неловкая пауза была ответом на это признание. Наташа опасливо покосилась на Серафиму Георгиевну, ожидая увидеть усмешку на ее губах, но мать Александра Николаевича, откинувшись на спинку стула, с удовлетворением пасла на лице сына выражение непреклонной воли. Марина крошила в руках печенье.
– Спросим у самих девочек, – решил отец.
– Хочу рояль! – стукнула кулачком по столу старшая.
– А где Таюша? – спросил отец.
– Ты ее наказал! – крикнула Марина, выскочила из кухни, швырнув дверью.
Отец нахмурился. Гости с выражением такта на лицах заторопились. Серафима Георгиевна иронически удерживала их. Наташа участливо посмотрела на Александра Николаевича, вздохнула и на цыпочках двинулась прочь.
– Не сердись на нее, – сказала Серафима Георгиевна, – ты же знаешь, как она нервна. Не надо портить детям воскресенье.
Александр Николаевич побарабанил пальцами по столу и, не отвечая матери, пошел к жене. Со страхом мы прислушивались в своей комнате к голосам родителей за стеной. Ты зажмурилась. Нам казалось, они говорили устало. Мы не знали, как лучше: когда кричат и плачут или когда говорят усталыми голосами? Вошла бабушка, шепнула:
– Детки, одевайтесь!
Мы оделись в плюшевые пальто с капюшонами, ты в алое, я в синее, мы стали похожи на двух пажей нашей величественной бабушки. Пальто отца, оставшееся висеть на вешалке, казалось вполне безобидным существом, бабушка подала нам руки, и мы вышли на улицу.
– Не переживайте, детки, – ласково сказала бабушка. – Мама с папой сейчас поговорят и выйдут.
Но мы задыхались от недобрых предчувствий, мы молча шли ко дну – я за тобой, – исчезали в пучинах горя, которое не умели выразить, и никто не мог нас утешить; мы уже что-то прозревали.
Но вот из подъезда вышли родители с совершенно обычными лицами.
– Большинством голосов принят рояль, – сказал отец. – Если он в приличном состоянии – приобретаем.
Мама сделала гримаску, и мы рассмеялись, всплывая на поверхность отличного воскресного дня 1957 года.
День был чудесный, солнечный, в воздухе перебродил запах талого снега, солнце припекало сквозь путаницу голых, блестящих веток, из окон рвалась музыка тех времен, звенели трамваи, в синих лужах проплывало отражение облака.
Мы потянули отца за руку на автобусную остановку: нам хотелось как можно скорее оказаться там, где ждал рояль. Отец проявил редкостное для него понимание, и мы несколько минут постояли на остановке, причем отец заметил: он себе никогда не позволил бы так опаздывать, как этот автобус. Бабушка, хоть ты и дернула ее за рукав, высказала предположение, что по такому чудному воздуху и утренним просторам недурно бы пройтись через парк; отец спросил, как смотрят на это товарищи дети, товарищи дети уныло сказали, что смотрят на это весело, и мы двинулись через парк, с трудом поспевая за ним. Мама, да и мы вскоре начали отставать от отца, бабушка еще старалась шагать с ним в ногу. Ой шел с упрямо склоненной головой, отчего обозначился второй подбородок, ветер ушибался о его ясный лоб и отшатывался. «Какой воздух!» – говорил он и вдруг понимал, что никто, кроме деревьев, его не слышит: бабушка отстала, мы отстали. Он поджидал нас, разминая в пальцах кусок коры, вдыхая знакомый аромат весны: «Какой воздух, а?» – «Чудный, чудный», – отвечала бабушка. Парк был пройден, мы вышли на улицы той части города, что была расположена на берегу Даугавы.
Знакомые на улице с удовольствием раскланивались со Стратоновыми. Александр Николаевич с некоторой поспешностью снимал шляпу и несколько раз кивал с любезной улыбкой, девочки приостанавливались, делали книксен, как было принято в этом прибалтийском городке. Иногда Александр Николаевич задерживался где-нибудь на перекрестке, выхватив из толпы какого-нибудь знакомого; люди обтекали их, знакомый застенчиво отвечал по-русски, а Стратонов, довольный тем, что так легко усвоил чужой язык, говорил по-латышски. Авторитет Александра Николаевича тогда был высок.
Они свернули в совершенно тихую улочку. Здесь один за другим шли старинные особняки с башенками, балкончиками, циркульными оконцами и пышными подъездами. Липы, как швейцары, стояли у входа, им-то некуда было бежать от этих доживающих свой век некогда роскошных домов. Два года назад, когда Стратоновы только приехали в этот город, Александру Николаевичу предложили квартиру в одном из таких домов, но он наотрез отказался, потому что в особняках не было центрального отопления и газа, да и система канализации безнадежно устарела, не говоря уж о том, что это теперь была окраина, а Стратонов не желал зависеть от транспорта, ни от чего, ни от кого не желал зависеть.
Стратоновы поднялись на второй этаж по деревянной с широкими скользкими перилами лестнице, вдыхая грустный запах старого дерева, ветхости, заброшенности, и отец постучал уверенной рукой в массивные двери. Казалось, со всех сторон дома, из каждого уголка в ответ раздались шаги, вспорхнули тени, дверь открылась, и тут произошло что-то странное – воздух вдруг затвердел, покрылся амальгамой: дверь отворилась в зеркало.
Стратоновы стояли на пороге, образуя группу из четырех женщин: бабушка и мама обнимали с двух сторон девочек, отец отступил к стене, собираясь пропустить вперед свое семейство. Через порог в темной глубине коридора стояли те же женщины, те же девочки. Старуха с пышной седой шевелюрой с той стороны пристально смотрела на величавую старуху с этой, маленькие кудрявые женщины уставились друг на друга в удивлении, девочки против Гели и Таи стояли, так же сцепив пальцы. Все те были в темных платьях, чем отличались от нарядных Стратоновых. Тут точно рябь прошла по глади зеркала, странный обман нарушился – это выступил вперед Александр Николаевич, ничего удивительного, кроме траурных платьев, не заметивший и сразу угадавший их смысл, – но что-то сжало сердце Марины.
– Прошу вас, – проговорила в это время женщина, – заходите. Входите, девочки.
– Палдиес, – хором сказали Геля и Тая.
Старуха, подняв одну бровь, посмотрела на них, повернулась и молча двинулась по коридору, включая по дороге свет и освещая узкий от надвинувшейся со всех сторон печали туннель.
Александр Николаевич с сомнением покосился на непрочно прибитую, скособоченную вешалку и сделал знак остальным оставаться в пальто. Старуха плавно шла впереди, сопровождаемая девочками, а женщина, увидев, что Александр Николаевич наклонился и развязывает шнурки ботинок, замахала руками. Стратоновы, торопливо вытерев ноги, пошли вперед мимо велосипедов, прислоненных к стене, железной ванны, трюмо, пузатого комода.
– Сюда, пожалуйста, – произнесла женщина, встав в дверях одной из комнат. – Вот инструмент.
...Он был похож на затонувший корабль, помнишь, нам именно это сравнение пришло в голову, едва мы увидели его в целом, без подробностей, обнаруженных после, – пожелтевших клавиш, исцарапанной подставки для нот, – мы ощутили отчетливый запах покинутого жилья, сиротский запах ящика, из которого отхлынула музыка и жизнь так давно, что, положи сейчас руку на клавиши, рояль не поверит и отхватит руку по самую кисть. Его струны уже привыкли к летаргическому сну. Мы увидели единственную вещь, осевшую на глади рояля, прежде захламленного нотами, линованной бумагой, партитурами опер, – это была репродукция портрета нежного гения гармонии, фотография его же надгробия висела на стене. С высокого лепного потолка к самым клавишам спускалась люстра с самодельными стеклярусовыми светильниками; кресло выразительно выгнуло ножки, точно собиралось бежать, если кто-то осмелится в него опуститься. Чувствовалось, что прежде в этой комнате правил рояль, все от потолка до паркета было подчинено ему. Нам показалось, он пустил корни в пол, отодрать его будет невозможно, но мы уже хотели его, и только его, во что бы то ни стало, а не белозубое с зеркальными боками пианино.
– Сюда, пожалуйста, – повторила женщина.
Губы отца дрогнули; он взглянул на жену, и она прочитала в его взгляде: однако где еще найдешь такое ископаемое? В какой гробнице, у чьего саркофага оно несло тысячелетнее дежурство?
– Инструмент действительно очень старый, – подтвердила старуха, – мой сын приобрел его в одной семье много лет назад.
– Разве ваши девочки не учатся музыке? – спросила Марина.
Старуха посмотрела мимо нее и без всякого выражения в голосе сказала:
– Мой сын трагически погиб месяц назад.
– Мама, – укоризненно шепнула женщина.
– Мой сын трагически погиб, – повторила старуха, не глядя на невестку, точно ее тут и не было. – С того дня никто из нас не открывал крышку инструмента.
Бабушка, которая уже чуть было не прикоснулась к клавишам, отвела руку.
– Нет, прошу вас, – с некоторым высокомерием продолжала старуха, – вы должны попробовать, конечно.
– Может, вы нуждаетесь в деньгах, – участливо произнес отец. – Не могу ли я чем-то вам помочь?..
– Мы, безусловно, нуждаемся в деньгах, но ничем помочь вы нам не можете, – отрезала старуха.
– Мама! – воскликнула женщина.
– Помолчите, Анна. Лелдэ, – обратилась старуха к девочке, – вытри, будь добра, пыль. Геля, пододвинь кресло.
– Какое совпадение, – пролепетала мама, – нашу старшую тоже зовут Геля.
– Но вы не латыши? – спросила женщина.
– Нет, и имя у нее русское – Ангелина, Геля.
– Нашу зовут Геленой, отец был наполовину поляк...
– Анна, эти подробности людям ни к чему, – сказала старуха.
Серафима Георгиевна ударила по клавишам, и блистательная мазурка Шопена сверкнула из-под ее рук.
– Мать, у людей горе, что-нибудь потише, – сказал по-немецки отец.
Бабушка оборвала мазурку и пробежала по клавишам гамму.
– Сколько стоит ваш инструмент? – спросил отец. Старуха назвала цену.
Таких денег у Стратоновых не было. Но стихия сострадания уже подхватила отца.
– Инструмент прекрасный, – подтвердила бабушка, – чуть западает соль второй октавы, но это пустяки.
– Отчего же, – возразила старуха, – мы вызовем мастера, не беспокойтесь. Мы продадим инструмент только в хорошем состоянии.
Бабушка еще раз пробежала пальцами клавиатуру и заиграла фантазию Шопена. Марина посмотрела на старуху и чуть не вскрикнула: та стояла совсем бледная, сжав зубы, как под пыткой. Женщина, похожая на Марину, качнулась и, схватившись рукой за грудь, бросилась вон из комнаты.
– Держите себя в руках, Анна, – слабым голосом ей вслед сказала старуха.
Глаза у Таи наполнились слезами, она протянула руку и погладила младшую из девочек по голове. Та удивленно посмотрела на нее, перевела взгляд на бабушку и отодвинулась.
– Решено, – сказал отец, – завтра утром я договорюсь с грузчиками.
– Может быть, вы еще передумаете продавать инструмент, – произнесла бабушка, – у вас растут девочки...
– Не дай вам Бог на старости лет потерять сына, – усталым голосом ответила старуха.
Серафима Георгиевна опустила крышку рояля, и Марина вздрогнула: ей показалось, что они все сейчас должны пройти и кинуть на этот черный ящик горсть земли. Нет, нет! Рояль, как троянский конь, со скрытой в нем похоронной музыкой будет в ее доме?.. Нет, нет!
– Всей душой сочувствую вашему горю, – сердечно сказал отец.
– Благодарю, – отозвалась старуха. – Лелдэ, проводи, пожалуйста, людей.
– До свидания, – прошептала девочкам Геля.
– До свидания, – дружно ответили те.
«Ни за что, – думала Марина, – ни за что не позволю им купить эту вещь со следами чужого горя. Им не вырвать на это моего согласия. Им без него не принести и не поставить эту вещь в дом, где...»
...Вырвавшись из дупла, разгневанно орала кукушка. Часы тикали, но время, как раненный в живот зверь, ревело, выбрасывая из отворенных жил живую кровь живых и прах мертвых, вещи и произведения искусства, мелкие соображения и великие мысли, мамонтов, мотыльков, рояли и пудреницы, и ветер весны над городом, раздувая щеки, гнал по небу ампирные облака.
2. Предлагаемые обстоятельства
Тая вернулась домой поздно, но застала сказку в самом ее «жили-были». Мама с воодушевлением, от которого ее лицо помолодело, рассказывала Геле, как она написала сегодня жалобу на продавщицу магазина. Старшая дочь с таким же воодушевлением внимала ей, будто речь шла о какой-то грандиозной победе. Увидев в дверях комнаты младшую, мама запнулась, но перевела взгляд на Гелю и, черпая вдохновение в ее доверчивом восторге, продолжила свое повествование...
Она стояла в очереди за окороком. За исключительным, совершенно постным окороком «Тамбовским». Продавщица, мстя очереди за свою несовершенную личную жизнь, отпускала медленно, с издевочкой в движениях большого, уставшего за день тела. Мама для пущей убедительности в двух словах описала пеструю очередь и голоса протеста из самой ее глубинки, где терпеливо стояла она сама. Люди, раздраженные медлительностью продавщицы, робко, но роптали. (Тая прошла в коридор и сняла шубу.)
– ...И тут довольно нахальная особа, знаешь, из тех, кто не привык стоять в очередях, с перстами, отягощенными кольцами, – очевидно, знакомая продавщицы, скорее всего, сама продавщица из галантереи или же из магазина «Книга», а может, и не продавщица вовсе, а парикмахерша, маникюрша или прочий нужный человек, одним словом – без очереди: полкило. А он, окорок, уже кончается. Та, что в перстнях, парикмахерша или маникюрша, шепнула что-то продавщице, отпускавшей окорок; продавщица, перегнувшись через прилавок, что-то интимно шепнула ей в ответ, и они скрепили свой тайный сговор и дружбу пятьюстами граммами «Тамбовского» окорока, самой постной его частью. Очередь двигалась медленно, терпеливо, окорок таял. И тут к продавщице подошел юный нахал – возможно, директор кинотеатра или грузчик из мебельного – и, не сказав ей ни слова, протянул чек и получил четыреста граммов. После этого продавщица обратилась к следующей покупательнице. Заметь, что эта покупательница, когда перед ее носом влезли без очереди, ни слова не произнесла – вот как привыкли к хамству.
Геля сказала: «Да! Да!» – и прищелкнула языком от возмущения.
– Покупательница была, оказывается, без чека, потому что обычно, пока окорок не завесят, не знаешь, сколько выбивать, но она не знала порядков, то есть беспорядков, в этом магазине.
Продавщица буркнула ей: «Ступайте в кассу» – и обратилась ко мне, – продолжала мама.
Потом эта женщина сказала ей: «Ну вы уж завесьте мне, а то в кассе очередь, и пока я вернусь с чеком, окорок может кончиться». Но продавщица, вперив в нее ядовитый взор, заявила: «Успеешь, а нет – так не моя печаль». Женщина прошептала про жалобную книгу. Продавщица презрительно ухмыльнулась, ибо она была уверена, что книга зарыта в надежном месте и недосягаема для покупателей, и, точно компенсируя в глазах очереди только что проявленное хамство, обратила внимательный, полный привета взгляд к маме, ожидая ее приказаний. Та женщина принялась уговаривать продавщицу, но вновь была отвергнута. Продавщица показала ей точеный высокомерный профиль с двойным от близости к окорокам подбородком. И тогда заговорила мама. Пронзительно и гневно она посмотрела на продавщицу, душа которой сразу же удалилась в пятки, хотя она еще до конца не поняла, с кем имеет дело, и все еще пыталась отстоять свою фиктивную зависимость от чека, без которого никак невозможно выдать двести граммов окорока «Тамбовского». Вдохновленная мамой очередь заволновалась, вспоминая обо всех неотраженных оскорблениях и недовесах, имевших место в этом отделе, и на продавщицу повеяло общественным холодом. Тем не менее она брякнула ножом о доску, на которой резался окорок, и предложила покупателям встать на ее, продавщицыно, место да попробовать попахать часок-другой, у нее, продавщицы, кроме «Тамбовского» окорока, еще и нервы имеются, «а вы шумите, а вы работать мешаете...» Женщина, навлекшая на себя немилость продавщицы, переминалась с ноги на ногу и собиралась уже уйти ни с чем, когда мама в энергичных и саркастических выражениях напомнила ей о том, что ее только что смертельно оскорбили, к ней обратились на «ты», и очередь секундантов взволнованно подтвердила это. Женщина снова неуверенно протянула полиэтиленовый мешочек, но продавщица сдунула его с прилавка, как сухой осенний лист, и женщина оставила свое сопротивление. Пощечина была бы вовек не смыта и позор не отомщен, кабы не мама, которая, построив очередь в четкие ряды, размахивая авоськой, повела людей на штурм директорского кабинета. Навстречу шумной процессии вынеслась директриса с лицом, выражавшим крайнее сочувствие и нежность к покупателям, и, призывая в свидетели грузчика, прилепившегося к телефонной трубке в ее кабинете, схватила маму за руки, клянясь самым для нее заветным, что скоро выйдет из декрета Танюша и тогда будет кому работать, а сейчас Лиля одна, за всех одна, и потому нервная, да еще и с мужем недавно разошлась, поймите ее по-человечески! «Все недавно с мужьями разошлись!» – раздался крик из очереди. А жалоба, сами понимаете, продолжала директриса, заглядывая маме в лицо, не одну Лилю лишит прогрессивки, но и весь наш в общем-то здоровый коллектив, включая ее, директрису, которая, конечно же, примет к Лиле меры и задаст ей перцу в конце рабочего дня, – так что нет, не пишите жалобу, а не то пострадают все ни за что ни про что, пела директриса, апеллируя к грузчику, прикипевшему небритой челюстью к трубке.
Но нет, речь шла о человеческом достоинстве, которое мы должны беречь, как Родину, в сравнение с ним не могла идти никакая прогрессивка. И мама в окружении очереди, ставшей коллективом единомышленников, стройно подтягивавшим по ее знаку припев, твердила, как Риголетто «отмщенье!» до тех пор, пока... Увидев лицо Таи, мама закусила губу и договорила, суетясь над столом, что в жалобной книге она сделала запись о попрании человеческого достоинства не только лишением заслуженного «Тамбовского» окорока, но и словесным оскорблением...
– И как она выглядела, книга? – проговорила Тая насмешливо.
– Ну как, как! – застенчиво сказала мама. – Я в волнении и не разглядела, кроме того, писали другие товарищи, я же без очков не вижу, а очки оставила дома, на холодильнике в кухне, где я вчера вечером писала письмо бабушке.
Ах, сказочница-мама, кто поверил бы, что она может лишить кого бы то ни было прогрессивки! Нет, никогда бы на это не отважилась мама, и все ее сражения с ветряными мельницами разыгрывались в пламенном, болезненно-чутком к чужой маленькой беде воображении. А ведь сколько Тая ее воспитывала и требовала, чтобы мама на всех фронтах активно и безжалостно боролась со злом, не поддаваясь сладким увещеваниям...
Геля, не решаясь поддержать в присутствии прозорливой сестры мамино реноме, перевела разговор на другое, а Тая, вскоре почувствовав неловкость, замолчала и удалилась к себе.
Это был родной дом, в нем жили родные люди, но с недавнего времени и дом, и городок, и сестра с матерью вызывали в ней глухое сопротивление. Миссия старшей среди этих двух фантазерок, которую они ей навязали, была Тае не по плечу, но признаться в этом было невозможно: слишком много надежд обе женщины связывали с нею, слишком во многом на нее полагались. Они верили, например, что среди них, романтических неумех, вырос человек, умеющий жить, совершать отважные поступки и трезво смотреть на жизнь. Этим впечатлением о себе Тая была обязана нескольким решительным действиям, а также тому успеху, которым она пользовалась среди окружающих. Ей охотно шли навстречу, охотно подчинялись. Мама и Геля гордились: в ней что-то было, было, она умела добиваться того, что задумала.
Два года назад Тае удалось посреди учебного года перевести сестру с вечернего отделения захолустного мединститута на Кавказе на дневное в их областной город. Тогда же мамой была создана легенда о том, как младшая дочь «добилась приема у ректора, которого поймать невозможно, а заговорить с ним страшно, такой человек», как она объяснила ему, что Геле по несправедливости не дали в медучилище диплома с отличием и посему она была вынуждена поступать в институт у черта на куличках на вечернее отделение, какового в здешнем институте не имелось. Ректор со свойственным всем ректорам и директорам жестокосердием немедленно ей отказал, но Тая вцепилась в подлокотники кресла и заявила, что без положительного ответа с места не сойдет. Ошарашенный ее напором ректор призадумался, запросился на конференцию, где его давно уже ждали, но Тая была не лыком шита, и припертый к стене, вмиг очеловечившийся ректор дал свое согласие. Эта легенда слабо смахивала на быль. На самом деле Тая встречалась не с ректором, а с деканом лечебного факультета, славным лысым дядькой и не лишенным чувства юмора, которого она, наверно, чем-то тронула; он изложил ее дело ректору с отменным красноречием, после чего заполнил вызов на имя бедной Гели, писавшей с Кавказа отчаянные письма. Но мама не могла удовлетвориться историей в подобной интерпретации и от себя присовокупила к ней подлокотники кресла и конференцию всесоюзного значения, которая могла сорваться из-за упрямства Таи. Соседка Ира, принимавшая участие во всех делах этого семейства, выслушав маму, с минуту помолчала, соображая, а затем заявила, что, по ее, Ириному, глубокому убеждению, тут имели место небольшие такие шуры-муры, впрочем, очень может быть, вполне невинные, ректор тоже человек, а Тая девочка хорошенькая, хитро прищурившись, добавила умная Ира.
За время отсутствия Таи в этой комнате ничего не изменилось. Мама с Гелей трепетно оберегали ее дух, выразившийся в ничем не искоренимом беспорядке: на письменном столе так и остались разбросанными различные Таины тетрадки, листки с записями, которые трудно расшифровать и ей самой, раскрытые книги. Со всего вытирали пыль, но трогать не трогали, точно Тая с минуты на минуту могла войти и разгневаться оттого, что пропал какой-то листок. На рояле тоже царил сущий бедлам, этажи нот грозили вот-вот рухнуть, все это были в основном ненужные ноты, партитуры опер, которые она так и не раскрыла, сборники этюдов, которые она не играла, совершенно недоступный для нее соль-минорный концерт Брамса, приобретенный из форса, вполне возможные «Времена года», стопка романсов, которые пели с Гелей на два голоса. Геля чуждалась всякого блеска и публичности – тут с ней ничего нельзя было поделать, и она только жалобно улыбалась, когда Тая кричала ей, что самое большое преступление – зарывать в землю свой дар Божий. В каждый свой приезд Тая касалась клавишей не без некоторого страха – та небольшая техника, которая у нее некогда имелась, все уходила и уходила из пальцев, вряд ли теперь был ей под силу пассаж из «Грез любви», а в Москве не было времени заниматься. На Таиной кровати все так же сидела Мерседес в вязаной кофте, на стене по-прежнему висела выпущенная Таей к маминому дню рождения стенгазета «Стружка».
Тая приехала только сегодня утром. Она еще не успела оглядеться и побыть одной. Старый ее халат висел на спинке стула, как она бросила его, уезжая. В кармане его она обнаружила не съеденную в прошлый приезд конфету.
Второй ее поступок, за который ее превозносила мама, был не менее фантастичен в маминых глазах. Тая добилась, чтобы к ним наконец провели телефон. И снова воскрес рассказ о подлокотниках кресла, об изверге-директоре телефонной станции, которого Тая и в глаза не видела, а поговорила в высшей степени корректно с его заместителем и вовсе не била графин на его столе. Просто подошла их очередь, о чем на станции как-то забыли, и вот Тая напомнила. Соседка Ира и после этого заикнулась о легкой интрижке, но маме стало казаться, что для ее младшей дочери и впрямь все дороги открыты, таково обаяние ее личности. Тут-то на них с Гелей обрушился очередной Таин сюрприз, самый большой, сюрприз из сюрпризов. Тая целый год после окончания школы готовилась к поступлению в пединститут на музыкальный факультет. В июне она объявила, что хочет проветриться, взяла отпуск в Доме культуры, где работала концертмейстером, и уехала с подружкой Натой в Москву. Ната была известна всему городу как актриса – в драматической студии при этом же ДК она играла главные роли, была броско хороша собой, – и поэтому никто не удивился, когда она поехала сдавать экзамены в театральное училище. Но через две недели Ната явилась к Таиной матери и печально донесла ей, что если Тая напишет, что она поступила в музыкальное училище на теоретическое отделение, не верьте ей. «Тая уже прошла третий тур в театральное», – сказала Ната и разрыдалась. Через неделю действительно пришла телеграмма о теоретическом отделении. Мама кинулась к Ире. Ира явилась; узнав, в чем дело, она, не говоря ни слова, открыла сервант, где всегда стояла неполная бутылка какого-нибудь вина, оставшегося после последнего семейного торжества Стратоновых, налила три рюмки и произнесла небольшую речь. Уж теперь-то, сказала Ира, точно – без небольшого амурчика с директором училища не обошлось, но все это прелестно, и не надо сидеть с физиономиями, будто у вас телевизор перестал показывать, а напротив – радоваться. С ума сбеситься, Тайка – артистка! Снова призвали неутешную Нату, та подтвердила, что конкурс был немыслимый: тыща человек на место, к тому же брали каких-то блатных, та – дочка, эта – племянница, ни кожи ни рожи, но фамилии сами за себя говорят, так что Тае смертельно повезло, добавила несчастная Ната.








