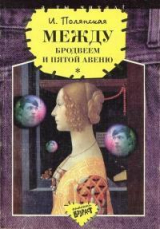
Текст книги "Между Бродвеем и Пятой авеню"
Автор книги: Ирина Полянская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
В один из томительных полуденных часов, когда его не было ни в палате, ни в клубе, ни вообще в санатории, Вероника прибрела к любителям шахмат, которые указали ей на серьезного соперника, какого-то незамечаемого прежде мальчика. Она села с ним играть. Их окружили. Через несколько ходов она подняла голову и с удивлением посмотрела на своего партнера. Перед ней сидел черноволосый мальчик с большим унылым носом, ее ровесник, который, не переставая теребить пальцами свое большое красное ухо, пренебрежительно и мудро ухмыляясь, умело обыгрывал ее. Но, поставив мат, он внезапно оробел, растерялся и поспешил было ретироваться с глаз долой. Уязвленная Вероника, поверженная шахматная королева, удержала его. Жора извиняющимся тоном объяснил, что играет он буквально с пеленок, у него разряд, но пусть Вероника не огорчается – скорее всего, она была невнимательна, а он сегодня в форме. Вероника заявила, что она и не думает огорчаться. Так они познакомились с Жорой, который жил неподалеку от санатория, в двухэтажном доме с садом. Каждый день он стал приносить ей какие-нибудь подарки: браслет собственной чеканки, самодельный кинжал, свисток...
– Кончится тем, что он тебя украдет, – заверила ее Наташа. – Между прочим, правильно сделает. Хороший мальчик.
Веронике было все равно, хороший он мальчик или плохой. Она была к нему, как говорится, убийственно равнодушна, и Жора, принося свои подарки, казалось, каждый день искал подтверждения страшной догадке, что это у нее к нему навеки, не пройдет, всегда будет так же. Но временами он не мог понять, что на нее находило, почему Вероника, обычно безучастная к его стараниям расшевелить ее, вдруг оживлялась, была с ним ласкова, раскачивала качели до макушек елей, что-то кричала, заливаясь смехом. Нет, он не мог понять, что вдруг преображало ее и бросало к нему, чего это она хохочет – он вроде ничего смешного не сказал, за что она смело протягивает ему руку, рискуя выпасть из лодочки, и взъерошивает ему волосы. Он, если бы он был повнимательней, бедный Жора, он бы заметил, что солнце, которое вспыхивает на ее лице, взошло за его спиной. Арсен на теннисной площадке под качелями. Вот почему, понял бы горемычный Жора, будь он чуточку поискушенней, она прыгала с вышки в озеро: это Арсен в своей клетчатой рубашке, которую она замечала еще издали, как ястреб свою добычу, появился на берегу. Лучи того солнца и брызги того водопада, которые душа ее изливала на другого, иногда попадали на честного Жору, только и всего. В это лето все, оказывается, были невпопад влюблены, весь мир: Наташа в свою расцветающую юность, Арсен в Наташу, Вероника в Арсена, Жора в Веронику, а его самого любила маленькая соседка и ревниво смотрела из-за забора на Веронику, появлявшуюся в Жорином дворе, чтобы набрать Жориных груш, которыми Наташа позже угощала Арсена. Круг замыкался.
Больше не было ни Грига, ни Моцарта. Тощее поцарапанное пианино в зале Арсен приспособил для «Песни о Москве» и «Тбилисо», благородный инструмент страдал, как лев, запряженный в громыхающую телегу. Наташа сидела в кресле, покачивая носком лаковой туфельки, и высокомерно наблюдала, как трудится для нее Арсен, – играй, играй, милый, все равно ничего не выиграешь, ты герой не моего романа, даже озеро боишься переплыть... А вот Вероника не боялась переплыть для него озеро ни в грозу, ни в девятибальный шторм, ни в арктический холод, ни даже если б оно, озеро, воспламенилось – она все плыла и плыла и не могла доплыть. Она попросила, чтобы Арсен написал ей на память тему из своего великолепного концерта. «Пожалуйста», – сказал он, расставляя значки на разлинованной бумаге, хотя она и без того запомнила мелодию на всю жизнь.
Но что же еще, что видится сквозь проливные утренние лучи августовского солнца, когда все вокруг чутко дремлет и туман в горах съежился, тушуясь... Толпы деревьев, сонмы деревьев, точно они сами в себе бесконечно отражаются, оттого их так много и так велика протяженность пробуждения. Неистовые переплетения теней и веток, одно дерево с безграничным доверием переходит в другое, сплошное сновиденье, увешанное елочными шарами яблок. Птица снова пробует утренний воздух на прочность: «ти-вить!» – чистая кварта, «ви-ить!» – малая терция вниз. Ее голос так хорош, что не может быть лучше, это из ее горла выросла вся какая ни на есть на свете музыка, об этом подозревал и отец, когда бродил по предрассветным аллеям города со слезами в мечтательных очах, и мы обе, большая и маленькая женщины, верили, что эти чистые слезы были порукой верного сердца. Зеркальные идеальные яблоки, перемена декораций, перемена жизней – уже не ты, мама, твоя дочь занялась фруктами для того, кто спит за этим окном, он спит, когда Вероника, подтянувшись, выкладывает на подоконник яблоки, одно за другим, и каждое дар.
...Деловая, горящая на работе женщина Зоя заведует санаторским клубом и чахлыми талантами отдыхающих. Она заподозрила Веронику в укрытии от общественности способностей, приперла ее к стенке, и та, не выдержав могучего напора, созналась: да, тренькаю на фоно. «Вот и славно, вот и чудненько, так и запишем, – обрадовалась Зоя, – ты споешь под собственный аккомпанемент!» Но у Вероники, увы, голос никак не мог совокупиться со звуками шлягера, исторгнутого из фортепьяно предательской рукой. Не успела она и глазом моргнуть, как Зоя уже репетировала с ней номер для концерта под названием «Мой родной край». «Городок наш небольшой, – произносила Вероника, – но я очень люблю его». Тут-то, по замыслу режиссерши Зои, надо было подкупающе улыбнуться в зал. Улыбка не получалась. Зоя чувствовала, что настаивать опасно. Ну, ничего, поехали дальше. «С нашего балкона видны трубы нефтехимкомбината, – вяло продолжала Вероника, – вечерами мне кажется, что там, на горизонте, плывет большой пароход». Веронике в действительности так не казалось, так мнилось самой Зое. «У нас есть клуб, Дом пионеров, Дом культуры, кинотеатр, но самое главное – в пяти километрах от города серебрится на солнце великая Волга-река, про которую я сыграю песню «Вниз по Волге-реке». Все было правдой и истиной: и то, что клуб был, и про Дом пионеров, и Волга, безусловно, великая река, но когда Вероника это произносила, ей казалось, что она непоправимо лжет, терзает чей-то слух отвратительным притворством и фальшью. Вслед за этим она открывала крышку рояля и, сжав губы, играла в простейшем ля-миноре песню, которую она с детства очень любила и понимала в ней каждое слово.
В день, когда должен был состояться концерт, Наташа и Лариса, новая соседка по палате, ласково опекая Веронику, сделали ей прическу. Лариса сказала:
– Ну вот, ты теперь очень миленькая, Вероничка. Просто принцесса; да, Натуль?
Вероника недоверчиво посмотрела на себя в зеркало – принцесса. Прическа что надо.
– Взрослит очень, – сказала Наташа, – распущенные волосы лучше.
Вероника, прищурившись, глянула на Наташу в зеркале и возразила:
– Пусть так останется.
Наташа покачала головой:
– Пусть. Мне не жалко.
«Жалко тебе небось, жа-алко!» – с торжеством думала Вероника.
Соперница Наташа, увы, не знала ни стихов о своем Архангельске, ни частушек, но Зоя мудро пристегнула климатические условия Наташиной родины к популярной песенке о белом медведе, и Наташа милым высоким голоском уверенно и не сминая в руках платочек спела: «Где-то на белом свете...» Баянист улыбчиво растягивал мехи. Наташе хлопали охотно и с душевным умилением, особенно когда она не сумела взять высокую ноту и показала зрителям на горло. Вышла монументальная Лариса. Она жила в Волгограде. Баянист, погрузив пальцы в клавиши, нахохлившись, стал наигрывать «На Мамаевом кургане тишина», а Лариса в это время незнакомым голосом декламировала: «Помните! Через года, через века – помните!»
За ней на сцену вышла Вероника.
– Город наш небольшой, – сказала она, стараясь не смотреть в зал: в первых рядах сидел Арсен с сочувствующей ко всем выступающим миной. Горло сжала петля. Тема небольшого городка больше не могла получить стройного развития. – Клуб у нас есть, – пролепетала Вероника, погружаясь все глубже в пучину позора. Тут она беспомощно махнула рукой. За кулисами простонала Зоя. Вероника села за инструмент, нащупала первый аккорд и ледяными пальцами исполнила свой номер.
Как только она заиграла, люди в зале заперешептывались, зазвенели монетами, зашуршали обертками, закашляли. Она оторвала стопы от педалей и шагнула за занавес, скрывая себя. Ей сострадательно похлопали. И тогда с насмешливым выражением лица явился Арсен и, минуя тему родного края, роскошными движениями рук швырнул в зал аккорды рахманиновского до-диез минорного прелюда. Вот его родной край, вот его родина. Вероника, приоткрыв занавес, встав на табурет, смотрела в его отважное лицо. Киньте-бросьте меня в Волгу-матушку. Не дослушав его, она спрыгнула с табурета и устремилась прочь.
Зачем она так робка, послушна, что стоило ей не участвовать в мероприятии, если она не могла, не умела в нем участвовать, что ей грозило? Лишение выписки из санаторной карты? Занесение выговора в ее сугубо личное дело? Постриг в монастырь? Аутодафе? Все это не страшно, не страшно, и лучше быть мне в воде утопимой... Все это думала она, рыдая, обняв яблоню, запрокинув голову к минорной луне, когда в ночи среди ветвей сверкнул солнечный луч – по асфальтированной дорожке, освещенной фонарями, бежал к ней Арсен. Увидев его, Вероника рванулась было прочь, но он догнал ее и развернул на себя.
– Ну что ты, все это ерунда, я тоже долго не мог привыкнуть к публичности, это невыносимо – слышать их кашель, когда играешь, а ведь все слышишь. Это неправда, что пианист может с головой уйти в игру и ничего не замечать вокруг. Однажды мне сказали, что я что-то пытаюсь изобразить лицом, когда играю, но ты-то знаешь, это неправда, все пианисты немного гримасничают, и они не нарочно. Я иногда стараюсь следить за своим лицом и играю хуже, чем мог бы. Так вот не думай, как ты выглядишь, будь такой, как ты себя чувствуешь, и пусть тебе никогда не будет стыдно.
Ветки качнулись, сомкнулись за его спиной, яблоки посыпались, покатились в лунную траву.
Вероника знала то, чего мог еще не знать он: чувства их были схожи. Однажды она смотрела из-за ветвей шиповника, разросшегося под окном Арсеновой палаты, как он читает книгу. Ах, какое сочувствующее было у него лицо! Кому, за что? Настасье Филипповне, Люсьену де Рюмбапре? Или какая-то другая, еще недосягаемая для разума Вероники книга могла вызвать на его лице такое живое чувство? Обойдя здание, окликая несуществующую поблизости Наташу, она приблизилась. Он встретил ее с обычной ласково-насмешливой миной. Вероника кивнула подбородком на книгу, и он ответил рассеянно: «А, это? Милый пустячок...» – и показал обложку. «Айвенго». Его притворство, выражение скуки на лице растрогало ее – пожалуй, и она бы предпочла быть застигнутой на более серьезном чтении. В другой раз он поведал ей, что не любит бывать в опере – страшится пышногрудых Виолетт и невыразительных Радамесов, которые в жизни, напротив, охотно женятся на царских дочерях, чтобы крепко сидеть в своих подземельях. Веронике также было невыносимо оперное притворство; когда после изумительного вступления к арии Ленского начинал звучать фальшиво-чувствительный голос, ее ноздри раздувались от гнева. «А я, быть может, я в гробницы сойду таинственную сень...» – горевал из репродуктора певец, и Вероника злобно отвечала ему: «И не жалко вовсе». Чайковский все равно был прекрасен, как небеса, под которыми совершались лукавые дела, и тучная Татьяна в оперном платье напрасно прижимала руку к груди, надеясь уничтожить собой чудный образ и натуру исключительную. Впрочем, существовали голоса, ростки души неутоленной, которые посещали Веронику в ее уединении на кухне, и репродуктор растроганно доносил их в целости и сохранности – оказалось, те же голоса являлись и ему и трогали его. Все так, точно росли в одном доме под одной и той же проливной музыкой. Но при чем здесь Наташа?..
...И все-таки мы пропускаем через себя время, как ток высокого напряжения, и это многим не сходит с рук, а что касается Вероники, она могла, как уже говорилось, выразить себя только в миноре, в высокой трагедии, в вещах, над партитурой которых значится «маэстозе», то есть величественно, тогда как аллегретто ей не удавалось, техника была не та. Ей не удавалось именно то, что могла любая ученица, что умела делать каждая девушка – носить без морщин чулки, сочинять прическу, танцевать, разбираться в моде. И ей казалось, этому она не научится никогда. Даже в сумочке у нее всегда были всякие пустяки, детский сор, она не могла избавиться от привычки носить там то свисток, то конфетные фантики, то камешки вперемешку с пудреницей, из которой все время сыпалась пудра, и духами, которые почему-то проливались. Не было в ней женского порядка, не воспиталось. Она чувствовала себя одновременно ущербной и гордой от сознания того, что есть в ней этот беспорядок, в отличие от Наташи. Вся прелесть Наташиной натуры заключалась в том, что она была восхитительно-нормальной, безразмерной, ее можно было уложить, как в матрешку, в любое мужское понимание о семейном счастье и уюте, и ни один шов, даже этот, трогательный, послеаппендицитный, не расходился, ни одна петля, способная ласково удавить, не спускалась. Наташа была универсальна. Ее легко было вообразить у камина в крепдешине с завязанным под грудью пышным бантом, след от ее маленьких домашних тапочек вел в детскую, она обходила свои владения, стараясь не переступить черту, не провалиться под пол, не пройти сквозь стену, к ней льнули дети, домашняя работа делалась сама собой.
Ах, тайны ночи глубже и значительнее секретов белого дня!
Наташа тихо спала в палате, разглядываемая Вероникой, страдающей над загадкой ее уверенной прелести, положив локоть под щеку, ни в чем не сомневаясь и ничем не тяготясь и во сне. Счастливица ты, Наташа! Счастлива и твоя подружка Лариса, та, что спала у окна, постанывая от избытка ярой крови. Тихий и неприметный труженик, скорее всего инженер, который дремлет в это время в своей Калуге или Смоленске, предназначен ей судьбой. Судьба-то не дремлет, забрасывает сети, уже занесена его фамилия в командировочное удостоверение и номер забронирован в волгоградской гостинице, а там подоспеет и Лариса и вонзит в него свои розовые ноготки: муж-мальчик, муж-слуга. Произойдет первая встреча, он хлебнет от сурово отмеренных, скрупулезно дозированных Ларисиных прелестей, много ему не позволят, пока не сыграли Мендельсона. Упаси Боже, ни-ни, она не даст себя разносить, пока не уплочено, пусть он сначала приобретет, а только потом почувствует, как оно – жмет там, натирает здесь, как тесно, тесно, не пошевелить пальцем. Она прогонит инженера по этапу за тихость и неприметность, она знает себе цену, почем плечи, почем румянец, почем что.
Но все это домыслы и видения, которые рисует глупая зависть!
Вероника сидит на краю постели в глубокой ночи, вглядываясь в светящиеся лица спящих молодых ловких девушек, в лица настоящих, черт возьми, женщин, знающих толк в жизни, взрослых, посмеивающихся, покусывающих травинки, нравящихся с первого взгляда. Крахмальные комбинации, как латы спящего воина, светятся в лунном луче. Бигуди, орудия пыток, сгрудились на тумбочке, губная помада показывает язычок, дразнится, башенки банок, склянок, флаконов, целый патронташ для убоя сердец... Вероника, завернувши в простыню свое и не тело вовсе, как Зарема, как дух, склоняется над каждой: ах, Лариса, тебе пойманный в сети птенец, а мне только этот, научите меня, как пленить его, иначе гром небесный и мрак земных глубин. Как это мощно, как царственно быть такой, как вы: женщиной, бьющей без промаха, украшенной, как новогодняя ель, блеском праздника, ароматом свежести, мерцающими бусами – где это все у меня, почему я не унаследовала никаких богатств от оперного отца и плодоовощной матери, кроме любви к музыке и доверия к любви, от которых лучше отказаться вовсе, но уметь, как Лариса, как Наташа, с драматической серьезностью, самоуглубленно, страстно, как о спасении души, хлопотать о босоножках на высоком каблучке...
А дело близилось к концу сезона и заезда, лета и жизни, неотвратимо приближалась осень, и она уже знала истину: он не полюбит ее никогда, никогда она его не разлюбит. И унылый мальчик Жора знал, что дело близится к концу, и мрачно размышлял о том, как он в кратчайшие сроки приобретет звание гроссмейстера и станет знаменит, что, по его расчетам, должно было серьезно ему помочь в завоевании Вероники.
Пошли дожди. Горы исчезли, смытые с горизонта дождем, точно их и не было. Окно в палате было раскрыто настежь, Лариса ворчала, что Вероника ее простудит, и не расставалась уже с носовым платком. Истошно и горестно благоухали августовские яблоки в дожде. В зале танцевали теперь под пианино. Вероника стояла под дождем и смотрела в освещенное окно. Иногда собирались по нескольку человек и ехали в городской кинотеатр: Вероника в темноте зала смотрела в его затылок. В тот день она не поехала на «Королеву Шантеклера». Жора стоял под окном, чувствуя, что она в палате, и уходить не собирался. Дождь шел громче, неистовей, она сжалилась и выглянула в окно. Жора опустил мокрую голову. И тогда Вероника, понимая в точности все, что с ним творится, выскочила к нему под дождь и поцеловала его. Жора задрожал и сказал страшным голосом:
– Не надо, ты меня не любишь.
Он помолчал, поднял голову и разгневанно посмотрел на нее:
– А ему, между прочим, наши парни сегодня будут морду бить за Наташку.
Вероника ударила его кулаком и, как была, в халате, теряя босоножки, бросилась сквозь мокрый сад, сквозь толщу дождя и гор. Понукая шофера чуть было не наехавшего на нее грузовика, она пронеслась по улицам городка и выпрыгнула у кинотеатра. Народ уже после сеанса расходился. Она махнула на остановку и успела увидеть край Наташиного платья, прищемленный дверьми автобуса, уносящегося прочь. С километр она пробежала за удалявшимся автобусом, пока ее не нагнал другой. На остановке «Санаторий» их уже не было, они уже шли через сад, и вот в саду-то Вероника нашла его и ее: Наташе удалось разогнать ребят, но у него из носа шла кровь, и выглядел он растерянным. Наташа с кривой ухмылкой посмотрела на него, решительно развернулась и ушла прочь.
– Да уйди ты, – зло уставился на нее Арсен, – уйди, тебе говорят!..
На следующий день дождь с грозой кончился. Яркое солнце сверкало в саду, чемодан был набит крупными лимонно-желтыми яблоками. Сад стоял притихший, восторженный, он приходил в себя после пережитого ужаса, и последние капли срывались с его потревоженных веток.
– Ну, счастливо тебе, – молвила Наталья, – вон уже и автобус. Смотри, может, все-таки кликнуть его, попрощаешься?
– Нет, – сказала Вероника. – Прощай, Наташа. Прощай, Жора. Прощайте.
А в поезде, лежа на верхней полке в полусне, в полуболезни, она точно опомнилась – вздрогнула, вскочила, ударившись головой о потолок: куда она едет, зачем?! Куда, куда она едет? Ей не хватало воздуха, клетчатая рубашка мелькала где-то вдали, а поезд мчался прочь, как безумец, кругом плескалась ледяная, враждебная ночь, а поезд летел, увозя на вечную муку: она не знала ни его фамилии, ни адреса, ни даже города, в котором он живет.
Мать сняла ее с поезда совсем больную.
Через две недели, очухавшись, она написала Наталье коротко и решительно: «Адрес». Ответ пришел быстро – ласковый, захлебывающийся от восторга, но адреса она не знала, да и зачем он ей, его адрес? Кажется, он не то из Симферополя, не то из Донецка, не то с луны свалился – ей и дела нет. Мужественный мальчик Жора написал, что санаторий вдруг закрылся на ремонт, а куда перевезли архив с историями болезней, особенно плоскостопий, он, Жора, не знает и знать не хочет, а вот то, что он нагрянет к ней весною, это точно.
Его звали Арсеном. Он написал концерт для двух фортепьяно, он ухаживал за славной Наташей однажды в Нальчике, за что ему расквасили нос. Это было все. Двери за ним захлопнулись так прочно, так навсегда, точно он умчался в иную галактику, к одной из тех звезд, что безутешно горят над крышами, и осенний мир затворил за ним свои двери.
Выбор
У моей подруги Светы умер муж. На работе в научно-исследовательском институте, где он заведовал отделом, его любили, считали душой коллектива, поэтому на похороны и поминки собралось так много народа, что соседи по этажу разрешили поставить в своих квартирах поминальные столы. Света рассказывала, что у Гришиного гроба столкнулись все четыре его жены. Первую жену, Гришину ровесницу, привел сын, сама бы она, скорее всего, не пришла: переминаясь с ноги на ногу, с любопытством посматривая на людей, пришедших проводить этого далекого ей уже человека, она отбывала повинность. На лице второй жены, явившейся с мужем, было написано мстительное торжество: Гриша о ней вспоминал с суеверным страхом, говоря, что железная была женщина. Третья жена, попортившая Свете немало крови тем, что отправляла в адрес консерватории, которую заканчивала молодая соперница, пространные обвинительные акты, вздыхала, обнимая дочку, и горько качала головой, продолжая с мертвым свой тягостный разговор. Света с сыном тихо плакали. Свою любовь к мужу Света похоронила давно, постепенно, частями оплакивая очередную погибшую надежду, а муж, тогда еще живой, стоял рядом, по ее образному выражению, с богатырским уханьем, рывками, через плечо железной лопатой бросал комья земли на все еще трепыхавшиеся Светины мечты. Стоя у гроба, Света повторяла: «Ах, как же ты все перепутал, как все перепутал», имея в виду вереницу спутниц Гришиной жизни. Так они стояли строгой, чем-то немного похожие друг на друга – ведь выбирал-то их один человек, – шеренгой по одну сторону гроба, а напротив билась головой о гроб давняя Гришина сослуживица, которой он так часто выписывал премии, что в бухгалтерии говорили: «Наша передовица», вкладывая в это слово неприличный смысл. Женщину оттаскивали от гроба, подносили ей нашатырь и валерьянку. Таким образом, именно она, а не Света и прочие жены, была главным действующим лицом на похоронах, не считая, конечно, покойного.
Мы со Светой были подругами детства. Она пришла в наш дружный, гордящийся своею сплоченностью 7 «В» в середине четверти. Она вошла в наш тесный коллектив, как нож в дерево под прямым углом, и торчала в нем всегда как нож в дереве, которому нипочем свирепые ветра и недружелюбные взгляды. Света всегда излучала доброжелательность, может быть несколько снисходительную, вот почему все решили, что она фальшива. Светлана была красива, играла на пианино, отлично бегала на коньках, знала на память множество стихов, о которых слыхом не слыхивала наша преподавательница по литературе, разделявшая в целом отношение класса к Свете. В классе водились свои чудики, но это были всеми признанные чудаки, которые вписывались в класс, добавляя ему какую-то новую краску. Света явилась с собственным набором красок и собственной шкалой ценностей и всегда поступала так, как ей хочется. Например: класс тянет, тужится, волочет по асфальту металлолом, а мимо на открытом легковом автомобиле, не глядя на класс, проезжает Светлана со знакомым водителем, а позади машины издевательски грохочет привязанная бечевой жестянка. Дальше: класс осуждает мещанку Ольгу Ларину, которую и Пушкин-то не жаловал, а Светлана громко говорит, что невеста поэта, имея в виду Ленского, неподсудна – он был влюблен, стало быть, сердце его было зорко, не так видел Ольгу желчный Онегин, и нечего приписывать его мысли Пушкину. Антонина, литераторша, только вздыхала с перекосившимся ртом, слушая Свету, а мне как-то пришла записка: «Слушай, скажи своей подруге, что она просто смешна!» Когда Санькова положили в больницу, про него вспомнили только на пятый день, а через десять пришли навестить, как всегда, всем классом – и встретили под больничными окнами Свету: оказалось, она этого незаметного Санькова навещает каждый день, пирожки ему передает, о чем, едва Света завернула за угол, прокричал в форточку сам Саньков. И много всякого: все говорят «нештяк», а она будто и слова такого не слыхала, все – «оборжать» или «закадрить», а она ни за что. Все читают Мопассана, а Света взялась за Тургенева, будто его в школе не проходят, и выписывает оттуда себе в блокнот пророчески: «Честная душа не меняется». Все постриглись – у нее коса. Все у моей сестры-медички брали читать «Акушерство и гинекологию», а она и не заглянула ни разу.
Наша со Светой дружба была похожа на первую любовь: та же ревность, те же мелкие придирки, бурные ссоры, хождение друг у друга под окнами и отсутствие во время ссор аппетита. Как она упрекала меня за дружбу с классом! «Да что это значит, – волнуясь, говорила она, – как можно дружить со всеми! Так не бывает! Или это абстрактное чувство, или утонченное лицемерие. И в конце концов – они же серые, они – никакие, ими кишмя кишит жизнь, и ты хочешь среди них затеряться?! Что за беспринципность такая!»
Было у нас с ней заветное место на чердаке моего дома – там мы учились курить. Как-то мы полезли туда, и Света уже достала из пачки «Солнышко», но я отказалась: «Не могу, мы вчера обкурились тут с Валькой Уточкиной». Светлана подпрыгнула и чуть не проглотила «Солнышко»: «Как, ты сюда приводила Вальку? На наше место? Пошли вниз. Ноги моей здесь больше не будет». И после этого она у каждого полюбившегося нам в парке дерева брала с меня клятву, что я его никому не покажу.
Зимой мама решила отпраздновать мое пятнадцатилетие. Я пригласила весь свой класс вместе с учительницей. Класс скинулся мне на подарок и преподнес все любимое: оперу Гуно «Ромео и Джульетта», лимонник в большом горшке и хорошие шахматы. Класс вместе с учительницей весело ввалился с мороза, началась суета с раздеванием и приготовлением стола, и тут пришла Света. Она принесла мне тщательно выбранный подарок: настольную лампу – свет, который бы все время напоминал мне о ней, и альбом Кете Кельвиц, о котором я мечтала. И тут я увидела, что ее слова о том, что ее ненавидят, справедливы. Класс изменился в лице. Класс, столпившийся в коридоре за моей спиной, вдруг примолк, собрался в комок, оделся сосредоточенно броней, как это бывало у нас перед забегом на сто метров на первенство области, класс стоял как единый монолит, а напротив стояла Света со своим светом, которая, оказывается, тоже сдавала деньги на общий подарок. Я сделала чуть заметное движение к Свете, чтобы взять подарок, и у меня было чувство, будто в эту же секунду меня крепко схватили за горло... Хлопоча на кухне, я услышала, как хлопнула дверь. Света ушла, пальто ее не было. Класс невинными и в то же время выжидательными глазами смотрел на меня. Рассадив своих товарищей и учительницу по местам и дождавшись, пока застучат ножи и вилки, я выскользнула из дома, скатилась по лестнице и побежала в парк. Я знала, что там увижу. Света лежала на снегу, и по лицу ее текли слезы. Она сказала:
– Ты видишь? Они вдруг предъявили мне ультиматум: или я уйду, или они все уйдут. – И замолотила кулаком по снегу. – Иди, иди, прогони их сейчас же!
– Но они мои гости, – сказала я, – разве я могу выгнать их из моего дома?
– А им меня – можно? Можно, да, можно?!
Она трясла меня за плечи, а я смотрела на нее и никак не могла решить эту задачу. Обычно, когда я стояла у доски, мне подсказывали. Сейчас было некому. Одна трясла меня за плечи, другие в это время ели пирожные и заводили пластинки.
Света сказала уверенно:
– Ты должна сделать выбор.
Я вернулась домой: двадцать пять пар глаз внимательно смотрели на меня, двадцать пять ртов, усмехаясь, пережевывали обиду, а наша классная, все поняв, вдруг проговорила:
– Ну-ка, сдвинем столы – танцы!
Потом она подошла ко мне:
– Почему ушла Светлана?
– Ребята ее прогнали, – ответила я.
Она поморщилась:
– Фу, как нехорошо. А где она?
Я взяла бутылку наливки и спустилась к Свете. Она сидела на заснеженном пне.
– Ну что, – сверкая глазами, сказала она, – так ты меня приглашаешь к себе или нет?
– Пошли, – сказала я.
– А они?
– И они тоже.
– Уходи, – сказала она и отвернулась.
Я протянула ей бутылку наливки и пару конфет:
– У меня день рождения, и я отмечаю его с тобой...
И ее вдруг обрадовала эта мысль: что они там сидят без хозяйки, а мы вдвоем пьем наливку в парке, и луна посылает нам свои бледные лучи. Мы выпили всю наливку. Я снова сбегала домой и увидела, что класс вовсю веселится в мою честь. Я взяла свои и сестрины коньки, и остальную часть вечера мы провели на замерзшей Волге, летя наперегонки вниз по реке к Липягам, навстречу своему туманному будущему.
...Наша дружба со Светой была, наверное, одним из первых уроков, которые преподала мне действительность, чья тайнопись в моей судьбе стала проступать как симпатические чернила сквозь шелестящие страницы книг, которые мы с ней читали. Но, кажется, я читала их справа налево, эти книги, ничего, кроме сюжетов, кроме самых поверхностных мыслей из них не вычитывая. Мы обе долго смотрели на Божий свет сквозь зарешеченные словами страницы, не понимая, не угадывая настоящего их смысла, жили между страницами, как засушенный лист. Время от времени я выныривала на поверхность к своему классу, чтобы добрать от него настоящего знания и опыта общежития. Но, покрутившись в водовороте легких дружб с одноклассниками, снова, как сухой лист, исчезала в прохладных глубинах собраний сочинений, чураясь собраний человеческих. И там и тут мне было одинаково неплохо, разве что Светин мир имел то преимущество, что в нем была сама Света, которая после восьмого класса покинула нас и поступила в музучилище, – и класс с облегчением вздохнул и вскоре о ней забыл, никакой пустоты после ее ухода не образовалось. Светино место за партой тут же заросло другой девочкой. Получив полную свободу, мы со Светой не знали, как ею воспользоваться. Некому стало демонстрировать наше с ней пылкое единение, и оказалось, что вражда класса по отношению к Светлане питала нашу дружбу, обрамляла ее. А между тем в классе начала зарождаться любовь, она вспыхивала то в одном уголке, то в другом, пока не охватила почти всех – недаром после школы мы в нашем классе сыграли одну за другой четыре свадьбы. Из Светиных книг и партитур опер тоже выступил какой-то бледный и болезненный герой, которому было отдано то, что вчера еще было нашим: книги, деревья, тайны.
Света с придыханием рассказывала мне о нем. Так пролетело еще два года. Света поступила в консерваторию в Москве, и нить, связывающая нас, превратилась в пунктир писем-ответов, меж которых осуществлялись все более серьезные события, которые в письмах не описать, и однажды, когда мы уже почти ничего не знали друг о друге, от нее прилетело приглашение на свадьбу.








