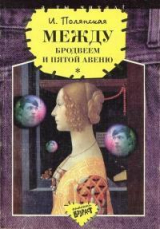
Текст книги "Между Бродвеем и Пятой авеню"
Автор книги: Ирина Полянская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Он не был разбит, побежден. Все это примерещилось мне в уюте провинциальной мечты. И он уже ступил на территорию Павла, он свободной, раскованной походкой прошел мимо нашей с Павлом любви, мимо разлуки, где эта любовь возвышалась как памятник, мимо грядущего дня нашей свадьбы, он медленно продвигался вглубь моей судьбы, и под ногами его шуршали, как сухие листья, слова наших писем.
Что, что со мной случилось в этот вечер? Стража, что ли, перепилась? Ведь каждый прожитый с Павлом день должен был встать на пути этого человека, каждый – взметнуться перед ним как взрыв, каждый должен был выхватить на свет самые драгоценные впечатления, но память молчала, завороженная. Непроходимые заросли одних и тех же представлений, все они расступились перед этим человеком, который, я не устану это повторять, был мне безразличен, но на имя «Павел» в эти мгновения лишь слабо, отдаленно отозвалась одна совесть.
Я нащупала в кармане письмо, мысленно обратясь к нему, неодушевленному: потерпи, я потанцую и отправлю тебя. Музыка остановилась, и мы с Геннадием сразу опустили глаза, и тут ко мне подошла Люся:
– Можно тебя на пару минут?
Помню, я струсила. Я хочу, чтобы Люся взяла меня за руку и отвела домой, чтоб она схватила меня за волосы и оттащила от Геннадия. Но она увела меня за колонну и строго сказала:
– Ты соображаешь, что делаешь?
– Что? – спросила я.
Я хочу, чтобы она назвала – что.
Но тогда она, порывшись в приемлемых для ведомой подруги словах, зашептала мне в ухо:
– Так нельзя. Люди смотрят.
– Ах, люди!.. – презрительно возразила я.
Геннадий молча подошел к нам и протянул две шоколадки. Люся не взяла шоколадку, а когда я протянула к своей руку, она схватила меня за кисть.
– Да что такое! – воскликнула я тоном господина, укрощающего раба.
Я хочу, чтобы Люся растоптала шоколадки, я хочу каблуком растоптать мамину пудреницу.
Люся отступила. Покачав головой, она ушла в угол зала и оттуда смотрела на нас скорбными глазами.
Я разломила шоколадку пополам, подумав, отломила от другой половины еще кусок и меньшую долю отдала Геннадию. Вторую шоколадку я положила в карман, где лежало письмо. Письмо. Между прочим, что-то грызло мне душу. (Через час я пойму что.) Грызло. Я была счастлива, что на мне красивое платье и вьются волосы, что Геннадий видит все это, что он влюблен, что прошло уже четыреста шестнадцать дней нашей с Павлом разлуки и осталось меньше половины срока, но что-то саднило, не давало ощущению праздника развернуться вполне. И снова минута трезвости, как облако, наплыла на меня: если б это лицо было лицом Павла!
Я подумала: «А если б Павел сейчас увидел меня?» Но снова в уши грянула музыка: ну, увидел бы, что я танцую с парнем, что тут такого? Но, представив себе это, я словно увидела недоверчивое лицо Павла, недоверчивое, затуманившееся, и вспомнила, как он сказал мрачно, глубоко, пугающе серьезно: «Прошу тебя, не обманывай меня никогда, я не сумею тебя простить...»
Озноб прошел у меня по спине, и я заозиралась. На нас никто, кроме Люси, не смотрел. Люся смотрела. Мне показалось, другие старательно не смотрят. Все слишком хорошо знали о нас с Павлом.
Геннадий вышел покурить. Испытывая судьбу, я вышла вместе с ним. Впервые – не он шел за мной, а я последовала за ним, хотя он как будто не приглашал меня. Именно поэтому я вышла вслед за ним. Он все больше вытаскивал меня на свет Божий из моей раковины.
– Ну что ты все твердишь, как школьница: Павел да Павел, – сказал он с деланным дружелюбием. – Хорошо, я понял: Павел. А дальше-то что?
Дальше надо было развернуться и хлопнуть массивной дверью ДК, запустить в него этой дверью, забаррикадироваться, раз и навсегда закрыться от него, но я опять поступила иначе.
– Что ты имеешь в виду? – высокомерно спросила я.
– Ты отлично знаешь, что я имею в виду, – слегка хмурясь, парировал Геннадий.
Мы помолчали. Он докурил, обернулся ко мне и уперся обеими руками в стену, к которой я прижималась лопатками. Он сказал как бы сочувственно, глядя мне прямо в глаза – зрачки его были как магнит:
– Вот что я скажу тебе: все это выдумка, Павел... Нравится тебе его ждать – жди, ради Бога, я ничего не имею против. Но тебе же не нравится, ты его уже забыла, Павла. Это он покинул тебя, чтобы что-то там в себе и в тебе проверить, ты сама говорила. Смешно слушать. Ты что – уравнение с неизвестным или живой человек? Тебе-то зачем, чтобы тебя проверяли? Значит, он тебе не верит? Если сейчас не верит, что будет дальше? Может, он всю свою жизнь будет тебя проверять!
Я вывернулась из-под его руки и наконец-то пошла прочь. Он позвал: «Галина, остановись!» – но я не послушалась.
Я шла по улице с потупленной головой, но тревога моя мало-помалу улеглась. Я дала себе слово: ни шагу больше к развлечениям. Вечер был такой теплый, кроны лип шелестели, в головах некоторых из них стояли фонари, и деревья преданно устилали мой путь своими запутанными тенями. Я думала: жаль, что меня сейчас никто не видит; меня, задумчивую, прокладывающую свой одинокий путь, в светящемся платье. Я остановилась у дома, где жил Павел. В освещенное окно было видно, как тетя Нина, его мама, на кухне мирно чистит над ведром картошку. Мне хотелось постучать в окно, но вечер был такой необыкновенный, чистый, и одиночество мое было полно чудесного значения, что я этого не сделала. Сейчас я хочу ударить по стеклу что есть сил и разбить одним ударом свою последующую жизнь, и до сих пор вижу тетю Нину в освещенном окне, но сделать ничего не могу: с тех пор много воды утекло, и во сне я тянусь к светящемуся стеклу, но какие-то водоросли оплели руки, и вода слабо мерцает. Я тихо прошла мимо и дошла до дома, где жила Лариса Георгиевна, наша учительница, у которой мы с Павлом часто бывали в гостях. «Я не нарадуюсь на вашу дружбу», – говорила она нам, а я задиристо ее поправляла: «Не дружба у нас, Лариса Георгиевна, а любовь, любовь!» И к ней я не зашла; судьба неумолимо тащила меня дальше.
Вон звезды бредут сквозь редкие облака, то погаснут, то вспыхнут. Какую бы жизнь мы могли прожить с Павлом за этот год, не будь он таким упрямым, ведь ему ничего не стоило поступить в институт, но зачем-то понадобилась наша разлука, чтобы проверить меня, завод, на который он пошел работать, чтобы проверить себя. Геннадий прав: зачем, кому нужны эти проверки? Ведь так трудно любить человека, который далеко, и ты удерживаешь его образ каким-то волевым усилием, не сердцем, увы, не сердцем. От этих мыслей мне сделалось страшно. Страшно оттого, что в душе копится обида на Павла, не пожелавшего разделить со мною этих прекрасных, толпой уходящих в никуда летних дней, и так ли я люблю его или просто из гордости стараюсь противопоставить нашу хваленую верность враждебному миру, силясь на собственном примере подтвердить, что то, о чем пишут в книгах, – правда. Ну, правда, правда, но сколько же может длиться эта сухая, пустынная правда и что она дает душе? Может, такой красивой я никогда уже не буду, а Павел этого не видит, он видит звезды. Геннадий видит меня. Когда мы танцевали, он сказал, что ему больно на меня смотреть и все равно смотрел, не отрываясь. Я смотрела на звезды и видела Геннадия, его серые удивленные глаза – у Павла тоже были серые, но взгляд тверже и правдивей. Геннадий говорил, что хотел бы показать мне Москву. «Приезжай просто как друг, – с кривой улыбкой сказал он, – приезжай. Просто как друг». Я подходила к своему дому, как вдруг услышала торопливые шаги за спиной и поняла, что это Геннадий. Нагнав меня, он пошел рядом. Оба мы молчали. Я чувствовала, что молчать нельзя, что своим молчанием я увлекаю его и себя в какую-то пустыню, где нет ничего от моей прежней жизни. «Просто как друг». В ушах у меня звенело. У палисадника он преградил мне дорогу и сказал: «Ну, что будем делать?» – как будто уже имел право на такой вопрос. Я молчала. Все вокруг заволокло туманом, я ясно видела лишь два огромных блестящих глаза, падающие в мои глаза, и надо было зажмуриться, чтобы предотвратить это падение. «Послушай, – порывисто сказал он, – послушай...» И снова мне почудилось, что мы с ним кружимся и какая-то плавная, неодолимая волна уносит нас в пустыню. Руки мои были бессильно опущены. Его страшные, горячие зрачки сжигали роговую оболочку моих глаз и прикипали к ним, как собственные мои слезы. Лицо его заслонило весь свет, вернее, тьму, и ужас, торжество разрывали мне душу в ту минуту, когда он поцеловал меня. Тут что-то сдвинулось. И от этого теплого, плывущего по земле вечера, от меня самой ничего не осталось, кроме одного тесного, с панической быстротой размножающегося ужаса – уже случившегося со мною, все-таки случившегося, хотя мне еще казалось, что нет, этого не может быть, что я вижу сон, но не могу разъять его, потому что ослепла: тень отделилась от ствола дерева в палисаднике, и, еще не узнав солдата, сердце во мне медленно перевернулось, потому что им мог быть только Павел.
Пока я действительно поняла, что это не сон, а Павел, он прошел мимо нас, засунув руки в карманы, не глядя, и скрылся в темноте.
Потом мне и в самом деле часто снилось, как медленно и жутко – то из вагона поезда, то из толпы людей – выходит Павел, идет мимо меня и я хочу его позвать, но голоса нет. Медленно расступаются переплетенные ветви палисадника, и на скамейке оказывается Павел. Разрывается завеса музыки в зале ДК, и в рухнувшей на мою голову тишине стоит Павел. Иду среди старых, разваленных, поросших мхом могил, а из-за одной из них выходит Павел. Тьфу-тьфу, он жив, слава Богу, оба мы живы, кто где, кто как.
Раздавленная каменной плитой, я стояла, а Геннадий все еще обнимал меня. Через его плечо я смотрела в темноту, куда ушел Павел. Геннадий, понятно, тут ни при чем, но его бы я ни за что не вернула в этот город и даже в его собственную жизнь – пусть бы он родился на сто лет позже или раньше меня, хотя я знаю, не случись этого сдвига в моей жизни, требовательная любовь Павла явилась бы для нас обоих тяжелым испытанием, ведь в чем-то важном мы были совсем разные, несмотря на наше внешнее сходство, которое нас обманывало. А по совести, так я должна быть благодарна Геннадию, ведь из-за него у меня есть повод думать, что на свете есть любовь и у меня была когда-то ее огромная возможность. Но, несмотря на то, что я это понимаю, Геннадия я бы не вернула в этот город, хоть он был здесь тогда и сейчас где-то есть, как я и Павел, – все мы где-то есть, живем, работаем, числимся, кто где, кто как, но в общем довольно сносно, как все.
Музыка
Вероника была худой, болезненной девочкой с таким странным выражением глаз, что про нее говорили: спит наяву. У нее было искривление позвоночника, и это обстоятельство вырвало ее из веселого круга товарищей и вынудило подружиться с совсем другими мальчиками и девочками, с которыми она лежала в больнице на вытяжении, заказывала корсеты в ортопедическом предприятии и консультировалась у врачей. Когда это обнаружилось, мать забрала ее из музыкальной школы. Вероникины новые товарищи по несчастью находились в разной стадии болезни: одна девочка была горбата – очень начитанная девочка, добрая душа, умница; другая наоборот – у нее был сколиоз только первой-второй степени, ерунда сущая, по мнению Вероники. Это была весьма благополучная девочка, хотя ее родители совершенно спали с лица от горя. Вероникина же третья степень, при которой обычно предлагали операцию, казалась им верхом бедствия. Вероника носила корсет и ортопедическую обувь, так как у нее одна ножка была короче другой, делала зарядку на шведской стенке, три месяца в году лежала в больнице на вытяжении и знала, что ей надо во что бы то ни стало продержаться в своей третьей степени аж до восемнадцати лет, пока кости не затвердеют и горб уже не вырастет. В то время у нее просто выступала лопатка, это было не так уж заметно непосвященным. Но до восемнадцати было еще плыть и плыть, пока ей было только пятнадцать, и летом ее отправили в санаторий, в Нальчик, на двадцать восемь дней набраться жизненных сил и отдохнуть.
Любовь случилась грозной, отчаянной, единственной и потрясшей ее с такой силой, что будь она деревом, ее вырвало бы с корнем, но она была не деревом, а девочкой, внутри ее еле-еле брезжила женщина к тому времени, но никто этого не видел, как не видят в тугом бутоне цветка, на нее уже неотвратимо, как прилив, надвигалась музыка, и жизнь в ней медленно, величаво, как тот же цветок, тянулась к миру, переполненному гулом нарастающей в душе музыки.
Конечно, там было много от мечтательности, от физической ущемленности и от тайны, поместившей ее с детства, еще до того как врачи обнаружили болезнь, внутрь стеклянного колокола. Она любила музыку, как ни одна девочка во всей музыкальной школе, хотя играла не лучше других, но не любила мажорные вещи – они ей были просто противопоказаны. Свободно дышалось в печали. Ее учительница, нервная и кокетливая девица, все не могла понять, отчего, например, вторую часть «Патетической» ученица играет из ряда вон плохо, а третью – прекрасно и с душой, – но не задумывалась над этой странностью.
Музыку еще до ее рождения внес в дом отец, которому мать поверила. Она потом так и говорила о нем: «Я ему поверила». Это был единственный человек, которому удалось ее, от природы такую угрюмую и подозрительную, провести, и удалось именно потому, что он вовсе не думал, как бы ее обмануть, а так получилось.
У отца при его любви к классике была внешность массовика-затейника. Он был усат, жидкокудр, подвижен телом и мимикой лица, имел ладную фигуру с добродушным брюшком, говорил тенором и носил костюм в блеклую клетку зимой, а летом рубашки с короткими рукавами и курортный галстук на резинке. Мать рассказывала, что когда он впервые появился в городке, то казался подкупающе слабым, беззащитным – в самый раз для женщины ее характера. Он был ослаблен неурядицами, случившимися с ним в одном подмосковном доме отдыха, куда его пригласили на сезон за внешность, гарантирующую, казалось, веселье на танцах, шарады, остроумные шутки, концерты самодеятельности и прочее. Но люди, принявшие его, жестоко просчитались: отец не был сведущ ни в полечке, ни в танго, не умел разудало объявить кадриль, потому что по своей природе если и был массовиком, то уж никак не затейником. В молодости он окончил дирижерско-хоровое отделение музучилища и через всю жизнь пронес трогательную, детски восторженную любовь к хору. Единственное, что он умел, это, построив людей и выявив голосовые возможности, научить их, разноголосых, разнохарактерных, дружить голосами, любить голосами, то есть петь хором. Как только аккомпаниаторша начинала играть вступление, робость и милота отца как сквозь землю проваливались: перед хором стоял тиран и диктатор, ненавистник и преследователь фальшивого звучания, требующий знания партии с двух-трех репетиций. Отец быстро освоился в городе и, к разочарованию Вероникиной матери, как-то окреп, возмужал – он организовал женский хор при Доме культуры, с которым общественная жизнь городка забила ключом: хор очень быстро завоевал второе место на областном смотре, о нем писали в районной газете и областной «вечорке», поговаривали о небольших и скромных гастролях... Вероника помнила, как стояли перед отцом будто на ладони его первые и вторые сопрано, помнила солистку хора, с которой и уехал отец из городка, помнила, как послушно принимали женщины сигналы, исходящие от чутких рук отца и изломленных бровей, требующих пианиссимо. «Все-то в тереме сидючи... с старым мужем горюючи-и...» – горько жаловались первые сопрано, а вторые, следуя едва уловимой трели отцовых пальцев в воздухе, подхватывали: «Ах ты, калинка моя, ах ты, малинка моя!» – «Не пускает ревнивый муж пошутить за воротами, поиграть хороводами...» – наступали первые сопрано. «Ах ты, калинка моя...» – отзывались вторые, а мужья первых и вторых сопрано в это время солидно прохаживались по фойе, заложив руки за спину и отбрасывая волосы со лба решительным кивком, словно тяжелые ревнивые мысли. Хор исполнял исключительно одну лишь классику – тут с отцом ничего не мог поделать ни директор ДК, ни сами женщины, соблазняющие его на «льется и льется, словно года»; отец неподкупно ставил на пюпитр партитуру «Аиды». Он умел привести своих разноголосых женщин к повиновению, и сопрано, не щадя живота своего, все-таки пели: «Кто там, с победой к славе...» Впрочем, сопрано не на шутку привязались к своему руководителю: когда отец уехал от них, женщины не пожелали перейти к другому специалисту и носили траур по отцу Вероники, замолчав навеки. А он покинул и их, и дочь, и уверовавшую во все хорошее жену, оттого, быть может, что по натуре был путешественник, и, создав хор в одной точке планеты, стремительно несся в другую – к другим сопрано, в другой край, к другой женщине, за другой судьбой. Он путешествовал по городам и весям с проигрывателем и кучей пластинок, с голосами умерших певцов и оркестрами исчезнувших филармоний, с поразительным пиано современного пианиста, с Шопеном и Дворжаком, сыгранными людьми разных стран, времен и материков, с оперными ариями на разных языках, с колоратурными сопрано и стыдливыми меццо, с басами и баритонами, со скрипками, валторнами, тарелками и арфами под мышкой. Эта музыка сипела и хрипела на оборотах под нацеленной в нее стальной иглой, соскальзывала с одной музыкальной фразы на другую, но она шла, она лилась, как дождь, и Вероника выросла под нею. А у матери была своя музыка, очень она любила «Осенние листья» и «Летят перелетные птицы», и обе эти музыки – матери и отца – нигде, ни в одной точке не соприкасались, не перекрещивались. Вооружась, словно каменным топором «Королевой красоты», мать легко побивала «Пиковую даму» отца. Из отцовой музыки она только жаловала «Соловья» Алябьева; отец же ничего не выделял из материной, и поэтому не она, а он ее покинул, хотя она ему верила, а больше никому, потому что до него имела дело с совсем другими людьми – она заведовала овощным магазином, а он говорил на другом языке и другой музыкой, которая в результате и растащила их в разные стороны. Веселый и неунывающий отец разговаривал музыкой. Иногда мать дулась на него, стояла обиженно на кухне, в бигудях, массивная, обиженная, и жарила себе яичницу – отец подкрадывался на цыпочках и, к великому восторгу Вероники, с грохотом падал перед матерью на колени и затягивал: «Прости, небесное созданье...» Когда он приходил пьяненький и мать железной рукой сначала втаскивала, а потом выталкивала его за дверь, он садился перед порогом на коврик, прямо на влажную половую тряпку, и во всевозможных тональностях, пока матери не надоест держать осаду, пел: «Позор! Тоска! О жалкий жребий мой!» Он являлся к матери на работу, где забулдыги, которыми она командовала, вкатывали контейнеры с редиской, а она, красная, толстая, в грязном белом халате, стояла посреди магазина и ругалась с покупательницей, уверявшей ее, что сами продавцы прут сумками не такую вовсе редиску, которую и редиской-то назвать нельзя, кошмар, а не редиска. «А вы потрогайте, – предлагала возмущенная мать, – нет, что ж это вы специально плохую под нос мне тычете, а это что, по-вашему, не редиска?» – «Мне стан твой понравился тонкий, и весь твой задумчивый вид!..» – вдруг разливалось по магазину.
Конечно, все вокруг удивлялись, что может быть общего между обаятельным культурным отцом Вероники и ее грубоватой матерью, и каждый объяснял это себе по-разному, то есть каждый по-разному был далек от истины: не из жалости он женился на одинокой женщине, не из расчета он пристроился возле заведующей большим овощным магазином, не из порядочности узаконил их отношения, когда она носила Веронику, – нет. Терпя крушение за крушением, и с женщинами, и на работе (часто одно вызывало другое и наоборот), он слишком уставал от жизни, смирялся и на ощупь искал надежное убежище, пристанище, угол, где бы ему разрешили перевести дух, опомниться. Его союз с матерью был временной уступкой прозе жизни, ее грубой материальности – так, по крайней мере, он объяснял это спустя несколько лет в письме к дочери, которая знать его больше не желала, – он прилепился к этой женщине, чтобы возле нее отогреться, воспарить и, свободным, как птица, устремиться на поиски новых голосов и приключений.
И вот однажды, весело и неунывающе насвистывая куплеты Эскамильо, отец ушел навеки, а вслед ему, как летающие тарелки, полетели все эти проклятые Гуно, трижды проклятые Вивальди (чтоб они провалились!), Моцарты, Мусоргские, и Танеевы, и чертовы Бетховены, и ненавистные Бахи, Брамсы, романсы, контрдансы, реверансы; отец растворился в складках воздуха под торжественную песнь Тореадора, улетучился, – но музыка доблестно осталась, и мать была готова бежать от нее на край света, как Ио, преследуемая оводом, потому что она так верила, что он человек, а то, чем он оказался, не для ушей Вероники, расти, дочка, тоненькой, воспитанной, не то, что твоя неученая мать, которая ни черта не смыслит во всех этих Верди, но зато баба верная и тебя не бросит, как некоторые, что прикрываются разными там Шопенами, а сами подлецы отпетые. Тогда Вероника согласилась не мучить мать и не издеваться над ее бедным сердцем, и музыка ушла в подполье, она слушала ее тихонько, чтобы мама, возвращаясь домой, не вспоминала отца. Постепенно тайна, которой она окружала музыку, вошла в привычку. На уроках музлитературы, когда учительница объясняла, где тема Руслана, а где – Черномора, она мучилась так, точно ее раздевали перед студентами-медиками, чтобы продемонстрировать степень искривления позвоночника. Вероника страдала, когда учительница, запустив руки в горячие внутренности музыки, извлекала оттуда на ощупь перламутровую трубу или золотую арфу. «Слышите, – бесстыже говорила она, – вот в этом месте чистая кварта, как вскрик, – это падает голова казненного Эгмонта». Девочки со скукой внимали ей: действительно, чистая кварта, чище и быть не может, и больше ничего, кроме чистой кварты, не происходило – ни озноба, ни ужаса, ни гибели, ни красоты.
Она полюбила его за музыку.
Санаторий размещался в двухэтажном помещении: на первом этаже в одном крыле был зал с пианино, столовая, в другом жили мальчики. Весь второй этаж занимали девочки. В этот заезд девочек было немного, и только пять-шесть из них с легкой формой заболевания – они пользовались большим успехом у своих санаторских ребят и у местных, с которыми администрация во избежание инцидентов дружить не советовала. Окно Вероникиной палаты выходило в яблоневый сад, просторный, полный августовских яблок: желтых, красных с царапинами, продолговатых – разных. За яблонями великолепно стояли горы, где-то за ними возвышался Эльбрус, куда каждому заезду полагалась экскурсия, Пятигорск, Провал, Машук, там, за горами, вечно длилась дуэль Печорина с Грушницким, который падал в пропасть и снова возникал, как заколдованный, на узкой площадке, стоило только перевернуть обратно страницу. Первобытной красоты и чистоты озеро сверкало у подножия гор.
Вечерами на санаторные танцы слеталось местное население и веселилось до упаду, тогда как хромые и горбатые отдыхающие следили за ними из-за деревьев. Наташа, Вероникина соседка по палате, миленькая и вполне развившаяся физически девушка, лет семнадцати, почти здоровая, выплясывала на этой площадке: всем-то она нравилась спокойным нравом и милотой. Местные ее вовсе не крали, завернув в бурку и бросив через седло, как обещал лечащий врач, а глубоко почитали, и палата была всегда полна фруктовых подношений и цветов. Вероника, если разобраться, тоже была хорошенькой, личиком гораздо привлекательней той же Наташи, но про нее говорили «малышка» и «на, кушай яблочко», как предмет любви она еще не годилась, тело у нее было совсем нескладное, ноги веревками, а коленки узелками, и никто из взрослых почитателей Наташи не принимал ее всерьез. Ну и ладно. Она записалась в санаторскую библиотеку и в кружок вязания; ажурная шапочка была почти готова, оставалось только вынуть ее из густого сахарного сиропа и натянуть на большую железную банку, чтобы застыла в форме... Как вдруг в один из вечеров она услышала слабую, исчезающую в мощных волнах «Черного кота» из репродуктора моцартовскую мелодию, начало ре-минорной фантазии, и шляпка выпала у нее из рук.
Вероника пошла, как сомнамбула, вниз, миновала лестницу и коридор, дальше отступать было некуда, возвращаться поздно: она открыла дверь в полутемный зал.
Парень, постарше ее года на три, в клетчатой рубашке, крутнулся на вертящемся стуле и уставился на нее, точно просыпаясь. Она узнала это выражение лица, она сама просыпалась именно так.
– Простите, пожалуйста, – горячо сказала Вероника. – Я не хотела вам помешать. Я сама играю эту вещь... плохо, конечно...
Парень в ответ чудесно улыбнулся ей, пошел навстречу и втащил ее в зал.
– Арсен, – произнес он и тряхнул кудрявой головой. – Арсений, стало быть.
– Вероника, – стесненно представилась Вероника.
– Хотите, еще поиграю?
С нею впервые говорили на «вы».
– Да, – прошептала она.
Он вернулся к инструменту, сел и, ссутулясь, прикрыв музыку собственным телом, заиграл.
– Знакомо? – спросил он, не переставая играть.
– Нет, – призналась она.
– Неужели не узнаете? Его нельзя не узнать.
– Если нельзя не узнать, то Шопен.
– Григ, «Импровизация». Эту вещь редко исполняют, а на пластинку, по-моему, еще никто не записал. Э, черт, слышите, как фальшивит?
– Фа диез, слышу.
– Абсолютный слух?
– Да.
– Молодец. Если вам не трудно, включите свет, совсем темно.
Вероника щелкнула включателем.
– Нет, невозможно, – воскликнул он, – ненавижу, когда звук фальшивит! Лучше бы меня самого двинули в ухо. – Он обернулся за ее улыбкой, и взгляд его сделался удивленным. Несколько секунд он как бы в замешательстве смотрел на нее, потом снова сгорбился над клавиатурой, что-то тренькая:
– Что у тебя болит, Вероника?
– Ничего, – сказала она. – Путевку по блату достали.
Он покивал, снял ногу с педали и вытянул ее в сторону.
– А у меня плоскостопие. (Она тоже уставилась на его ногу с некоторым подобострастием.) Ужасная пакость это плоскостопие, ноги к вечеру болят, а очень хочется горы облазить.
– Давайте пойдем в горы, – торопливо сказала Вероника. – Я здесь уже неделю, дорогу знаю.
– Ну, – ласково кивнул он, – дорогу знать лишнее, надо идти вслепую.
«Ох!» – вздрогнула она.
Он снова отвернулся к инструменту, и музыка сама потянулась к его рукам.
– А это узнаешь?
– Нет.
– Правильно. Этого ты знать не можешь. Мой концерт для двух фоно. Я играл его со своей учительницей, когда оканчивал музыкалку. Там есть один переходик, так, ничего себе, да?
– Удивительно! – пробормотала она. – Удивительно!
Он оторвал руки от клавиатуры, блямбнул по ней слегка кулаком и встал.
– Что там, танцы у них, что ли?
– Танцы, – подтвердила Вероника с надеждой.
– Пойти, что ли, посмотреть?.. А ты сиди, играй, я уже все...
И он ушел.
А она осталась, бросилась подбирать оброненную им только что мелодию его собственного – какое чудо! – концерта. Волна, обрушившаяся на нее, отхлынула следом за тем, кто ее обрушил, и понеслась по его следам в сад, в ночь.
– Ну, зачем тебе мое шелковое платье, дурочка? – мягко выговаривала ей Наташа. – Все же видели меня в нем и знают, что оно мое. К тому же платье на тебе висит, как на вешалке. Я уже не обращаю внимания на то, что ты красишь губы моей помадой, что тоже глупо – мужчинам не нравится, когда девчонка раскрашена, как клоун. Рано тебе, пойми. Ну, погоди, я тебя не ругаю, мне ничего не жалко. Ну, подними голову.
– Ты его любишь, да? – спросила Вероника.
– Кого? – был ответ.
Вероника сощурила глаза.
– Не ясно кого, да?
– Не ясно, – сказала Наташа.
– Зачем притворяться, – глухо сказала Вероника, – Арсена.
Наташа с минуту смотрела на нее, что-то соображая.
– Ах вот оно что, – протянула она. – Арсений тебе нравится... А я-то думаю, что это ты на нас уставилась диким взглядом на танцах, уж решила, что у меня комбинацию из-под платья видно. Да ты ж еще малышка, Вероничка, милая.
– Нет, – завопила Вероника, – нет, никто мне не нравится!
– А чего ж ты кричишь, – усмехнулась Наташа. – Ясненько. Я думала, он врет, знаешь, когда рассказывает, что кто-то ему каждый вечер на подоконник кладет цветы и яблоки. Это ты, да?
Вероника бросилась на кровать и закрыла голову подушкой. Наташа подсела к ней, принялась гладить ее по плечу.
– Подожди, – сказала она. – Вероничка, ты красивая, будешь еще в сто раз красивей меня, но сейчас ты совсем малявка, а ему интересно со взрослой девушкой. Не думай, он меня не любит, какое там, он, по-моему, кроме себя никого любить не может. И он мне не больно-то нравится, изнеженный какой-то, маменькин сынок, я таких не люблю. Ну да, красивый, высокий, на пианино тренькает, но это же еще не все...
Вероника села на кровати, с презрительной жалостью посмотрела на нее.
– Ты ничего в нем не понимаешь. Тебе – нет. Тебе его не понять, хоть тресни.
– Пожалуйста, – удивленная ее тоном, с обидой возразила Наташа, – бери его себе, раз ты так много в нем понимаешь. Бери. Если сможешь. А вон твой Жора свистит!.. Вот Жора – настоящий парень, я бы в него на твоем месте влюбилась, позвать?
– Меня нет, – отозвалась Вероника.
...Они познакомились за шахматной доской. Тут надо заметить как бы в скобках – потому что в глазах Вероники эта ее способность не имела решительно никакого значения, – она прекрасно играла в шахматы, чему обязана была опять же своей болезни. В шахматы она научилась играть еще до того, как узнала буквы и до того, как одним пальцем стала тюкать «Ах вы, сени мои, сени», но по-настоящему заиграла, когда попала в больницу. Игрой она как бы компенсировала вынужденную малоподвижность, в шахматах обрела раскованность, движение, силу и напор, каковых ей недоставало в действительной жизни. После больницы Вероника стала ходить в шахматный кружок, где с легкостью укладывала на лопатки второразрядников, а сама разряд не получила, потому что не желала участвовать в турнирах из полного равнодушия к этому своему дару, о котором она, может быть, и совсем забыла бы в санатории, кабы однажды не обнаружила Арсена в углу спортплощадки за шахматной доской. Там собирались любители. Там они и сразились. Он заметил ее присутствие не сразу – через два дня ему указали на Веронику как на самого сильного игрока во всем санатории.
– Сыграем? – несколько смущенно спросил он.
– Сыграем, – ответила она.
Но, усевшись за доску, она забыла, с кем и для чего играет. Она вообще, принимаясь играть, как правило, не видела партнера, забывала о нем начисто и после выигранной партии часто не могла вспомнить, ни какой он, ни сколько ему лет. Арсен быстро выдвинул центральные пешки, направил в бой слона и коня, все как положено, рокировался. Вероника, насмешливо хмыкнув, пожертвовала ему на десятом ходу ладью, и он поспешил воспользоваться этим, бедняга, приняв нос аллигатора, притаившегося под водой, за корягу. Он пытался предотвратить комбинацию, которую она и не собиралась устраивать за ее очевидной банальностью, он сражался с нею, имея в виду собственную логику игры, то есть сражался с самим собою, со своим приблизительным представлением о ней. Короче, она разнесла в пух и прах, смела с лица земли все его войско и получила в качестве боевого трофея изумленный взгляд. Тут-то она вспомнила, кого обыграла. Ведь не насмотрелась вдоволь на него, забыла о нем, и самое ужасное – за игрой грызла ногти. Но потом все в точности повторялось: она садилась с ним играть, и, поскольку шахматист он все-таки был неслабый, Вероника забывала про него, увлекаясь игрой, но, как только все заканчивалось и он небрежным движением сметал фигуры, не дожидаясь, пока она поставит ему мат, и память, и любовь, и мука – все возвращалось к ней снова, а он уходил легким шагом прочь по тропинке, независимый, непобежденный.








