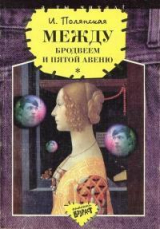
Текст книги "Между Бродвеем и Пятой авеню"
Автор книги: Ирина Полянская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Помолчав, мать вернулась к их прежнему разговору:
– Нет, нет, нельзя так жить, как мы, Коля. Вероятно – хоть я и ненавижу это слово – надо приспосабливаться... По крайней мере, тебе...
Коля ничего не отвечал, он знал, что она не нуждается в его репликах. Он сидел лицом к картине, написанной матерью. Людмила Васильевна, правда, говаривала, что масло не ее жанр, основные ее орудия искусства – вязальные спицы, крючок и карандаш, но Коле казалось, что ей исключительно давался колорит, передача света и цвета на холсте. На этой картине была изображена река, несущая свои библейские воды, с белыми барашками волн, уходящих к недалекому берегу... Тарзаныч однажды заявил, что у таких вод он и желал бы прожить свои последние дни, тогда бы ему, может быть, оказалась бы по плечу разгадка жизни. В другой раз он заметил, что в этой реке, должно быть, водится множество всякой рыбы – таких она первобытных целомудренных тонов. Почти резко, ослепительно белыми были написаны клочья гонимых ветром облаков над нею, облака удавались матери более всего. Итак, картина начиналась с реки, река текла на переднем плане, вдали, на песчаном берегу сидела, спрятав лицо в ладони, девушка, за ее спиной темнел лес.
Мать терпеть не могла это свое произведение и порывалась несколько раз его снять, но Коле был очень дорог этот просвет в стене, окно на речной простор.
Коля пошлепал босыми ногами на балкон, пощупал медицинский халат, который он вчера выстирал. Халат был еще влажным. Он достал утюг и принялся высушивать рукава, когда в дверь постучали. Это был Зимин. Он теперь приходил к Коле каждый день. К самой Людмиле Васильевне не смел: запретила.
– Идешь? – сказал он, вынимая пачку «Примы».
– Собираюсь, – ответил Коля и подбросил в воздух спичечный коробок.
Зимин поймал его, ссутулился над огоньком, точно стоял на ветру. Коля, поплевав на утюг, скосил на него глаза. Зимин задумчиво дымил сигаретой. Говорить им теперь было не о чем.
...Людмила Васильевна вязала ажурное платье на подкладке тете Нине. После Колиной истерики она зареклась являться в этот дом, но понадобились деньги, и Людмила Васильевна пошла на компромисс – теперь Зимина сама приходила к ней домой на примерки. Муж ее никогда не сопровождал, хотя теперь появлялся у них едва ли не каждый день. Платье наконец было связано и деньги истрачены. А через неделю произошло страшное, грубое. Коля открыл дверь на поздний стук, тетя Нина, не глядя на него, прошла в комнату и швырнула перед матерью сверток, из которого выпало порезанное на куски платье.
Мать сидела в кресле и читала журнал, когда вошла гостья. Увидев ее, она привстала и сделала движение, чтобы усадить женщину. Но Зимина пронзила ее ненавидящим взглядом, круто повернулась и, оттолкнув застывшего в дверях Колю, ушла, не сказав ни одного слова. Растерзанный наряд валялся на полу. Прикрыв глаза, мать потянулась рукой к столу, нашарила сигарету и спички и закурила.
– Сколько у нас денег? – спросила она.
Коля посмотрел в шкатулке.
– Мало. Пойди займи десятку у Тарлебова, скажи, в среду отдам.
Мать затушила сигарету и улыбнулась Коле насильственной улыбкой.
– Ведь я не сделала ей ничего плохого. Могла, да не сделала. Не сделала... – И, перебив себя, уже совсем другим тоном она деловито добавила: – Завтра отнесешь им деньги назад.
Пнув платье, она ушла в свою комнату – о, не плакать, нет; Коля знал, что, когда ее оскорбляли, она не плакала, и слезы, которым она яростно, не по-женски сопротивлялась, в конце концов могли задушить ее...
– Ты не умеешь гладить, – сказал Зимин, – на спине останутся складки. Дай-ка утюг. Иди лучше одевайся.
– Все равно сворачивать придется, – пробормотал Коля.
– Не все равно. А я думал – ты все умеешь.
«Свою жену лучше учите», – хотелось сказать Коле.
– Вот. Теперь сворачивай. Не так, сначала рукава сложи вовнутрь. У тебя суп есть?
– Супа нет, – пробормотал Коля.
– Зря, – отчитал его Зимин. – Вечером зайду, что-нибудь сварганю, горячее необходимо. А как с деньгами?
– Нормально.
Зимин посмотрел на него недоверчиво и устало.
– Слушай, Николай, не гордись передо мной, прошу тебя. Возьми денег. Что мы будем друг с другом считаться, возьми, а?
– Спасибо, – сказал Коля. – Нет.
Зимин тяжело вздохнул и пошел к двери. В дверях оглянулся:
– Может, ей лекарства какие-нибудь особенные нужны. Спроси у нее, я из-под земли достану.
– Хорошо, – сказал Коля. – Если будут нужны. – Он ждал, чтобы Зимин наконец ушел, потому что не хотел, чтобы соседи видели их вместе.
Через минуту Коля спускался по лестнице. Навстречу ему, тяжело дыша, с тяжелыми сетками в руках подымался Тарлебов. Коля перехватил у старика сетки и в несколько прыжков отнес на третий этаж.
– Как она? – спросил Тарлебов.
Коля пожал плечами.
– Ешь-то что?
Коля махнул рукой и отвернулся.
– Ты не отмахивайся, зайди ко мне, я борща согрею.
– Потом, – сказал Коля.
– Обязательно зайди. Что ж теперь делать, когда такая беда? А тебе жить надо. Зайдешь?
– Зайду. Спасибо.
Осень держалась в самом своем золотом равновесии. Через день такого уже не будет, думал Коля, через день все пойдет облетать... Цветы на клумбах осмысленно смотрели на него. Из всего летнего убранства они держатся дольше всего: львиный зев, петуньи, стайка георгинов в центре, анютины. Коля поднял с земли просторный, царственной красоты кленовый лист, желтый, с красными венцами, решил отнести его матери.
...В больничном дворе у центральной клумбы на складном стульчике перед этюдником сидел Тарзаныч и рисовал клумбу. Коля приблизился на цыпочках и стал у него за спиной. Солнечный зайчик ударил ему в глаза. Тарзаныч, держа в руке зеркальце, поймал его лицо и сказал не оглядываясь:
– Здравствуйте, мой юный друг.
– Честь имею кланяться, – ответил Коля по возможности бодрым голосом. – Солнечным зайчиком вы отпугиваете толпящуюся вокруг публику?
– Что, толпятся? Дышат друг другу в затылки, вытягивают шеи? Ату их, ату! Праздношатающиеся не должны заглядывать через плечо пожилому одинокому художнику, у которого, кроме его красок и вот складного стульчика, ничего нет. Грустно мне, что не красота осени слепит глаза этим людям, а ничтожная амальгама. Впрочем, мне просто любопытно видеть лицо человека, наблюдающего за тем, что я делаю, может, живое чувство проклюнется в этом лице... Обернуться не могу, радикулит – враг всякого художника и человека – замучил меня, Коля.
– Горчичники поставьте на поясницу, – посоветовал Коля, – змеиным ядом натритесь.
– Но кто поставит пожилому художнику горчичники? – рассеянно возразил Тарзаныч, соскребая что-то ногтем у себя на холсте. – Кто поставит?.. Послушай, как тебе мои бабочки?
– Вы уверены, что это бабочки? Не птеродактили? И что вы, собственно, здесь делаете? На вас же смотрят изо всех окон.
И в самом деле, из многих окон выглядывали больные.
Тарзаныч поднял голову и указал куда-то рукой.
– Вон в том окне сегодня уже два раза появлялась Мила. Она делала мне знаки. Она приветствовала меня.
– Мама? Она встала? Ну, тогда пока, я побежал, – поспешно сказал Коля.
– На обратном пути загляни, – жалобно крикнул Тарзаныч. – Ты же знаешь, как я волнуюсь за нее. Я тут еще пару часов посижу.
В приемном покое Коля переобулся, накинул на плечи халат и с кленовым листом под мышкой взбежал на второй этаж.
На площадке курила Петрова с серым от недосыпания лицом. Она уже вторую неделю дежурила около своей старой матери, которая лежала с Людмилой Васильевной в одной палате. Старуха умирала. Тяжело было слушать клокотавшее, прерывистое дыхание, каким-то чудом еще удерживающееся в старческой груди. Когда ее только привезли, она все просила, чтобы «не отдавали смерти», и тянулась поцеловать руку у Игоря Николаевича. Сейчас, когда к ней возвращалось сознание, она принималась уговаривать дочь, чтобы ее не мучили, не кололи, дали спокойно отойти. Ночами Петрова сидела возле нее; сначала ее потихоньку от врачей подменяла Людмила Васильевна, теперь не могла, только пускала Петрову отдыхать на своей кровати. Иногда они так и засыпали, лежа валетом.
Петрова, увидев его, вымученно улыбнулась:
– Знаешь, твоей сегодня полегче. Она даже выходила во дворик.
Коля быстро пробежал коридор и устремился к палате. Когда он открыл дверь, все женщины, кроме Петровой-старухи, повернули к нему головы, а потом, как по команде, взглянули на койку у окна, где лежала Колина мать. Пока он подходил к ней, слезы навернулись у нее на глаза и потекли по лицу. Коля подсел к ней и пробормотал:
– Ну вот...
Мать схватила со спинки кровати полотенце и прикрыла глаза.
– Ей сегодня легче, – сказала женщина с соседней койки. Она сидела на кровати и ела из банки чернику.
– И анализы, говорят, неплохие, – похвасталась юморным тоном мать из-под полотенца.
– Спасибо Игорю Николаевичу, вернул с того света, – добавила соседка.
– Напугала тебя, – сказала мать.
– Напугала, – пробормотал Коля. – Чтоб больше этого не было, слышишь...
– Правильно, правильно, – поддержала женщина с черникой. – Сама себя убедила, что тебе плохо, вот тебе и стало плохо. А надо надеяться на лучшее, верно?
– Что это у тебя? – спросила мать, отбрасывая полотенце. – Ух ты, какой породистый лист, дай-ка мне сюда. Просмотрела я эту осень, жалко. Что, виноград пожелтел?
– Поржавел, – сказал Коля.
– А береза?
– Береза еще зеленая. Ешь вот тертое яблоко. И гранат.
– А тебе?
– У меня есть... Да, Зимин каждый день ко мне ходит, – доложил Коля, глядя в сторону.
– Да? И как он? Наверное, спал с лица, бедняжка... А у меня сегодня были Валерий Степанович и Аннушка. Представляешь, они всем коллективом подписали петицию, и теперь в Дом культуры приехала комиссия из области. Директора нашего снимают. За ним, оказывается, еще много чего всплыло по старому месту работы. В общем, все это малоинтересно. Я ведь всем сразу сказала, что он у нас не задержится.
– Это потому, что ты сплотила здоровый коллектив. Вам теперь никакой директор не страшен, – рассудительно произнес Коля.
– Ты так полагаешь? – протяжно спросила мать. Было видно, что эта неуклюжая похвала ей приятна.
Она увлеченно принялась рассказывать, как здорово ей помог новый препарат. Рассказывая, она удивлялась сама себе и состроила ироничную мину: прежде ей были неприятны разговоры о лекарствах и болезнях. Коля кивал на каждое ее слово, переспрашивал, радуясь ее разговорчивости. Потом он принялся разбирать продукты в ее тумбочке – позавчерашние груши уже подгнили. Мать замолчала и повернула голову: слабый хрип умирающей старухи донесся с соседней кровати.
– Пожалуй, сегодня я пойду сама в столовую, – сказала мать. – Иди, Коля, у нас уже обед. Вечером приходи.
Коля шел по улице по направлению к школе. И только дойдя до школьного двора, он понял, что забыл дома сумку с тетрадями. «А, черт с ней, со школой», – легко решил он и повернул прочь. Ему захотелось кого-нибудь обрадовать грядущим выздоровлением матери, и он набрал номер Зиминых.
– Аюшки? – спросил голос тети Нины.
Коля швырнул трубку, вышел из будки и медленно зашагал домой. Листья все падали, падали, ложились черенками вверх на землю, сквозь прозрачные кроны сквозило пустынно-голубое небо. Коля вспомнил, как обрадовалась мать кленовому листу, ему было грустно и приятно об этом думать, представлять себе, как мать поставит его в стакан с градусником и будет любоваться и думать о сыне... Потом он принялся вспоминать мать в различные периоды их жизни... Ему представилось ее выразительно разгневанное лицо, когда он, первоклассник, однажды потерял варежку. Мать всегда была для него непредсказуема; в другой момент она не стала бы поднимать шума из-за столь мелкой пропажи, но на этот раз, объявив ей о варежке, он в испуге отшатнулся – так она разозлилась. Такая добрая, теплая, в мягком байковом халате, который он любил, надеялся на него, на халат, – ведь гневу не подобают домашние одежды, гнев и презрение должны изливаться непременно в строгом черном платье.
– Растяпа! – бросила она энергично. – Ты так всю жизнь потеряешь и не заметишь. Эта вечная неаккуратность в мелочах – знаешь, к чему она приведет? Ступай и не возвращайся без варежки...
И он ушел, всхлипывая, тяжело ступая в галошах, обутых на валенки, надеясь в душе, что она вернет его, окликнет. Но нет. Он побрел вдоль темной зимней улицы, которая вымерла в это время – по телевизору показывали какой-то захватывающий сериал. Из чужих окон доносились крики, пальба – вот какой славный фильм смотрят люди! Окна, за которыми уютно бормотал телевизор, казались ему особенными – если б они жили за такими занавесками, с таким вот абажуром, они бы наверняка все время были счастливы, варежка б была с легкостью прощена. Варежки не было. Пробродив два часа по улицам, Коля поднялся по лестнице домой, как больной и усталый старик, отдыхая от будущего страха на каждой ступеньке. Дверь вдруг распахнулась перед ним.
– Где ты так долго ходил? – спросила мать.
– Я не нашел ее, – ответил Коля.
– Кого?
– Варюшку.
Молчание. Вдруг мать схватила его и с силой прижала к себе.
– Прости, прости, – прошептала она. – Какая там «варюшка»!..
Коля понял: свой гнев на кого-то, несправедливого и злого, она случайно переадресовала ему.
Потом она представилась ему совсем иная. Это было совсем недавно, еще до того, как Лана дала ему отставку: была пора Маяковского в его жизни. Коля никогда не мог читать стихи так, как положено читать, чтобы иметь представление обо всем творчестве поэта – от корки до корки каждый том. По полгода он не мог сдвинуться с двух полюбившихся ему поэм и нескольких стихотворений. Взгляд его льнул все к тем же любимым строкам, хотя он давно уже знал их наизусть, он не мог сойти с них, как человек, завороженный каким-то одним пейзажем. Коля прочитал вслух заветное «Послушайте!» Иоланте. Она наморщила лоб.
– Не люблю Маяковского.
Это так расстроило Колю, точно она призналась ему в нелюбви к нему самому. Он не умел спорить с ней, но сказал:
– Ты, наверное, его совсем не читала.
– Читала, – состроив гримаску, возразила Иоланта. – «Я волком бы выгрыз бюрократизм». Это плакат. Какая тут поэзия? И не делай, пожалуйста, вид, что тебе это может нравиться. Скажи, что ты любишь Маяковского, нашей литераторше, там это уместно прозвучит, она сомлеет от восторга.
Нет, Коля не умел защищаться. Он несколько минут размахивал руками, пытаясь взлететь. Иоланта со скукой внимала ему.
– И его самого не понимаю, – сказала она в ответ. – На Есенина вон как ополчился, когда тот покончил с собой, а сам... Это признак слабости... – торжественно повторила она чьи-то слова.
Когда Коля пересказал этот разговор матери, дар слова и доводы, исчезнувшие в присутствии Ланы, вернулись к нему. Мать тоже рассердилась. Ее глаза сверкнули, она подняла руку и погрозила кому-то кулаком.
– Для лакея, – процитировала она, – нет великого человека...
И тут воспоминания об Иоланте, отстранив думы о матери, сжали его сердце. Память, повитав над нею, уронила из воздуха перо, как бы вещественную принадлежность Ланы: перед ним стояла ее подружка Вера, словно выступила из волн, относивших его к Иоланте.
Она спросила о матери, он не спросил ее о Лане. Вера опаздывала в школу, но почему-то увязалась за Колей: ей надо взять билеты в кинотеатр, находившийся возле его дома. Она пошла рядом, стараясь ступать с ним в ногу. Он тихо ненавидел ее, обдумывая, как бы понебрежней расспросить Веру о Лане и ее парне, но чувствовал, что равнодушное лицо не получается. Надо молчать. Заговор молчания. Вера отбежала куда-то в сторону, и Коля, решив, что она распрощалась с ним, принялся корить себя за то, что ничего не сумел узнать. Но Вера вернулась: в руке у нее было два эскимо. Отнекиваться было смешно. Хоть полслова о Лане, молил он ее в душе. Но Вера молчала, глядя себе под ноги, мороженое текло у нее по руке и капало. Коля незаметно отшвырнул свое. Наконец они поравнялись с кинотеатром, Коля учтиво произнес «до свиданья», и Вера опять ничего не сказала об Иоланте, а сказала что-то хорошее о фильме, на который собиралась брать билеты. Коля рассеянно кивнул и ушел от нее.
Как странно, думал он, ведь какое облегчение, что матери лучше, но мысль об этом уже успела стать для него привычной, ровной, и снова нахлынула тоска. Последние две недели, занятый матерью, он почти не думал об Иоланте, даже в школе, глядя на нее, уже не испытывал того сердечного ущемления и боли. Болезнь матери вытеснила все, на другое уже не оставалось времени и душевных сил.
Дома Коля уселся перед картиной. На далеком берегу была изображена женская фигура, в которой он одновременно увидел и мать и Иоланту. Он вздрогнул: по воде, написанной маслом, прошла рябь, и картина у него на глазах вдруг пережила ряд магических превращений. Символы, как корни деревьев, цепляли его за ноги, не давали убежать от догадки, что все это происходит с ним... Коля встал, подошел к ней вплотную... Солнечные струи ударили в радужную пленку воды и, отраженные, рассеялись над нею, воздух ожил, кожей лица он явственно ощутил свежее речное дыхание. Все вокруг дышало ясностью и покоем, кроме фигуры девушки, закрывшей лицо руками, утренние облака таяли и поглощались звонкой синевой, река горделиво текла и искрилась на солнце, ей было все равно: этот ли человек смотрит в ее воды, другой ли, в эту секунду или вечно, – река самоуглубленно занималась своим собственным делом, текла, повторяя изгибы берегов, перепрыгивая пороги и вращая колеса водяных мельниц, унося ветки деревьев и перила мостов, что ей было до человека – сегодняшнего, вчерашнего, незапамятного, когда само время отражалось в ней, как облака... Светоносные реки времени, мы строим свои дома на берегах ваших, зная о том, что прочен лишь воздух, неизменны краски, сильна вода, но не стены, не сердце, не металл... Коля поднялся на ноги, отряхнул сор с колен и пошел прочь от воды к лесу, оставляя на влажном песке следы. В эту минуту он понял, что ближе матери у него нет и не будет никого на свете: ни музыка, ни стихи, ни любовь не смогут заменить ее.
– Друг мой единственный! – сказал Коля. – Как замечательны подобранные тобой краски для этой жизни... Если бы я раньше понял это и то, как беззащитна ты со своим набором цветных карандашей и кистями, которыми ты рисовала белый свет, я бы давным-давно мог сделаться твоим заступником и не позволил бы ни себе, ни людям нанести тебе ни единого удара.
– Ударов не было, – отозвалась мать. – Говорю это к тому, что, хотя нас и поколотили, честь наша, да будет тебе известно, осталась незапятнанной, и нам не больно – ни мне, ни тебе. Ты на верном пути, иди прямо на сосны, скоро тебе встретится куст боярышника, за ним две березы; следующие приметы – на разных глубинах леса прострекочут две птицы сороки, иди на стрекот и, чтоб не заблудиться, смотри усердно под ноги, где сквозь осеннюю листву, черное царство зерен и корней просвечивают древние клады. Но пусть тебя не остановят богатства, прервавшие путь иных, для нас с тобой кленовый лист, подернутый осенью, – большая драгоценность, чем бриллиант чистой воды, если уж быть совсем откровенным, правдивым и искренним.
Вечернее небо подымалось выше и выше, освобождая пространство для дум, для размышлений о жизни, о том, что, кроме книг и звезд, есть на свете еще счастье. Зачем, зачем мы здесь, пел какой-то голос, для чего бродим по лесу, уж не затем ли, чтобы услышать жестяной звук осени в шуме дубрав, рассмотреть веточки плакучей березы в сиреневом, серебрящемся воздухе во всех подробностях... Стремительно темнело, грустнело вокруг, заволакивались сумерками дали. Озерца, темные и неподвижные, с полуутопленной в них листвой, встречались ему на пути; из-за деревьев выскочил друг человека, лизнул руку; охотник в ботфортах с ружьем наперевес объявился следом за псом и указал кратчайший путь к столице леса – шелковистой поляне, где еще не было осени. Просторно было в коридорах сентября, вот все вокруг отбрасывает тени, она одна отбрасывает свет, кто-то вокруг шептался и восклицал, что все будет хорошо, иначе, чем мы обычно себе представляем, и мать, и возлюбленная будут с тобою. Сумерки вбирали в себя уже много леса, приходилось идти на ощупь.
Во тьме твои глаза блистают предо мною. Во тьме твои глаза блистают предо мною.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
(Повесть)
1. Зеркало
...И вдруг налетел календарный мартовский ветер, согнул в три погибели городские деревья, даже вороны не могли удержаться на ветках, их тоже сдувало и влекло по течению воздуха, как лоскуты афиши Латвийской филармонии со столба объявлений; ветер опрокинул ветхую ограду на старом латышском кладбище, и ожидалось, что вот-вот старинные памятники оторвутся от могильных плит и разбегутся по городу кто куда, а каменные ангелы с надгробий взмахнут потрескавшимися крыльями и слетятся, как голуби, на городскую площадь, где явно недоставало какого-нибудь посланника прелестной старины, где все вокруг было новое, четырехэтажное, тогда как древняя часть городка утопала в весенней грязи, с каждым годом все больше и больше превращаясь в окраину. Весна звонила во все колокола, звала на митинги, пикники, на что-то сумасбродное, веселое, и поэтому ученики городской средней школы, открыв настежь окна, попрыгали прямо в талый снег и сломя голову помчались на расположенное неподалеку кладбище... Звонко и радостно, как галчата, они покружили над знакомыми могилами, которые были стары, даже слишком, чтобы пугать, наводить мысль о смерти, а потом уселись рассказывать страшные истории именно на том самом месте под березой, где спустя три дня, уныло тюкая лопатами еще не оттаявшую землю, двое могильщиков выроют яму для их учителя пения и музыки.
Итак, огибая мощное надгробие с вознесенной над ним Ниобеей, у которой ветер напрасно пытался раздуть каменные складки одежд, они решили, что учитель пения, конечно, жаловаться на них директору школы не пойдет: не такой он человек. А учитель в это время вошел в пустой класс и сказал: «Здравствуйте, дети» – рев ветра за окном ответил ему. Ученики посидели по очереди на коленях безглазой статуи, не мигая смотревшей ветру в лицо, а учитель в этот момент уже миновал школьный коридор и пошел куда глаза глядят, гонимый учениками и ветром. Дети заметили, что облака над городом летят как сумасшедшие куда-то в сторону реки. «А небо, Боже мой, обезоруживающе прекрасно даже в смертный час», – подумал учитель, пересекая дорогу, по которой, как ветер смерти, мчалась машина. Смерть человека в одно мгновение смешалась со стоном деревьев, с бегущими над прохладным миром облаками и лохмотьями позавчерашних афиш со столба объявлений у Политехнического института, где меньше чем через месяц, когда весна вошла в свои берега и Даугава из серой пенящейся лавины воды сделалась кроткой равнинной рекою, возникло свежее объявление о продаже учительского рояля.
Конечно, мы с тобой ни прямо, ни косвенно не были повинны в гибели этого тихого человека, который, до стеснения в груди боготворя Шопена, разучивал со школьниками детсадовские «У дороги чибис» и «Птичка под моим окошком»; те же самые песни учили и мы – в другой школе. Впрочем, ты тогда была мала, ты разучивала в своем детском саду: «Воробей с березки на дорогу прыг, больше нет морозов, чик-чирик!» Куплет пел солист, не ты, ты так и не научилась солировать, «чик-чирик» исполнял хор, причем ты в этот момент вместе со всеми скованно махала не окрепшим еще крылом, имитируя воробушка. В те времена стояло воскресное апрельское утро 1957 года – последнее воскресенье стремительно и бесповоротно уходящего апреля: оно отражалось в чистых окнах, лужах, витринах, в черных полированных ящиках двух пианино, которые завезли вчера вечером в магазин. В нашем городе тогда еще немногие жители могли купить себе пианино, но мы уже могли себе это позволить, потому что наш отец, не щадя живота своего, служил науке и вместе с тем зарабатывал для нас, чтобы ни ты, ни я ни в чем не нуждались. Ходики с кукушкой показали ровно семь часов утра апрельского воскресенья, и в этот момент, когда птичка судорожно выпихнула свое березовое тельце из часов, отец зычно крикнул: «Подъем!»
У нас с тобой в комнате был детский уголок, где в чистоте и порядке стоял игрушечный столик со стульями, кровать для кукол смастерил сам отец из четырех штативов и какой-то сетки, мама сшила матрас и одеяльца, под которыми спали моя целлулоидная Надя и твоя тряпичная, маркая Мерседес; отец будил нас, а мы, в свою очередь, будили наших дочек. Это я отлично помню, а вот какие репродукции висели в детской, вспомнить не могу, хотя предполагаю, что это были Шишкин и Саврасов, особенно любимые отцом. В нашей комнате все было пронизано светом, солнцем, солнечными пятнами. Когда мы открывали шифоньер и подставляли свету его потаенное зеркало, комната, отражаясь, продолжалась. Впрочем, это не важно. Вскоре принесли рояль, и Надя и Мерседес, все подали в отставку, потому что он занял не только всю комнату, но и все наше свободное время. Подумай: до того, как его внесут, остались считанные дни – давай же еще немного побудем в просторном утре, когда отец приблизился к двери и постучал...
Едва костяшки его сухих и выразительных рук стукнулись о нашу дверь, ты уже сорвалась с постели и повисла на шее отца. Ты была очень худа, и рубашка болталась на тебе как колокол. Отец рассеянно похлопал тебя по спине, поставил на пол, но глаза его смотрели на меня.
– Мои детки выспались? – спросил он меня, а ты закричала:
– Да, да!
– От, не шуми так, Таечка, – сказал он и, мазнув тебя рукой по волосам, прошел ко мне.
– Ну-ну, вставай, детка, я же вижу, один глазик уже проснулся.
– А другой? – сонно спросила я.
– Сейчас и другой разбудим.
– А третий? – настаивала я.
– Разве Гелечка похожа на плохую девочку Трехглазку? – удивился отец. – Нет, – терпеливо возразил он, – у нашей доченьки только пара глазок, и оба уже открылись, чтобы видеть чудесный день.
– Девочки, делать зарядку! – распорядилась бабушка из-за папиной спины.
– А я не хочу ее делать, – сказала я, – пусть мне лучше приснится, как я делаю зарядку.
– Пусть тогда дочурке уж заодно и приснятся вкусные сырные печеньица.
– Нет, сырные печеньица я лучше так съем.
– Тогда вставай, детка. Петушок уже пропел.
– И скоро придет толстая Цилда?
– Скоро, скоро.
– А Гоша будет потихоньку ногти грызть?
– Гоша – трудяга, детка, в отличие от некоторых, которые сони.
– А Цилда соня?
– Почем я знаю?
Он вынул меня из кровати и поднял над головой. Все говорили отцу, что я как две капли похожа на него. Я висела над ним, как капля, и видела, как слезы ревности наворачиваются у тебя на глаза, хотя ты еще улыбалась. Отец снова опустил меня в постель, легонько шлепнул – одеваться! – и, снова пронеся руку над твоей головой, ушел будить маму.
Бабушка, что-то напевая, приводила в порядок свою каморку. Ее спальней была кладовка, потому что бабушка не хотела никому мешать, имея привычку читать допоздна. Так она и жила в кладовке, как мышка-норушка, но никого из соседей и отцовых гостей не обманывала ни эта кладовка, ни раскладушка, застланная линялым одеялом, ни настольная лампа с обгоревшим абажуром – там инкогнито проживала королева, а вовсе не мышка, не норушка. Это ее дребезжащий, но властный голос отрывал отца от подготовки доклада, который он собирался сделать на Менделеевском съезде в Москве: «Саша, поди сюда!» Девочки, услыхав бабушкин призыв, подхватывали его, и Александр Николаевич, оторвавшись от трудов своих, выходил в коридор и прислонялся к двери бабушкиных апартаментов. «Послушай, Саша, какая дивная мысль», – говорила бабушка и певучим голосом декламировала сыну какое-нибудь место из «Пер Гюнта» или «Фауста». Отец, прикрыв веки, впитывал прочитанное, просил повторить. Маме, которая не смела отрывать отца от его дел, все это казалось демонстрацией духовного единства свекрови с сыном. В прочитанных бабушкой отрывках она не видела ровным счетом ничего неотложного, поза отца казалась ей ненатуральной. После того как дивная мысль была зачитана и повторена, мама всовывала голову в кладовку и простодушно спрашивала, жарить картошку, или варить, или потушить капусту к котлетам. Над бабушкиным изголовьем висела репродукция картины Рембрандта «Анатомия доктора Тюльпа». Нас она несколько пугала, куда больше тепла было, например, в «Спящей Венере» или «Святой Инессе», вырезанных бабушкой из «Огонька», но отцу казалось, что Венера и Инесса нанесут непоправимый урон атмосфере целомудрия в его семье, и обеих красавиц бабушка держала в папке, на которой было написано: «Применение органических реактивов в неорганическом анализе». Здесь же хранился дневник бабушки с надписью на обложке: «Dum spiro spero»[1] – вечерами бабушка в него писала адресованные вечности доносы на наши с тобой шалости. Нам казалось, эта тетрадь содержит неслыханные разоблачения, великие секреты, глубокие мысли, навеянные чтением Ибсена и Гете. Мы подозревали, что бабушка зашифровывает свои записи, сделанные к тому же наверняка на немецком языке, которым она свободно владела; одно время мы мечтали проникнуть в тайну ее дневника, но нам казалось, что если попытаться сделать это, то случится непоправимое – то ли злой ветер подхватит и унесет нас, то ли каждая из нас превратится в козленка, напившегося из копытца, поэтому мы лишь теребили тесемки на синей папке, но дальше этого пойти не отваживались. Спустя много лет, когда мы уже хорошо понимали, что читать чужие дневники – кощунство и святотатство, хотя ни ветер, ни козленок нам не грозят, дневника уже не было, да и бабушки тоже. Однажды мама рассказала, что она этот дневник потихоньку читала, что, ей-богу, ничего выдающегося и глубокого там не было: рецепты старинной кухни в нем перемежались с пространными в ее, мамин, адрес замечаниями, а впрочем, детки, бабушка очень вас любила, особенно тебя, Таюша, что и нашло свое отражение на страницах ее тетради между описаниями приготовления слоеного пирога с бараниной и восточной сладости под названием «чак-чак», которые, бывало, уплетали за обе щеки папин аспирант Гоша и лаборантка Цилда, а Наташа только хвалила и восхищалась, имея целью не восточную сладость, а твоего, Гелечка, детка, отца, его именно, нашего папу, в то достопамятное утро обходившего свои владения, собирая подчиненных на завтрак. Бабушка объявила, что завтрак она приготовит сама, пусть мама Марина не беспокоится, пусть отдыхает... Отец возразил, что не следует баловать Марину. Бабушка заметила, что сегодня воскресенье, поэтому за стряпню примется она, не Марина, она испечет сырные печенья для Гоши, Цилды и скромницы Наташи.








