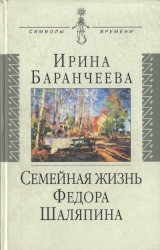
Текст книги "Семейная жизнь Федора Шаляпина: Жена великого певца и ее судьба"
Автор книги: Ирина Баранчеева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
Привычка играть сделалась еще одной несчастной слабостью Шаляпина. В Монте-Карло он просаживал огромные суммы денег. Их знакомые, видевшие его там, по приезде в Москву рассказывали Иоле Игнатьевне, что ее муж оставляет на зеленом сукне целый капитал. Некоторые наблюдали за этим с сочувствием, некоторые – со злорадством. Фигура Шаляпина притягивала к себе всеобщее внимание.
И хоть роль жандарма совсем не привлекала Иолу Игнатьевну, пришлось ей Скрепя сердце сесть и написать ему, как провинившемуся мальчишке, резкое и строгое письмо. Остановить его могла только она. Иола Игнатьевна просила Шаляпина уехать из Монте-Карло не только из-за проклятой рулетки, но и из-за театра, то есть из-за антрепризы Рауля Гюнзбурга, которая как артисту не приносила ему никакой славы: «…Публика Монте-Карло смотрит на тебя, как на певца в кафе… Уверяю тебя, что в этом Монте-Карло все кончится тем, что ты окончательно потеряешь голову и станешь зауряднымартистом и человеком малопривлекательным и уважаемым… Ты не имеешь права делать то, что ты делаешь, поскольку такой артист, как ты, всегда должен быть достоин своей славы, которая есть слава всего народа».
Подобные «наставления» всегда раздражали и злили Шаляпина, но в глубине души он не мог не понимать, что Иола Игнатьевна права. Ведь она была как бы голосом его совести.
В апреле 1909 года Шаляпин сообщил Иоле Игнатьевне, что собирается в Париж, где он должен был петь Ивана Грозного в «Псковитянке» во время Дягилевских сезонов. А Иола Игнатьевна, едва дети поправились, стала собираться в Крым. После тяжелой болезни детям было необходимо погреться на солнышке.
Из Москвы они уезжали в ужасную погоду. Небо было затянуто тучами и лил дождь. Иола Игнатьевна стремилась поскорее оставить позади все трудности и несчастья, которые преследовали ее в эту долгую зиму. Из Севастополя она сообщила Шаляпину о детях: «Они, как птенцы, вырвавшиеся из своей клетки, веселы и жаждут воздуха и пространства».
Пока доехали до Ялты, лица детишек обветрились и загорели. На солнышке к ним вернулась их обычная жизнерадостность, да и сама Иола Игнатьевна постепенно преображалась. «Погода разная, – писала она Шаляпину, – но светит солнце, и кажется, что ты возрождаешься к новой жизни, когда можешь вдохнуть хоть немного свежего воздуха».
В конце апреля к ним в Гурзуф неожиданно нагрянул Шаляпин, выступавший с концертами в Киеве. Как всегда, дети были в восторге, но Шаляпин уехал так же быстро, как и приехал.
Эти приезды и отъезды Шаляпина были для Иолы Игнатьевны еще очень тяжелы. И если она брала себя в руки и ничем не выдавала своих чувств, то делала это только ради детей. Она понимала, что перестала быть для Шаляпина любимой женщиной. Осознавать это было тяжело, но еще тяжелее было примириться с условиями этого лживого, двойного существования. Никоим образом она не хотела быть Шаляпину обузой. Но она должна была вырастить детей, поставить их на ноги. А когда они станут самостоятельными и не будут нуждаться в ней, она уйдет… И она молилась только о том, чтобы этого не случилось раньше. Все переживания, выпавшие на долю Иолы Игнатьевны, подточили ее организм – у нее были сильные головокружения, иногда она теряла сознание, – и она боялась, что скоро умрет, и с ужасом думала о том, в какие руки попадут ее дети. «Мои бедные нервы совершенно расстроены, – писала она Шаляпину, – бывают моменты, когда мне на самом деле кажется, что я схожу с ума, у меня все больше и больше бывает головокружений, и ни один врач не может найти для меня лекарство…»
Она не изменила своих привычек: в письмах к Шаляпину она по-прежнему была с ним совершенно откровенна, не скрывала от него своих чувств… Когда Шаляпин уехал, она написала ему: «Не знаю почему, но в момент твоего отъезда я должна была через силу сдержать слезы, для меня настоящим мучением было видеть, как удаляется пароход, который уносит тебя. Наверное, бедная моя душа переполнена грустью, потому что каждый раз, как ты нас покидаешь, мне кажется, что я тебя теряю навсегда…»
Наверное, только здесь, в Крыму, Иола Игнатьевна наконец начала понимать, что же произошло в ее жизни. Все эти три года она прожила в каком-то непонятном дурмане, в кошмарном сне. Вначале были боль, отчаяние, обида, потом она погрузилась в какой-то странный летаргический сон, без борьбы и протеста приняв случившееся… И вот наркоз стал отходить, калека выбрался из-под обломков рухнувшего здания, осознавая свои потери…
Шаляпин не вернется к ней – это было ясно. С Марией Валентиновной ему было хорошо. Там его не ругали, не требовали от него, чтобы он был лучше и чище, чем он есть на самом деле, не ставили перед ним никаких нравственных задач, потому что и сами их не имели. Его принимали таким, каков он есть, и были всем довольны. И заботились о нем, берегли его, глаз с него не спускали. Мария Валентиновна не повторила ошибок Иолы Игнатьевны: она понимала, что сохранить Шаляпина для себя можно только одним способом – она всегда должна быть рядом с ним.
Вероятно, Иола Игнатьевна это знала или о многом догадывалась, но перестать любить Шаляпина – не могла. Часто в письмах она жалуется ему на то, что он забывает о ней и мало пишет. Она постоянно спрашивает о его выступлениях. Оскорбленное женское чувство не заслонило в ней преклонения перед его изумительным талантом.
«…Ты знаешь, как это интересует меня и как я за тебя переживаю, – писала она ему, имея в виду его сценические триумфы и прося сообщать о них подробно. – Я больше ничего не имею в этой жизни, у меня отнято даже последнее утешение – присутствовать на твоих спектаклях, что составляло половину моего существования, потому что ты знаешь, как я люблю подлинноеискусство, сцену, где я почти что родилась, и я испытываю такое неимоверное страдание, что не могу видеть тебя на сцене, что забываю обо всем, и передо мной только великий артист, которого я бы хотела видеть еще более великим, более могущественным, единственным и неповторимым».
«Прошу тебя, пиши мне почаще, – просила она его в другом письме, – ты можешь принести мне эту маленькую жертву (я думаю, что я ее заслужила). Пиши мне о твоем здоровье, о твоей артистической жизни, о частной жизни я не спрашиваю, не хочу заставлять тебя врать.
Не забывай о тех, кто тебя по-настоящемулюбит, о твоих пяти детях, которые обожают своего папу».
Это была правда. Своим детям Иола Игнатьевна передала по наследству эту необыкновенную любовь к Шаляпину. Мальчики во всем подражали отцу, и Иола Игнатьевна называла это «настоящим спектаклем, художественным изображением Федора Ивановича Шаляпина». Ирина, молясь перед сном, всегда крестила портрет отца, висевший на стене в ее комнате, и много-много раз целовала его. Но несмотря на все жертвы Иолы Игнатьевны, дети по-прежнему были лишены отца. Шаляпин уделял им так мало времени, что почти не знал их… и они не знали его, и это было самым сильным переживанием Иолы Игнатьевны. С какой гордостью она написала Шаляпину, как Борис, стоя рядом с настоящим дирижером, «дирижировал» военным оркестром. Иола Игнатьевна заметила, что мальчик прекрасно отбивает такт. По окончании концерта публика кричала ему «Браво, Шаляпин!». Борис повернулся и раскланялся с самым серьезным видом… Больше всего в тот момент Иоле Игнатьевне хотелось, чтобы его увидел отец…
Всю весну семья Шаляпиных провела в Крыму. Дети поправились и повеселели, сама Иола Игнатьевна стала чувствовать себя лучше. В те весенние месяцы в Гурзуфе они сделали много фотографий. Иола Игнатьевна – красивая дама в белом платье и огромной шляпе – сидит, окруженная детьми, на фоне белых стен снимаемой ими большой виллы. Ее детишки, очаровательные и беззаботные существа, жмурятся на солнце, но в лице самой Иолы Игнатьевны – этой богатой и известной в России женщины, главы большой преуспевающей, как многие думали, семьи – застыла какая-то невыразимая печаль. Кажется, только теперь она окончательно осознала, что ее жизнь кончена… Ей остается жить только ради детей…
А ведь она умела любить, умела глубоко и тонко чувствовать… Прекрасной лунной ночью, когда вся душа ее, обливаясь слезами, замирала от восторга при виде красоты этой роскошной южной ночи, она писала Шаляпину: «Бог мой! Какая ночь! не могу идти спать, никакие мысли меня не тревожат, и я думаю о том, как должны быть счастливы те, кто любит и, любя, наслаждается красотой природы, и это дает душе великие чувства и позволяет увидеть нимб несравненного счастья. Сама того не желая, я впала в романтизм. Уверена, что ты будешь смеяться, но уверяю тебя, что я страдаю, чувствуя, что для меня уже все кончено. Бедная Иоле!!!»
Теперь она не могла сказать о себе ничего другого. Бедная Иоле! Она оказалась в западне. Быть обманутой любимым человеком и продолжать любить его, несмотря на предательство и обман, жертвовать своей жизнью ради детей и распроститься со всякой мыслью о любви, о счастье – и все это в тридцать с небольшим лет, будучи красивой, привлекательной женщиной… Можно ли было без ропота согласиться на эту долгую мучительную смерть?
«…Теперь я одна,страдаю, как проклятая душа, без поддержки и утешения в жизни, одна, одна, одна, ужасно!»
Но кто бы теперь смог ей помочь?
1909 год окончательно подвел черту под всеми робкими надеждами Иолы Игнатьевны на возвращение Шаляпина. Мария Валентиновна ждала ребенка, которому суждено было появиться на свет в начале будущего года. Девочку назвали Марфой. По законам Российской империи она считалась незаконнорожденной и должна была бы носить фамилию матери, но Шаляпин обратился к императору Николаю II с просьбой разрешить его дочери носить его фамилию. Николай II ответил ему, что не имеет права этого сделать без согласия законнойсупруги Шаляпина. Пришлось обратиться к Иоле Игнатьевне.
Вопрос этот был довольно деликатный. Ведь своим согласием Иола Игнатьевна как бы закрепляла права Марии Валентиновны, соглашаясь признать то, что до этого она старалась не замечать. Но каковы бы ни были ее чувства к женщине, отобравшей у нее мужа, ее и Шаляпина дочери, этому беззащитному существу, Иола Игнатьевна мстить не могла. И она дала согласие. За всю свою жизнь она не сделала ничего, что могло бы повредить Шаляпину, доставить ему какие-либо неудобства. Теперь на ее глазах и, можно сказать, с ее благословения создавалась новая семья Шаляпина…
В начале 1910 года Шаляпин готовился исполнить новую партию – Дон Кихота в одноименной опере, которую специально для него написал французский композитор Жюль Массне. Мировая премьера должна была состояться в феврале в театре «Казино» в Монте-Карло.
Шаляпин нервничал и волновался перед премьерой, хотя дела как будто шли хорошо – автор оперы был им доволен и сам Шаляпин готовился к этой роли основательно и серьезно. Ему первому предстояло воплотить на оперной сцене этот всем знакомый с детства образ, и это накладывало особую ответственность. Впервые Шаляпин пробовал прикоснуться к образу абсолютно чистогочеловека. Он делал своего Дон Кихота светлым и прекрасным созданием, почти святым в этом недостойном его мире грязи и лжи. «О Дон Кихот Ламанчский, как он мил и дорог моему сердцу, как я люблю его», – писал он Горькому на Капри и звал на премьеру. Ему хотелось видеть рядом с собой родную душу. В Дон Кихота Шаляпин вкладывал все самые добрые и прекрасные качества характера, какими обладал сам. И потому он так боялся, что праздная, пресыщенная публика Монте-Карло не поймет его Дон Кихота, останется равнодушной к его работе…
Этими сомнениями он делился и с Иолой Игнатьевной, но она подбадривала его. Она ни минуты не сомневалась в том, что его ждет большой успех: «…Ты споешь Дон Кихота, и я поздравлю тебя с новым триумфом и новой партией в твоем репертуаре, которая займет достойное место рядом с Борисом Годуновым, Олоферном, Сальери и т. д. и т. д…»
Однако Иола Игнатьевна не могла не вздохнуть. Это была первая партия в репертуаре Шаляпина, которую он готовил без нее. Все остальные его роли создавались у нее на глазах. Теперь же ей остались от Шаляпина только разрозненные рисунки с изображениями Дон Кихота: она должна была удовольствоваться только этим.
Несмотря на плохое самочувствие – Иолу Игнатьевну по-прежнему преследовали головокружения и сильные головные боли – и болезни детей, которые продолжались в холодном и зловещем доме Варгина, всеми своими помыслами, всем своим существом Иола Игнатьевна была рядом с Шаляпиным в Монте-Карло. Желая ему огромного успеха, она писала: «Пусть милосердный Бог сохранит тебя на долгие годы для искусства и для твоей настоящей семьи, которая искреннотебя любит…»
19 февраля, в день премьеры, она целый день была мысленно с Шаляпиным, молилась за него, смотрела на часы и думала о том, что он сейчас делает… Вот он одевается, едет в театр, гримируется… За эти годы она так хорошо изучила его привычки, что могла вообразить себе всю картину даже с закрытыми глазами! Наверняка Шаляпин волнуется. И есть ли рядом с ним человек, способный понять, поддержать его?..
Хотя несколько последних лет Шаляпин встречал свой день рождения за границей, на этот раз Ирина захотела устроить по этому поводу праздничный вечер. Дети отправили папе поздравительные письма и открытки, но сам праздник был перенесен на следующий день после премьеры «Дон Кихота». Собралось много народу: пришли друзья Шаляпиных и друзья детей. В разгар веселья почтальон принес телеграмму от Шаляпина: «Спектакль прошел с триумфом, пел прекрасно, роль удалась блестяще».
Это была для Иолы Игнатьевны лучшая новость. «Я довольна за тебя и за искусство», – написала она Шаляпину, сообщив при этом, что итальянские газеты назвали его самым выдающимся оперным артистом современности. Она радовалась этому больше всех.
В письме Шаляпин более подробно описал ей свой триумф в Монте-Карло: «Со своей стороны скажу тебе, что успех, который я имел в „Дон Кихоте“, – огромный, невероятный, все удивились, как я сделал эту роль. В последнем акте, в сцене смерти Дон Кихота, театр плакал. Мое появление в первой картине на Россинанте является настолько прекрасным и подлинным, что весь театр разражается долгими аплодисментами».
Но несмотря на такой высокий накал чувств, Шаляпин все-таки не удержался: просадил в рулетку 13 000 франков. Что могла ответить на это Иола Игнатьевна? «Скажу тебе только, что это не достойно умного человека, как ты, оставлять в Монте-Карло все деньги, заработанные своим трудом…» Но переделать Шаляпина было нельзя! В конце концов он никогда не мог отказать себе в удовольствии делать то, что ему нравилось…
В этом же 1910 году Иола Игнатьевна и Шаляпин решили купить в Москве собственный дом. Оставаться в квартире Варгина было невозможно: дети там постоянно болели. Шаляпин дал объявление в газетах: «Нужна квартира-особняк, комнат 10–12. Отопление голландское. Местность по возможности центральная. Желательно бы сад…» – и ему наперебой стали предлагать разные дома. Наконец, отказавшись от роскошных дворцов, продаваемых разорившимися аристократами, и даже от палаццо на Канал Гранде в Венеции, которое настоятельно советовали купить Шаляпину предприимчивые итальянские комиссионеры, Иола Игнатьевна и Шаляпин остановились на небольшом особнячке в центре Москвы.
Этот скромный, приятный на вид особнячок – деревянный, но оштукатуренный «под камень» и на каменном фундаменте, – фасадом выходил на Новинский бульвар, старинную московскую улицу, усаженную кленами и липами, по которой с грохотом проезжали извозчичьи пролетки. Со стороны улицы дом был одноэтажным, но в сад выходило два этажа. Отопление в доме было голландским – это было важно для голоса Шаляпина. По обеим сторонам дома располагались небольшие флигели, а за домом начинался большой сад, спускавшийся к Москве-реке, в котором стояли беседки, скамейки, скульптуры.
Правда, этот понравившийся Шаляпиным дом требовал капитального ремонта, и за это со всем своим пылом и энергией взялась Иола Игнатьевна. Она пригласила архитектора. Была сделана частичная перепланировка комнат. В доме появился водопровод, канализация, электроосвещение и телефон.
Шаляпину Иола Игнатьевна отвела просторную комнату на первом этаже с окном, выходившим во двор. Из ванной комнаты лестница вела на антресоли, где находилась еще одна маленькая комнатка, которая очень полюбилась Шаляпину. С одной стороны комната Шаляпина примыкала к прихожей, с другой – к большому залу, в котором Шаляпин мог репетировать. Рядом с прихожей находился кабинет Шаляпина, затем гостиная, столовая и в самом конце, на другой половине дома, покои Иолы Игнатьевны. Их комнаты разделяло теперь такое же значительное расстояние, как и их судьбы. На втором этаже располагалось детское царство, а в подвале помещалась кухня с огромной плитой и русской печью.
В этот дом Иола Игнатьевна вдохнула жизнь. Она создала островок тепла и света в бурном житейском море, где было бы хорошо и покойно ее детям, где Шаляпин чувствовал бы себя уютно и мог отдохнуть от всех треволнений, связанных с его актерской жизнью.
Трудно представить себе, но именно в это время, трудясь не покладая рук над обустройством своего гнезда, Иола Игнатьевна испытывала и отчаяние, и боль, и опустошенность. Шаляпину в этом доме предстояло проводить не так много времени. Несмотря на все ее старания сохранить семью ради детей, прошлое – их общее прошлое – уходило безвозвратно. Другая женщина надежно вклинилась между ними, и теперь Шаляпин мог предложить Иоле Игнатьевне лишь материальную поддержку, дружеское расположение и готовность вместе воспитывать детей. Никаких иных отношений между ними существовать уже не могло, и потому по временам Иола Игнатьевна приходила в отчаяние и ей казалось, что все ее старания создать какое-то подобие нормальной человеческой жизни бесполезны, обречены на провал… «Я совершенно потеряла силу, жизненную энергию и даже желание жить», – написала она в один из таких моментов Шаляпину.
Пока Иола Игнатьевна занималась домом, Шаляпин много гастролировал по России – побывал в Харькове, Киеве, Екатеринославе, затем в Нижнем Новгороде, Риге, Вильно, Варшаве, Тифлисе, Баку, Астрахани… Иоле Игнатьевне он постоянно сообщает о своем грандиозном успехе. Его имя гремело повсюду. Ненадолго он приедет в Москву, обнимет и расцелует своих детей – и снова уезжает, снова пора ему в дальний путь…
К сентябрю 1910 года дом на Новинском бульваре был готов, и семья могла переехать в него. На новый адрес Шаляпин прислал жене первую открытку: «Москва, Новинский бульвар, свой дом, Иоле Игнатьевне Шаляпиной: Шлю тебе привет, милая Иоле, с Военно-грузинской дороги. Красота удивительная. Твой Федор». С какой радостью он написал эти слова: свой дом.
Однако эта с трудом налаженная жизнь едва не рухнула из-за нелепой случайности. В начале 1911 года в Петербурге с Шаляпиным произошел очередной скандал – на этот раз настолько крупный, что он чуть было не поставил под угрозу пребывание в России самого Шаляпина и его семьи.
Ничто поначалу не предвещало бури. 6 января в Мариинском театре состоялась премьера возобновленного спектакля «Борис Годунов» в постановке Всеволода Мейерхольда. Шаляпин пел главную роль. На премьере присутствовал Николай 11. В первом антракте Шаляпина пригласили в царскую ложу, и царь очень мило и приветливо беседовал с ним, между прочим посоветовав ему больше петь в России, чем за границей. (Об этом Шаляпин написал Иоле Игнатьевне.)
Однако после третьего акта, знаменитой сцены с курантами, которой Шаляпин по обыкновению потряс весь зал, произошло нечто непредвиденное. Поскольку сам Шаляпин неоднократно описывал эту сцену в письмах к разным людям, стараясь объяснить свое поведение, предоставим ему самому со страниц книги «Маска и душа» рассказать еще раз о том, что же произошло вечером 6 января 1911 года и что долгие годы тяжелым камнем лежало на его душе:
«Государь Николай II в первый раз после японской войны собирался приехать на спектакль в Мариинский театр…
Я знал, что в это время между хористами и дирекцией Мариинского театра происходили какие-то недоразумения материального характера. Не то это был вопрос о бенефисе для хора, не то о прибавке жалования. Хористы были недовольны… И вот когда они узнали, что в театр приехал государь, то они тайно между собою сговорились со сцены подать царю не то жалобу, не то петицию по поводу обид дирекции.
Об этом намерении хора я, разумеется, ничего не знал.
По ходу действия в „Борисе Годунове“ хору это всего удобнее было сделать сейчас же после пролога. Но наша фешенебельная публика, знающая толк в „Мадам Баттерфляй“, осталась равнодушной к прекрасной музыке Мусоргского в прологе, и вызовов не последовало. Следующая сцена в келье также имеет хор, но хор поет за кулисами… У хора, значит, остается надежда на сцену коронации: выходит Шаляпин, будут вызовы. Но, увы, и после сцены коронации шум в зрительном зале не имел никакого отношения к опере. Здоровались, болтали, сплетничали… В сцене корчмы нет хора. Нет также хора и в моей сцене в тереме. Хору как будто выйти нельзя. Истомленные хористы решили: если и после моей сцены не подымется занавес, значит – и опера ничего не стоит, и Шаляпин плохой актер; если же занавес подымется – выйти… После сцены галлюцинации после слов: „Господи, помилуй душу преступного царя Бориса“ – занавес опустился под невообразимый шум рукоплесканий и вызовов. Я вышел на сцену раскланяться. И в этот самый момент произошло нечто невероятное и в тот момент для меня непостижимое. Из задней двери декораций – с боков выхода не было– высыпала, предводительствуемая одной актрисой, густая толпа хористов с пением „Боже, царя храни“, направилась на авансцену и бухнулась на колени. Когда я услышал, что поют гимн, увидел, что весь зал поднялся, что хористы на коленях, я никак не мог сообразить, что, собственно, случилось…
Мелькнула мысль уйти за сцену, но сбоку, как я уже сказал, выхода не было, а сзади сцена запружена народом. Я пробовал было сделать два шага назад – слышу шепот хористов, с которыми в то время у меня были отличные отношения: „Дорогой Федор Иванович, не покидайте нас!“… Все это – соображения, мысли, искания выхода – длилось, конечно, не более нескольких мгновений. Однако я ясно почувствовал, что с моей высокой фигурой торчать так нелепо, как чучело, впереди хора, стоявшего на коленях, я ни секунды больше не могу.А тут как раз стояло кресло Бориса; я быстро присел к ручке кресла на одно колено».
В. А. Теляковский, управляющий дирекцией Императорских театров, наблюдавший за происходящим из зала, несколько по-иному описал эти события. После окончания акта Шаляпин, раскланявшись, ушел к себе в уборную. Оркестр разошелся, дирижера Коутса на его месте тоже не было. Публика понемногу стала выходить из партера, но царская семья все еще оставалась в ложе…
Неожиданно в зале раздались отдельные возгласы с требованием исполнения гимна, быстро подхваченные публикой. Как предполагал Теляковский, вероятно, это было подстроено самими же хористами.
«Вдруг неожиданно за спущенным занавесом, при неутихшем говоре зрительного зала, хор начал петь гимн „а capella“, без оркестра, – пишет он в своих воспоминаниях. – Исполнение гимна без оркестра, а главное – при опущенном занавесе – никогда не практиковалось в театре…
Когда артисты, уже разошедшиеся по уборным, узнали об исполнении гимна хором, они тоже стали выходить на сцену, ибо по правилам при пении гимна должны были выходить на сцену и принимать участие в пении все артисты-солисты, хотя бы они были в это время и не в костюме.
Когда занавес, из-за которого раздавалось пение гимна, взвился, – весь хор опустился на колени, обернувшись лицом к царской ложе…
Услышав, что поют гимн, на сцену вышел и Шаляпин.
Он вошел в дверь „терема“ (оставалась декорация III акта), и его высокая фигура казалась еще выше наряду с коленопреклоненной толпой.
Увидев хор на коленях, Шаляпин стал пятиться назад, но хористы дверь из терема ему загородили.
Шаляпин смотрел в направлении моей ложи, будто спрашивая, что ему делать.
Я указал ему кивком головы, что он сам видит, что происходит на сцене.
…Продолжать стоять, когда все опустились на колени – это было бы объяснено как демонстрация. Шаляпин опустился на колено.
Стоящие в переднем ряду хористы и хористки со слезами на глазах и очень взволнованные пропели три раза гимн без оркестра.
В это время постепенно стал собираться и оркестр. Прибежал и капельмейстер А. К. Коутс, подхватил пение хора, который к этому времени стал уже немного понижать, и гимн был повторен еще трижды с оркестром».
Среди публики на премьере присутствовало много военных, министров, разных высокопоставленных чиновников и аристократии. Поступок хора рассматривался ими как проявление верноподданических чувств. Николай II был растроган. Вошедшему к нему в ложу Теляковскому он сказал:
– Пожалуйста, поблагодарите от меня артистов и особенно хор. Они прямо меня тронули выражением чувств и преданности!
«Сцена кончилась. Занавес опустился, – продолжает свой рассказ Шаляпин. – Все еще недоумевая, выхожу за кулисы; немедленно подбежали ко мне хористы и на мой вопрос, что это было, – ответили: „Пойдемте, Федор Иванович, к нам наверх. Мы все вам объясним“.
Я за ними пошел наверх, и они действительно мне объяснили свой поступок. При этом они чрезвычайно экспансивно меня благодарили за то, что я их не покинул, оглушительно спели в мою честь „Многие лета“ и меня качали».
Происшедшему на спектакле Шаляпин не придал особого значения. На следующий день он спел еще один спектакль «Бориса Годунова» и затем – «беззаботно и весело», как он выразился в своей книге, – уехал в Монте-Карло. Он рад был сменить туманную петербургскую зиму на яркое солнце и цветущие розы Ривьеры.
Конечно, он и не предполагал, какие страсти в этот момент разыгрались в Москве и Петербурге. Уже на следующий день после премьеры Министерство внутренних дел распространило правительственное сообщение, появившееся во всех газетах:
«6 января в Императорском Мариинском театре была возобновлена опера Мусоргского „Борис Годунов“. Спектакль удостоили своим присутствием Их Величества Государь Император и Государыня Императрица Мария Федоровна. После пятой картины публика требовала исполнения народного гимна. Занавес был поднят, и участвовавшие, с хором, во главе с солистом Его Величества Шаляпиным (исполнявшим роль Бориса Годунова), стоя на коленях и обратившись к царской ложе, исполнили „Боже, царя храни“. Многократно исполненный гимн был покрыт участвовавшими и публикой громким и долго несмолкавшим „ура“. Его Величество, приблизившись к барьеру царской ложи, милостиво кланялся публике, восторженно приветствовавшей Государя Императора кликами „ура“. В исходе первого часа ночи Государь Император проследовал в Царское Село».
Это сообщение было передано в Европу, и через несколько дней новость облетела весь мир, причем иностранные газеты особенно подчеркивали участие в демонстрации Шаляпина как известного всему миру певца. Однако быстрее всех отреагировали, конечно, русские газеты.
Уже дорогой до Шаляпина начали доходить тревожные известия. Русские газеты расписывали его «поступок» на все лады. В газете «Русское слово», которую редактировал недавний приятель Шаляпина Влас Дорошевич, была помещена довольно злая карикатура, где певец изображался стоявшим на коленях около суфлерской будки с высоко поднятыми руками и широко раскрытым ртом. А газета «Столичная молва» напечатала «интервью» с Шаляпиным, в котором он якобы сказал, что как мужикне мог сделать ничего иного, кроме как пасть на колени перед своим императором. Он якобы хотел просить за своего опального друга Максима Горького. Журналисты набросились на Шаляпина за то, что он «изменил своим демократическим убеждениям». Те, кто еще вчера мечтал о чести числиться в друзьях Шаляпина, теперь публично отказывали ему в своей дружбе.
Еще в поезде Шаляпин получил от В. Серова пакет с этими газетными вырезками и коротенькой припиской: «Что это за горе, что даже и ты кончаешь карачками. Постыдился бы».
Это был первый удар.
Шаляпин сразу же написал Иоле Игнатьевне и просил ее передать Серову, что его письмо причинило ему боль и что тот совершенно напрасно думает, что он встал на колени по собственной охоте.
Иоле Игнатьевне Шаляпин признался, что очень страдал из-за того, что его поставили в такое неловкое и унизительное положение.
«Я очень страдал, особенно потому, – писал он, – что это была демонстрация не очень деликатная, а с моей стороны просто бессмысленная, поскольку царь пришел в театр как раз ради меня. Но поскольку (ты же знаешь) газеты и многие люди, которые делают погоду в обществе, меня не любят, скажу больше, ненавидят меня, естественно, они пишут и говорят обо мне кто во что горазд.
Конечно, если бы обстоятельства сложились иным образом, я никогда бы не встал на колени, поскольку глубоко понимаю, что можно петь гимн и выказывать всяческое уважение, не будучи при этом униженным или рабом.
Эта история вызывает у меня настоящую дрожь, и я еще больше убеждаюсь в том, что люди на Руси скорее рабы и „нагайка“ или „кнут“ вещь для них необходимая».
Поначалу Шаляпин еще пытался держаться стойко. Вероятно, он надеялся, что это всего лишь очередной газетный скандал, каких в его жизни было уже немало: пройдет время, он побудет за границей, и все утихнет, забудется. Но события развивались иным образом. «Поступок» Шаляпина русское общество заклеймило позором. Журналисты и литераторы, недавние «друзья» Шаляпина, обливали его грязью. А. В. Амфитеатров, еще вчера горячий поклонник Шаляпина, написал ему, что он унизил звание культурного русского человека, «раболепно целуя руку убийцы, руку палача, который с ног до головы в крови народной». Копии своего письма Амфитеатров разослал в редакции всех столичных газет. Г. В. Плеханов вернул Шаляпину фотографию, которую тот ему когда-то подарил, с уничтожающей припиской: «Возвращается за ненадобностью». В Монте-Карло Шаляпина засыпали анонимными письмами с угрозами и проклятиями, и даже его лучший друг Максим Горький, живший в то время на Капри, молчали ничего не делал для того, чтобы как-то помочь Шаляпину.
Из Монте-Карло Шаляпин уже обеспокоенно писал Иоле Игнатьевне: «Дорогая Иолина, прошу тебя, пиши мне как можно чаще и… пиши обо всем, что говорят обо мне».
Впервые Шаляпин начал серьезно подумывать о том, чтобы прекратить свою карьеру в России.
Вскоре во Франции с Шаляпиным произошел еще один неприятный эпизод, связанный с «коленопреклонением», получивший освещение в газетах. Возвращаясь из Ниццы в Монте-Карло, Шаляпин подвергся нападению со стороны русских анархистов. В прессе появлялись самые неправдоподобные слухи об этом столкновении, закончившимся, как сообщалось, дракой. Наконец удалось разыскать одного из очевидцев случившегося, который ехал с Шаляпиным в одном поезде, и от него узнать, что же произошло в действительности:








