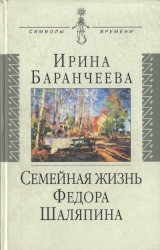
Текст книги "Семейная жизнь Федора Шаляпина: Жена великого певца и ее судьба"
Автор книги: Ирина Баранчеева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Последняя фраза указывала на то, что Шаляпин боялся за Иолу Игнатьевну. Выполнять такие просьбы было небезопасно. Но сама Иола Игнатьевна не ведала страха. Она тут же ответила Шаляпину, что сделает все возможное, чтобы помочь «несчастному синьору». Помочь человеку в беде – для Иолы Игнатьевны это было делом чести.
Однако несмотря на все более очевидные горькие картины «новой счастливой жизни», Шаляпин, видимо, не до конца разуверился в том, что эти трудности временные и что по-настоящему счастливая жизнь с приходом большевиков когда-нибудь все же наступит. «Вообще жизнь очень тяжелая, – писал он Иоле Игнатьевне неделю спустя на обороте того же письма, в котором описал ей происшедший у него обыск, – но я не унываю и в сущности не обвиняю никого. Революция – революция и есть! Конечно, есть масса невежества, но идеи мне кажутся светлыми и прекрасными, и если их будут со временем осуществлять хорошим, здоровым способом, то можно думать, что все человечество заживет когда-нибудь действительно прекрасной жизнью. Дай Бог! При всех нелепостях, которые сейчас творятся, я все-таки отдаю должное большевикам. У них есть какая-то живая сила и масса энергии. Если бы массы были более облагорожены, то дело пошло бы, конечно, и лучше, и целесообразнее. Беда, что интеллигентное правительство задавило совсем душу народа, и теперь, конечно, пожинается то, что посеяно за столько сотен лет».
Но как ни прекрасны были эти надежды на будущее, пока их окружали только дикость и варварство. И Шаляпин не меньше, чем другие, становился жертвой случайностей, вынужден был бояться за собственную жизнь и будущее своих детей. В 1918 году дом на Новинском бульваре был национализирован. Как Шаляпин ни пытался, ему не удалось оградить Иолу Игнатьевну от уплотнения.И она – девочка из бедной семьи, начавшая трудиться с тринадцати лет, – была причислена к разряду «тунеядцев» и «народных кровопийц», против которых советское правительство боролось всеми возможными способами.
Дом на Новинском бульваре заселили новыми жильцами. Теперь это была коммунальная квартира(«прекрасное» изобретение советской власти!), и по дому, купленному и отреставрированному Иолой Игнатьевной, расхаживали случайные люди – городская беднота с окраин, – которые чувствовали себя здесь хозяевами.
Приезжая в Москву, Шаляпин останавливался в маленькой комнатке на антресолях («Моя последняя комната в Москве», – как будет потом говорить он), в которой помещался диван, книжный шкаф, столик и кресло – единственное, что оставила ему в собственном доме гуманная советская власть. Огромный Шаляпин ютился в маленькой голубятне под крышей. В ненастные дни поздней осени было слышно, как по крыше барабанит дождь. По ночам Шаляпин просыпался в своем национализированном доме в холодном поту. Ему снились кошмары. «За мной пришли!» – не успевая отличить сон от яви, кричал он. Но и то правда: прийтимогли за кем угодно, в любую минуту. Тысячи людей – ни в чем не повинных! – исчезали среди бела дня, гибли без суда и следствия.
И все же, несмотря на эти чудовищные преступления, жизнь продолжалась. Не все отчаялись, некоторые пытались сохранить стойкость и силу духа вопреки тому, что происходило вокруг. Несмотря на ужасы быта и действительности, в России шла напряженная интеллектуальная жизнь, в которую была полностью включена и шаляпинская семья.
Одним из самых ярких событий в их жизни стало рождение в 1918 году в доме на Новинском бульваре театральной студии имени Шаляпина, начало которой положило увлечение театром старших девочек Ирины и Лидии.
Весной 1918 года Ирина закончила гимназию. На выпускном вечере она со своими друзьями и подругами представила публике третий и четвертый акты комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», которую с ними подготовила молодая актриса Второй студии Художественного театра С. М. Рапопорт. Спектакль имел успех, и по окончании его участники решили создать собственную студию, тем более что в Москве в то время существовало великое множество всевозможных театральных студий.
Несмотря на разруху, холод и голод, молодые люди, объединившиеся вокруг Шаляпинской студии, стремились быть полезными своей стране, они хотели создавать новое искусство, строить новую жизнь. Еще вчера эти юные создания приходили на Новинский бульвар разыгрывать сценки в детских спектаклях, танцевать на детских балах, которые устраивала для них Иола Игнатьевна. Теперь детское увлечение должно было перерасти в профессию. Молодые люди были настроены весьма серьезно.
Поначалу, пока дом Шаляпиных не национализировали, репетиции проходили в Зеленой гостиной. Иола Игнатьевна и Шаляпин, улыбающиеся, приветливые, радушные хозяева дома, вместе встречали своих молодых гостей, вместе присутствовали на репетициях (в приезды Шаляпина они по-прежнему вместе появлялись и в московских театрах). Однако к театральному начинанию своих дочерей Шаляпин был настроен весьма критически. Со всем абсолютизмом гениального артиста он считал, что в искусство должны идти люди с «грандиозным, выходящим вон из рамок талантом, все же другое обречено на унижения и страдания».И, кажется, он не замечал в своих дочерях особенных способностей, особого дарования к искусству.
Тем не менее инициатива молодых людей, их задор и энтузиазм поначалу увлекли Шаляпина, и он немало помог открытию студии. В Большом зале Консерватории Шаляпин дал концерт, средства от которого пошли на ее открытие. Вместе с ним в концерте приняли участие А. В. Нежданова, М. Н. Ермолова, А. А. Яблочкина, А. И. Южин.
Председателем правления студии стала Иола Игнатьевна. Все дела вел ее адвокат М. Г. Бедросов. В. В. Мешков и Алеша Коровин, сын знаменитого художника, оформляли спектакли.
Поскольку студия постепенно разрасталась, а дом на Новинском бульваре был национализирован, Хамовнический совдеп выделил им помещение в тихом уголке Москвы – в Большом Николопесковском переулке. Студия должна была «удовлетворять культурные запросы» рабочих этого района.
Здание, которое получили студийцы, принадлежало раньше некоему домовладельцу Полякову, который, уезжая за границу, просил молодых людей аккуратно обращаться с мебелью. Никто тогда не мог предположить, что уезжает из России навсегда… Жильцы уже были выселены. Только в одной комнате, к немалому своему изумлению, студийцы обнаружили встрепанного, нервного, нелюбезного человека, которым оказался… известный поэт Константин Бальмонт! Но и он вскоре покинул Большой Николопесковский переулок, а потом и Россию…
Довольно быстро в новом здании студии была оборудована сцена и небольшой зальчик на шестьдесят мест. Молодые люди трудились не покладая рук. Все делали сами, работали по вечерам и даже по ночам. По ночам также перевозили на санках в новую студию реквизит и театральные костюмы. Один раз Лиду чуть не задержал милиционер. Его внимание привлекла огромная корзина, которую она везла со своим спутником по улицам опустевшей Москвы. Но находчивая и никогда не унывающая Лида открыла корзину и стала демонстрировать изумленному милиционеру самые «страшные» парики… На этот раз победило искусство. Но могло бы и не победить. Сколько людей с простреленными головами находили в то время поутру в Москве и Петрограде. «Тела убитых валялись в канавах порой по целым суткам, и пешеходы проходили мимо, не обращая на них внимания», – напишет потом Г. Уэллс о той «России во мгле», которую он увидел.
Постепенно при студии организовалась школа, куда пришли преподавать известные актеры Художественного театра – О. В. Гзовская, В. Г. Гайдаров, А. А. Гейрот, Н. Н. Званцев, а позднее Е. П. Муратова, С. В. Гиацинтова, А. Д. Дикий. Танцы, пластику и сценическое движение преподавали две бывшие итальянские балерины – Иола Игнатьевна и ее подруга, прима-балерина Большого театра Аделаида Джури. По личной просьбе Шаляпина со студийцами стал заниматься Л. Леонидов.
Создался небольшой репертуар. Поставили несколько спектаклей – «Грозу» А. Островского, французскую мелодраму «Революционная свадьба», «Тургеневский вечер», состоявший из маленькой пьесы «Вечер в Сорренто» и инсценировок рассказов «Бирюк» и «Свидание». Но главной удачей Шаляпинской студии стала постановка пьесы А. Шницлера «Зеленый попугай», работу над которой начал со студийцами еще Е. Б. Вахтангов, но из-за его болезни заканчивали ее уже А. Дикий и Л. Леонидов. Эта пьеса о Великой французской революции, прекрасно сыгранная молодыми актерами на фоне изящных черно-белых декораций, имела в Москве большой успех. Лидия играла в ней роль герцогини Де Лансак и была отмечена театральными критиками и зрительским вниманием, и это было тем более приятно, что рядом с ней начинали свою деятельность Р. Симонов, О. Абдулов, М. Астангов, О. Андровская… Тогда это были молодые артисты, подающие большие надежды. Позже им предстояло стать выдающимися мастерами советского театрального искусства.
Несмотря на предостережения Шаляпина, Ирина и Лидия с головой окунулись в театральную жизнь. Вероятно, она им представлялась в том же розово-голубом ореоле сказки, как и та жизнь, которую они вели до сих пор. И начало у девочек было как будто бы удачным. В 1918 году они снялись в главных ролях в немом фильме режиссера И. Н. Перестиани «Честное слово». В этом же году Ирина поступила во Вторую студию Художественного театра. Актерским мастерством она занималась с Н. О. Массалитиновым и С. В. Гиацинтовой. На показе в Художественном театре Ирина имела большой успех. Ей предсказывали большое будущее. Великие артистки М. П. Лилина и О. Л. Книппер-Чехова обнимали и целовали ее со слезами на глазах.
Ирина особенно радовалась еще и потому, что хотела продолжить семейную традицию. Ей хотелось, чтобы имя Шаляпина продолжало жить на сцене. Отец по-прежнему оставался для нее недостижимым идеалом.
«Господи, благодарю тебя за то, что ты дал мне такого отца! – записывает в дневнике Ирина. – Я не могу описать того чувства, которое вызывает во мне папина игра, его пение, оно слишком сложно, слишком возвышенно! Искусство принадлежит людям, это сказал отец».
Но случай наблюдать папину игру теперь предоставлялся нечасто. Именно поэтому таким ярким, запоминающимся событием стал для Ирины концерт Шаляпина, состоявшийся в августе 1918 года в Орехово-Зуеве, небольшом провинциальном городке под Москвой. Весь сбор от концерта должен был пойти на устройство бесплатной столовой для рабочих.
6 августа вместе со своими партнерами – виолончелистом А. А. Брандуковым и пианистом Ф. Ф. Кенеманом – Шаляпин отправился в Орехово-Зуево на машине, а Иола Игнатьевна и Ирина, которым в машине не хватило места, терпя неудобства, поехали на поезде, в давке. Но что значили для них эти мелкие неудобства, если впереди их ожидало чудо – концерт Шаляпина! К сожалению, дать концерт в тот же день не удалось – полил дождь. Семью Шаляпина разместили в здании школы. А на следующий день Шаляпин появился на огромной эстраде городского парка Орехово-Зуево – немного бледный от волнения, но по-прежнему величественный и вдохновенный…
«Когда мы стали подъезжать к саду, – вспоминала впоследствии Ирина, – нам представилась грандиозная картина. Нескончаемым потоком шла толпа людей. Тут были и молодые, и старики, и женщины, и дети.
Мы попытались объехать сад так, чтобы возможно незаметно пробраться к эстраде. Отец всегда старался избегать публики перед выступлением.
Проводив отца, мы с матерью попробовали попасть в сад и пройти ближе к эстраде, но это оказалось совершенно невозможным. Тысячи рабочих заполнили все проходы, повсюду стояла стена людей. Пришлось вернуться обратно и пристроиться где-то около входной двери, почти на авансцене.
Концерт начался. На эстраду вышел распорядитель. Гудевшая до того толпа мгновенно замолкла. Не успел он объявить о начале концерта и произнести имя Шаляпина, как раздался оглушительный взрыв аплодисментов, и когда на эстраду вышел Федор Иванович и медленно стал подходить к рампе, кланяясь и приветливо улыбаясь собравшейся публике, – раздались крики: „Да здравствует Шаляпин!“
Шаляпин запел… Притихнув, рабочие – эти простые, неискушенные в искусстве люди – внималиему. Шаляпин слился с залом, он был близок и понятен своим слушателям. Под конец он вместе со всем залом пел „Дубинушку“…
Публика, затаив дыхание, как загипнотизированная, смотрела на высокую, могучую фигуру человека, стоявшего на эстраде и певшего всем знакомую, близкую и родную песню, – вспоминала Ирина. – И вдруг, сотни людей мощно и дружно подхватили:
Эх, дубинушка, ухнем,
Ей, зеленая, сама пойдет!..
„Ура!“… – точно море бушевало передо мной, а над всеми на эстраде стоял отец, улыбающийся и взволнованный. Чувствовалась неразрывная связь его с радостно приветствовавшей толпой рабочих.
Трогательны были и проводы отца с концерта. Когда мы сели в поданную нам пролетку и выехали на дорогу, то увидели рабочих, стоявших шпалерами по обеим сторонам дороги, и так до самого здания школы. Они продолжали приветствовать отца и бросали ему цветы».
Для Ирины это было прекрасное и одновременно грустное воспоминание о безвозвратно ушедшем прошлом, об их семье, которой вскоре предстояло рассыпаться… Один из последних запомнившихся «папиных концертов» – как встарь! – в серых и теперь ужасных буднях их повседневной жизни…
7 января 1919 года (в России был введен новый календарь) Ирина записывает: «Сочельник. Большевики запретили продавать елки. Мы не унываем. Пошли в наш „общественный сад“ и срубили елку. Правда, она очень общипанная и корявая, но все же лучше, чем ничего. Была в церкви, усердно молилась. Сегодня как-то покойно на душе».
Теперь это были печальные реалии их жизни. «Общественный сад» – вместе с домом у них отобрали и землю. Можно ли было предположить, что впереди их ждут только потери?
Первую половину года они прожили одни, по возможности сражаясь с разными бытовыми трудностями и неудобствами. Шаляпин из Петрограда время от времени присылал им продукты.
Вскоре он сообщил Иоле Игнатьевне о том, что в Москву едет дирижер Э. Купер, который будет говорить с ней об отъезде за границу. Появилась возможность выехать в Стокгольм. Шаляпин просил ее отнестись к этому очень серьезно. «Мне кажется, – писал он, – что всем вам нужно уехать из России, потому что в скором будущем ожидать здесь чего-нибудь хорошего нельзя».
Сам Шаляпин был настроен решительно на отъезд. Но перед этим ему хотелось спеть в Мариинском театре Демона, одну из своих любимых, хотя и редко исполняемых партий, отметить этим спектаклем 25-летие со дня его дебюта на петербургской сцене. Ему хотелось, чтобы на этот юбилейный спектакль к нему приехали Иола Игнатьевна и дети (возможно, он сразу же после этого собирался уехать со всеми домочадцами в Швецию), но его мучил вопрос: «Как сделать так, чтобы вы все остановились у меня и вместе с тем дети не узнали бы то, о чем ты ни за что не хочешь, чтобы они знали?»«Мне ни за что не хочется причинять тебе еще какие-нибудь огорчения и неприятности», – писал он.
До сих пор – в момент гибели старого мира – они продолжали цепляться за прошлое, разыгрывать перед детьми уже никому не нужную комедию – создавать иллюзию единой семьи, хотя и разделенной теперь по двум разным городам.
Разумеется, Иола Игнатьевна в Петроград не поехала. Для нее это было немыслимо. Шаляпин появился в Москве в июле, принеся с собой праздник и радостное дыхание жизни. «Сегодня неожиданно приехал папа, – записывает в дневнике Ирина. – Какая радость! Весь день вся душа заполнена этой радостью, ни о чем не хочется думать…»
Шаляпин между тем был серьезно озабочен. Ситуация с продовольствием в Москве ухудшалась, и, понимая, что из Петрограда ему будет очень сложно помогать своей семье, он решил на время забрать детей к себе. Ему, знавшему на собственном опыте, что такое унижающее человеческое достоинство чувство голода,невыносимо было думать о том, что это чувство когда-нибудь могут узнать его дети. Когда-то это казалось невозможным, но теперь угроза голода в России стала вполне ощутимой, реальной.
Перед отъездом в Петроград между Шаляпиным и Иолой Игнатьевной произошло решительное объяснение. Шаляпин предлагал ей покончить с обманом, познакомить детей с Марией Валентиновной и его младшими девочками, но Иола Игнатьевна отказалась наотрез. Она по-прежнему боялась разрушить тот светлый, ничем не замутненный образ Шаляпина, который она создавала в неискушенных душах своих детей. «Они еще слишком чисты, жизнь еще не успела испортить их нетронутые души», – писала она Шаляпину. Иола Игнатьевна всячески оберегала их от темной, грязной стороны жизни. Она воспитывала детей на высоких идеалах. Она говорила им, что они должны быть честными, благородными, добрыми, милосердными, должны быть ответственными за свои поступки, и тогда они всегда смогут смотреть людям прямо в глаза. «Когда человек честен, он может идти хоть на край света, никого не боясь, и он всегда будет победителем», – убеждала она их. А в 1926 году она писала своей взрослой дочери Ирине: «Это великое удовлетворение, когда можно смотреть в глаза другим людям, высоко подняв голову, не ведая страха…»
Столько лет, забывая о себе, создавала Иола Игнатьевна в этих чистых душах с глубокими и искренними чувствами светлый и прекрасный идеал их отца – возможно, очень далекий от того Шаляпина, который существовал на самом деле. И вот теперь детям предстояло узнать правду– идеал должен был быть разбит. Как это повлияет на них? Нет, не сейчас, когда мир и так сошел с ума и вокруг них творились вещи ужасные, непростительные, стала бы Иола Игнатьевна наносить своим детям такой удар. Когда-нибудь позже, но не теперь… И потому она просила Шаляпина прекратить свою связь с Марией Валентиновной, пока дети будут в Петрограде. Это может травмировать их. Как отец он должен уделить им больше внимания.
Неизвестно, согласился Шаляпин или нет – ему, вероятно, было трудно выполнить эти условия. Тем не менее все, кроме Иолы Игнатьевны и Лидии, заканчивавшей гимназию, отправились в Петроград. Именно в это время, когда семья была разделена, белогвардейцы подошли вплотную к Петрограду. В городе была видна дымка от разрыва снарядов. Работала тяжелая артиллерия. Были обстреляны пригороды Петрограда Кронштадт и Петергоф.
Шаляпин известил об этом Иолу Игнатьевну: «Признаться откровенно, я растерялся немного и не знаю, что лучше предпринять. Дело в том, что П., конечно, будет занят надвигающимися белогвардейцами, но когда это, решить,конечно, невозможно, потому что население держится тоже в полном неведении. Сегодня даже телефоны функционируют последний день. Завтра их выключат совсем. Положение, очевидно, очень серьезное…»
В тот момент, когда Шаляпин писал это письмо, на Москву уходил последний поезд, на котором он не успел отправить своих детей. Тем не менее Шаляпин не расстраивался и не унывал. Перспектива занятия города войсками белой армии, похоже, совсем не пугала его. «Мне кажется, что с падением Питера Москва тоже долго не продержится, и Бог даст, мы скоро увидимся», – пытался он успокоить Иолу Игнатьевну.
Конечно, в этот момент ему хотелось (и об этом он просил Иолу Игнатьевну), чтобы они с Лидой приехали к нему. Из Петрограда было легче перебраться за границу. Финляндия была совсем рядом. Но уговорить Иолу Игнатьевну было невозможно. Она согласилась бы скорее умереть, чем оказаться под одной крышей с Марией Валентиновной. К тому же она не хотела уезжать из России. Она надеялась на перемены к лучшему, поэтому настойчивое стремление Шаляпина отправить ее за границу вызывало у нее противоречивые чувства. Ей казалось, что от нее хотят отделаться. Теперь, когда дети выросли и она выполнила свою роль, она больше не нужна Шаляпину, теперь она должна исчезнуть…
«Милая моя Иола, – оправдывался Шаляпин, – зачем ты думаешь обо мне худо? Верь мне, что ты для моих детей святыня, а также все мои глубокие чувства – к матери моих детей – есть самые лучшие и самые искренние. Верь мне, что если не задалась наша жизнь, то это вовсе не значит, что тебя не чтят, не ценят и не уважают. Я обожаю моих детей, как же я не стану любить и уважать тебя, ихнюю мать? Ты сама подумай!»
В конце концов он беспокоился только о ней! Но не этих, совсем не этих слов ждала от него Иола Игнатьевна. Ведь это было и больно, и обидно – после стольких лет бесконечных жертв и страданий – удостоиться от него похвалы только как «мать его детей». И больше ни в каком качестве! Все это только подтверждало мысли Иолы Игнатьевны о своем безрадостном будущем.
Поскольку из-за военного положения театры почти не работали, Шаляпин мог уделить детям больше внимания. По сути это было знакомство. Его малыши выросли, теперь перед ним были взрослые люди – со своими характерами, со своими суждениями и представлениями о жизни. Ирина и Лидия – почти тургеневские барышни. Ирина более глубокая и серьезная, Лидия – веселая хохотушка и выдумщица. Девочки мечтали о карьере драматических актрис. Пятнадцатилетний Борис, похожий на мать, такой же милый и немного застенчивый, прекрасно рисовал и хотел стать художником. В доме на Новинском бульваре все двери и стены были украшены его рисунками. Следы его художеств можно было также найти в переписке с отцом. Четырнадцатилетний Федя и во внешности, и в привычках пугающе напоминал Шаляпина. А Таня, напротив, Иолу Игнатьевну. Младшие дети, подрастая, тоже мечтали о театре, что Шаляпина настораживало и что ему совсем не нравилось.
Но это недолгое пребывание детей в Петрограде, общение и разговоры с ними, доставили ему необыкновенное удовольствие. Он понял, что может гордиться своими детьми. «Вообще эти милые создания, твои славные ребята, что у меня не нарадуется сердце на них смотреть», – написал он Иоле Игнатьевне.
Когда белые были откинуты от Петрограда и связь с Москвой восстановилась, Шаляпин отправил детей домой. В Петрограде, несмотря на протесты Иолы Игнатьевны, остался один Боря, которого Шаляпин отдал заниматься в Академию художеств.
Сам Шаляпин тоже предпочел остаться в Петрограде. С переездом в Москву советского правительства он старался держаться подальше от этого города. «Мне очень не хочется вертеться на глазах у начальствующих лиц и особенно сейчас, в это крайне неопределенное время», – писал он Иоле Игнатьевне, оправдывая свое поведение. Он был слишком заметной фигурой. В Москве пришлось бы участвовать во всевозможных съездах, собраниях, митингах, а Шаляпину этого не хотелось – «для меня совершенно лишнее».
Тем не менее он продолжал поддерживать Иолу Игнатьевну на расстоянии – отправлял в Москву одежду и продукты. Но возможности его были весьма ограничены. И когда театры закрывались и Шаляпин оставался без работы, у него опускались руки.
В сентябре 1919 года начался сезон в Мариинском театре. Спектакли возобновились, но дела в театре шли неважно. Шаляпин был недоволен небрежностью в постановке опер, плохими декорациями (в феврале 1919 года он даже вынужден был снять свое имя как постановщика с афиши «Фауста» из-за недостаточного количества репетиций). Теперь он не находил для себя отдушины даже в искусстве, и от этого его настроение ухудшалось день ото дня.
Да и жизнь вокруг становилась безжалостной, и никто к этому готов не был… В конце 1919 года, подводя итоги, Ирина записывает в дневнике: «…Страшно и дико. Я теряюсь, мысли в голове путаются, я не знаю, как и с чего начать…» Так ничего и не записала – не хватило сил.
И все же, несмотря на эту беспощадную действительность, с ее чудовищными преступлениями, с абсолютным презрением к человеческой личности, люди пытались жить – не только выживать физически, но сохранять достоинство, пытались обрести смысл на обломках разрушаемого до основания старого мира. Такую нишу шаляпинская семья нашла для себя в создании Маленькой драматической студии имени Шаляпина. В течение страшных революционных лет все они жили ее радостями и бедами, считая, что делают важное дело – создают новое, революционное искусство, которое будет принадлежать народу.
Приезжая в Москву, Шаляпин непременно старался посетить своюстудию, где он сразу же становился центром внимания, как магнит, притягивал к себе молодых людей. Часто Шаляпин приходил на репетиции не один – приводил с собой то Горького, то Луначарского, то Качалова, то Москвина. Он очень нервничал, когда видел на сцене своих дочерей. Похоже, он не был уверен в том, что они поступают правильно, выбирая себе профессию актрис. Но Горький и Луначарский убеждали его, что молодежь делает нужное, полезное дело, и Шаляпин на время смягчался, остывал.
После спектаклей или вечеров, на которых он присутствовал, Шаляпина окружали студийцы, угощали жидким чаем и почти несъедобными «морковными пирожными» – единственное, что они могли себе позволить! – просили спеть или что-нибудь рассказать. Когда Шаляпин бывал в особенно хорошем настроении, он придумывал с друзьями-мхатовцами забавные сценки или комические номера (некоторые из них потом перекочевывали в репертуар студии). В серьезном настроении читал Пушкина или Надсона. Но чаще всего Шаляпин был расстроен. Ирину и Лидию он никогдане хвалил. Он видел в их игре одни недостатки. Другим он готов был говорить добрые слова и внимательно и чутко относиться к их стремлениям, но он также чувствовал, что в России наступает новая эпоха, создается новое искусство, новая театральная эстетика, которую он принять не мог и которой он нужен не был.
Эти молодые люди пока еще спрашивали его совета, но одновременно они пугали его… И его дети… Они выросли слишком быстро, он не успел этого заметить, и вот теперь он уже не понимал их. Они жили своей собственной жизнью. Ирина и Лидия влюблялись, страдали… Вскоре им предстояло выйти замуж [22]22
В 1921 году во время венчания своей любимицы Ирины в церкви Большое Вознесение у Никитских ворот, где в 1830 году венчался Пушкин, Шаляпин читал «Апостола». Эта свадьба стала последним ярким событием, объединившим их семью. Позже в воспоминаниях Ирина так описала этот день: «Кончилось венчание, и все отправились на Новинский бульвар. Мы с мужем (П. П. Пашковым. – И.Б.)подъехали к крыльцу, – парадные двери были настежь открыты. Раздались звуки рояля – это Ф. Ф. Кенеман играл написанный им посвященный мне свадебный марш. К роялю подошел отец. Держа в руке бокал шампанского, он высоко поднял его, кивнул Кенеману и запел „Эпиталаму“ из оперы „Нерон“ – „Пою тебе, бог Гименея, ты, кто соединяешь невесту с женихом…“ Мы стояли посреди зала, кругом – гости. Двери на террасу были открыты, и во дворе собралась публика. Отец так пел, что от восторга и умиления слезы выступили у меня на глазах, и когда, закончив последнюю фразу, он подошел ко мне и раскрыл свои объятия, я утонула в них, осыпая его поцелуями».
[Закрыть]. А впереди вырисовывалось что-то непонятное, непостижимое, смутное…
Все больше Шаляпина раздражали бытовые неурядицы жалкого советского существования. То, что он, певец с мировым именем, вынужден был петь по два концерта в день за мешок картошки или вязанку дров, унижало и угнетало его. Да и то, что творилось вокруг, не могло не оказывать на него своего разрушительного воздействия.
«На самом деле, какая глупость не иметь ботинок или брюк? и все это после тридцати лет работы! но!.. что делать! Терпение!» – возмущенно писал он Иоле Игнатьевне в 1920 году. Терпение– теперь им оставалась только эта христианская добродетель. Но количество восклицательных знаков, поставленных в письме Шаляпиным, свидетельствовало о том, что его терпению приходил конец.
Вероятно, еще в 1919 году Иола Игнатьевна наконец нашла в себе силы рассказать детям о второй семье отца. Скорее всего, ни для кого это уже не было тайной – нельзя было не замечать очевидного! – но теперь это обстоятельство резко меняло их жизнь. Вторая семья Шаляпина была признана,стала совершившимся фактом. Отныне это была неизбежная реальность, с которой им предстояло мириться, а не какая-то темная сторона жизни их отца, которую можно было не замечать и обходить молчанием.
К несчастью, именно с этого времени начинается постепенное отдаление Шаляпина от семьи. В 1920–21 годах он уже постоянно находился в раздраженном состоянии. Он устал от всего происходящего, жизнь в Советской России убивала его. Его раздражало, что Иола Игнатьевна отказывалась покидать Россию, тогда как в данный момент он ничем здесь ей помочь не мог. Теперь дома случались ссоры. Шаляпин уже не сдерживался при детях, и они видели, что он мог быть и таким.
«Дома атмосфера тяжелая, – записывает в дневнике Ирина. – Папа с мамой в ссоре. Папа сильно изменился. Временами мне кажется, что он совсем нас не любит. Страдаю безумно. Люблю его безумно. Не могу, однако, объяснить себе некоторые его поступки. Ненавижу М. В. Виновата, конечно, она, он весь под ее влиянием. Маму глубоко жаль…»
Так в жизнь их семьи вошла эта чернаяженщина Мария Валентиновна.
В августе 1921 года, когда гражданская война в России уже закончилась победой большевиков, Шаляпин получил долгожданную возможность выехать за границу «на предмет обследования подготовки практического разрешения вопроса о вывозе русского искусства за границу», как говорилось в его командировочном удостоверении. Это была страшноватая лексика того нового государства, гражданами которого они стали, независимо от их желаний. Шаляпину предстояло дать концерты в Латвии, Финляндии, Англии и Америке, часть сбора от которых он должен был передать на помощь голодающим. Впервые Шаляпин ехал на гастроли в новом для себя качестве крепостного артиста. В России заложниками оставались обе его семьи. Эта практика, впервые введенная большевиками, предусматривала жесткий контроль над выезжающими за границу гражданами «самой свободной в мире страны», чтобы они не вздумали поддаться сказочным соблазнам буржуазного общества и, не дай Бог, не вернуться домой. Ничего подобного – ни в какие самые мрачные времена царской реакции – Россия до этого не знала.
Правда, в 1921 году с помощью Максима Пешкова, служившего в дипломатической миссии В. В. Воровского (в то время полномочного представителя РСФСР в Италии), удалось устроить отъезд в Германию Лидии с мужем Василием Антиком, которые первыми из всех членов шаляпинской семьи покинули Россию.
Попав за границу, Шаляпин, как ребенок или как арестант, вырвавшийся на волю из своей мрачной камеры, жадно вдыхал воздух свободы, наслаждался приметами нормальной человеческой жизни, радовался белому хлебу или хорошему вину. Теперь казалось почти невероятным, что все это когда-то было в изобилии и в России. Пять лет жизни «под большевиками» заставили его забыть о самых естественных и необходимых человеческих потребностях.
Домой Шаляпин вернулся только в марте 1922 года с твердым желанием вырваться отсюда как можно скорее. Но для того чтобы получить пропуск на выезд со всей семьей, пришлось немного послужить большевикам, «покривить душою», как признавался он потом в книге «Маска и душа», развивая мысль, что его выступления за границей «приносят советской власти пользу и делают ей большую рекламу». Как же было обойтись без этого? Советская власть провоцировала в людях не лучшие качества.
В апреле-мае Шаляпин побывал в Москве – в последний раз!Дал ряд концертов в пользу голодающих, спел Мельника в «Русалке» в Большом театре. На последние его концерты в Большом зале Московской консерватории публики набилось столько, что все едва смогли уместиться в зале. Когда Шаляпин пел, некоторые плакали… [23]23
Вспоминая об исполнении Шаляпиным романса П. И. Чайковского «Ни слова, о друг мой», С. Я. Лемешев пишет: «Когда же Шаляпин дошел до фразы: „Что были дни ясного счастья, что этого счастья не стало“, – из моих глаз вдруг выкатились две такие огромные слезы, что я услышал, как они шлепнулись на лацкан куртки. Этого мне никогда не забыть. Засмущавшись, я закрыл лицо, стараясь скрыть волнение. Словно зачарованный я просидел в ложе до самого конца, и не раз слезы застилали глаза… Я был потрясен».
[Закрыть]Его отъезд за границу на длительный срок оказывался какой-то зияющей раной для всего русского искусства, для любителей музыки в России, художественной интеллигенции обеих столиц.








