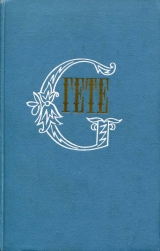
Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том третий. Из моей жизни: Поэзия и правда"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 54 страниц)
Дальнейшее путешествие вниз по Рейну проходило весело и счастливо. Речной простор манил душу расправить крылья и устремиться вдаль. Мы прибыли в Дюссельдорф и оттуда отправились в Пемпельфорт, приятнейший уголок, где в большом доме, среди обширных и заботливо ухоженных садов собиралось интеллигентное и благовоспитанное общество. Не говоря уже о многочисленном семействе Якоби, этот радушный дом всегда привлекал множество гостей.
В Дюссельдорфской галерее моя любовь к нидерландской школе нашла для себя обильную пищу. Целые залы отличных, блистающих всею полнотой жизни картин если и не углубили моего понимания искусства, то все же обогатили меня новыми знаниями и еще больше укрепили в пристрастии к этого рода живописи.
Прекрасное спокойствие, мир и нерушимые устои, то есть все характерное для семьи Якоби, оживали на глазах гостя, так как вскоре он заметил, что влияние этой семьи распространяется вдаль и вширь. Многосторонняя деятельность соседних зажиточных городов и местечек немало способствовала ощущению внутреннего довольства. Мы съездили в Эльберфельд и с удовлетворением наблюдали за оживленной работой многих превосходно оборудованных фабрик. Здесь мы вновь повстречали нашего Юнга, по прозванию Штиллинг, с которым свиделись уже в Кобленце; с ним, как всегда, были неразлучны его драгоценные качества: вера в бога и неизменная верность людям. Впервые Юнг предстал перед нами в своем кругу, и мы не могли не порадоваться доверию, которым его дарили сограждане; занятые вполне земными хлопотами, они не упускали из виду и благ небесных. Этот край работящих людей производил успокаивающее впечатление, ибо все здесь дышало чистотой и разумным порядком. Мы провели несколько приятных дней, радуясь всему, что видели и наблюдали.
Вернувшись обратно к своему другу Якоби, я испытал восхитительное чувство, вызываемое истинным душевным союзом. Обоих нас вдохновляла надежда на совместную деятельность: я настойчиво побуждал его облечь в какую-либо образную форму все, что всходило и прорастало в нем. Для меня это всегда было наилучшим средством выбираться из затруднений, и я полагал, что это будет благом и для него. Мужественно последовав моему совету, сколько же он создал доброго, прекрасного и радующего сердце! Итак, мы в конце концов расстались с блаженным чувством вечного единения, нимало не подозревая, что наши устремления примут прямо противоположный характер, как это слишком ясно обозначилось впоследствии.
Все, встретившееся мне на обратном пути вверх по Рейну, начисто стерлось из моей памяти, может быть, оттого, что вторичное впечатление в воспоминании сливается с первым, а может быть, также и оттого, что я был углублен в себя, силясь осмыслить и переработать то, что воспринял и что так сильно на меня подействовало. Теперь я хотел бы еще рассказать об одном важном результате этой поездки, о возникновении мысли, которая долго занимала меня и побуждала к творческой работе.
При моих более чем свободных взглядах, при том, что я жил, не стремясь к какой-нибудь определенной цели и не строя планов на будущее, от меня не могло укрыться, что Лафатер и Базедов использовали духовные, даже религиозно-духовные средства для сугубо земных целей. Мне, бессмысленно расточавшему и талант и время, довольно скоро бросилось в глаза, что оба они, каждый на свой лад, стараясь учить, поучать и убеждать, имели еще какие-то тайные намерения, осуществление которых было для них крайне важно. Лафатер делал свое дело деликатно и умно, Базедов – топорно, кощунственно: он, что называется, рубил с плеча; при этом оба так были убеждены в достоинстве всей своей деятельности, своих пристрастий и начинаний, что их нельзя было не считать добропорядочными людьми, нельзя было не уважать и не любить. К чести Лафатера надо сказать, что он преследовал доподлинно высокие цели, и если подчас и действовал слишком расчетливо, то полагал, что цель оправдывает средства. Когда я, приглядевшись к обоим, откровенно высказал им свое мнение и в ответ выслушал, что думают они, я понял, что, конечно же, значительный человек хочет распространять на других то божественное начало, которое в нем укрепилось. Но здесь он сталкивается с грубой мирской жизнью и, чтобы воздействовать на нее, должен стать с нею вровень, а тогда он поневоле начинает поступаться своими высокими достоинствами и в конце концов вовсе жертвует ими. Небесное, вечное, облекшись в плоть земных устремлений, заодно с ними приобщается к судьбе всего бренного и преходящего. Когда я стал рассматривать жизненный путь сих мужей с такой позиции, они мне показались столь же почтенными, сколь и достойными сожаления, ибо я заранее знал, что они окажутся вынужденными высокое принести в жертву низменному. Неустанно продолжая эти наблюдения и не довольствуясь своим личным опытом, я пытался разыскать похожие случаи в истории и вскоре принял решение на примере Магомета – а я никогда не считал его за обманщика – в драматической форме показать те дороги, которые мне так недавно довелось наблюдать в жизни: дороги, ведущие не к благу, а к погибели. Незадолго до того я с величайшим интересом штудировал жизнеописание восточного пророка и, следовательно, когда у меня родилась эта мысль, был уже достаточно подготовлен к своей задаче. Целое должно было иметь форму скорее правильную, которая вновь стала привлекать меня, хотя в какой-то степени я все же умеренно пользовался свободой, завоеванной театром, произвольно распоряжаясь временем и местом действия. Пьеса открывалась гимном, который Магомет в одиночестве поет под звездным небом. Сначала он, как богов, славит бесчисленные ночные светила, затем восходит приветливая звезда Гад (наш Юпитер), и ей, царице звезд, он воздает совсем особую хвалу. Вскоре выплывающая луна покоряет взор и сердце молящегося, но затем взошедшее солнце дарит ему отраду и свежие силы, призывая его к новому песнопению. В этих сменах, сколько бы радости они ни несли с собой, заключена тревога, душа ощущает потребность вознестись еще выше; она и возносится к богу, единственному, вечному, беспредельному, которому обязаны своим бытием все эти дивные создания. Этот гимн я писал с большой любовью. Он потерялся, но, думается мне, его стоило бы восстановить в виде текста для кантаты, так как разнообразие его выразительных средств могло бы заинтересовать музыканта. Надо только представить Магомета, как я и намеревался сделать тогда, предводителем каравана, с семьей и со всем племенем, это позволило бы ввести чередование голосов и мощные хоры.
Обретя свою новую веру, Магомет хочет поделиться всеми чувствами и мыслями с близкими ему людьми, жена и Али безоговорочно становятся его последователями. Во втором действии он, но еще более страстно Али, пытается насадить новую веру в своем племени. Здесь мы видим сочувствующих и противящихся, в зависимости от характера каждого. Начинается распря, она становится неукротимой, и Магомет вынужден бежать. В третьем акте он одолевает врагов, провозглашает свою религию всеобщей и удаляет идолов из Каабы. Но не всего можно добиться силою, и он вынужден прибегнуть еще и к коварству. Земное начало растет, ширится, божественное отступает, застилается мраком. В четвертом действии Магомет по-прежнему завоеватель, его учение теперь скорее предлог, чем цель: все средства, которые можно измыслить, пускаются в ход, в том числе и жестокость. Женщина, мужа которой он повелел казнить, дает ему отравленное питье. В пятом акте он чувствует, что отравлен. Величайшее самообладание, возвращение к самому себе, к высшему смыслу делают его достойным восхищения. Он очищает свою веру, укрепляет свое царство и умирает.
Таков был план работы, которая долгое время занимала мои мысли, ибо, прежде чем приступить к выполнению задуманного, я обычно должен был сосредоточить в уме весь материал. Мне хотелось наглядно изобразить, как гений силой своего характера и духа получает власть над людьми, чем он при этом обогащается и что теряет. Многие песни, которые я намеревался вставить в пьесу, были мною уже написаны. Из них сохранилась лишь одна, под названием «Песнь о Магомете», она помещена в собрании моих стихотворений. В пьесе этот гимн должен был петь Али во славу своего учителя, в миг наивысшего успеха и незадолго до рокового поворота событий – отравления Магомета. Я еще помню наметки отдельных мест, но их изложение завело бы меня здесь слишком далеко.
КНИГА ПЯТНАДЦАТАЯПосле всех этих рассеяний и отлучек, часто, впрочем, служивших мне поводом для углубленных, более того – религиозных размышлений, я всякий раз с радостью возвращался к своей достойной подруге фон Клеттенберг, чья близость, хотя бы на краткий миг, смягчала мои бурные, разбросанные страсти и внезапные увлечения, не говоря уж о том, что ни с кем, если не считать моей сестры, я не делился так охотно своими замыслами. Я должен был бы заметить, что ее здоровье постепенно ухудшалось, но закрывал на это глаза; оправданьем мне служит лишь то, что ясность ее души возрастала вместе с болезнью. Изящно и тщательно одетая, она обычно сидела у окна в своем кресле, благосклонно внимая моим рассказам или чтению. Иной раз я даже рисовал, чтобы дать ей лучшее представление о краях, которые мне довелось увидеть. Однажды вечером, когда я вызвал перед ее внутренним взором целый ряд разнообразных картин, она сама и все ее окружавшее, в свете заходящего солнца, вдруг явилось мне как бы просветленным, и я не мог удержаться, чтобы по мере своих скудных способностей не набросать картинку, на которой все это было изображено: думается, что, сделанная кистью более искусного художника, – Керстинга, например, – эта картинка выглядела бы прелестно. Я послал ее одной приятельнице, жившей в другом городе, приложив к ней такой стишок в качестве комментария и дополнения:
Видишь под крылами бога
Сон в магическом стекле —
Нашу кроткую подругу
С смертной мукой на челе.
Видишь, как с волнами жизни
Ей борьба трудна была,
Видишь образ твой и бога,
Что страдал, не помня зла.
Чувствуй, что мне в этих красках
Воздух неба говорил
В час, когда мою картину
Я стремительно творил [39]39
Перевод А. Кочеткова.
[Закрыть].
Хотя в этих строфах, как то нередко со мной случалось, я выказал себя вроде бы посторонним, чужим, чуть ли не язычником, фрейлейн Клеттенберг не только на это не посетовала, но, напротив заверила меня, что теперь я ей милее, чем прежде, когда я пользовался христианской терминологией, с которой не умел должным образом управляться. Она заметила еще по моему чтению миссионерских отчетов, которые очень любила слушать, что я всегда держал сторону не миссионеров, а народов, и прежнее их состояние предпочитал новейшему. Она была со мною неизменно кротка и ласкова и, видимо, нисколько не тревожилась обо мне и о спасении моей души.
Мой постепенный отход от христианского вероучения объясняется тем, что я чрезмерно серьезно, со страстной увлеченностью старался постичь его. С тех пор как я сблизился с братской общиной, мое тяготение к этим людям, собиравшимся под победоносным Христовым знаменем, час от часу возрастало. Любая позитивная религия всего обаятельнее, когда она находится в становлении; приятно переноситься мыслью во времена апостолов, в пору, когда все было еще так свежо и поистине духовно. Братская община имела в себе нечто магически привлекательное именно потому, что она продолжала и как бы увековечивала это первичное состояние. Возникнув в самые ранние времена, она окончательно так никогда и не сложилась, а лишь, как скромное вьющееся растеньице, пробивалась сквозь густую и грубую чащу мира; но вот одинокий его росток под защитой некоего религиозного и значительного человека пустил корни, чтобы, в спою очередь, из неприметного побега разрастись по всему миру. Важнейшим было то, что религиозная жизнь сплеталась здесь в единое и неразрывное целое с жизнью гражданской, что учитель одновременно являлся повелителем, отец – судией. Более того: глава этой общины, которого в делах духовных дарили безусловным доверием, был также призван вершить дела земные; вынесенные им решения в делах, касающихся всех или только отдельных лиц, воспринимались со смирением, как приговор божественной воли. Благодатный покой, на первый взгляд повсюду здесь царивший, был очень привлекателен, хотя, с другой стороны, миссионерская работа требовала напряжения всех сил, заложенных в человеке. Многие из этих высокодостойных людей, которых я узнал на синоде в Мариенборне, куда меня взял с собой советник посольства Мориц, поверенный в делах графа фон Изенбурга, внушили мне глубочайшее уважение, и, пожелай они того, я бы стал их единоверцем. Я изучал их историю, их учение, его истоки и развитие, мог все это изложить и радовался случаю побеседовать со сведущими людьми. Должен, однако, заметить: сии братья, так же как фрейлейн фон Клеттенберг, не желали считать меня христианином, что поначалу меня тревожило, а потом несколько остудило мой пыл. Долго я не мог взять в толк, в чем, собственно, состоит различие между ними и мною, хотя оно лежало более или менее на поверхности, покуда все не уяснилось мне скорее случайно, чем в результате моих размышлений. От общинных братьев, так же как от прочих достойных христианских душ, меня отличало то, что уже неоднократно приводило к расколу церкви. Одна часть верующих утверждала, что человек до мозга костей испорчен грехопадением и ни одной капли доброго начала в нем уже не осталось, а потому он не вправе полагаться на свои собственные силы, а только на благодать господню и ее воздействие. Другие, правда, охотно признавали наследственные пороки человека, но все же не отрицали наличия во внутренней его природе ростка, который, ежели его осенит благодать, сможет вырасти в радостное древо духовного блаженства. Последнего убеждения искренне придерживался и я, сам того не сознавая, хотя письменно и устно ратовал за противоположное; впрочем, все это представлялось мне настолько смутно, что, по существу, я ни разу не поставил перед собою подобной дилеммы. Из этого тумана я нежданно-негаданно оказался вырванным, когда однажды в разговоре о религии простодушно высказал свое, как мне казалось, весьма невинное мнение и должен был выслушать длинную и суровую отповедь. Это-де чистое пелагианство, возражали мне, гибельное учение, на беду вновь распространившееся в наше время. Меня это удивило, даже испугало. Я опять с головой ушел в историю церкви, заново перечитал житие Пелагия, ближе познакомился с его учением и уразумел, что в течение многих столетий верх одерживала то одна, то другая из двух несоединимых доктрин, ибо люди воспринимали таковые в зависимости от своего внутреннего склада – деятельного или, напротив, пассивного.
В последние годы я ощущал потребность в беспрестанном упражнении своих сил, неутомимая энергия заодно с волей к нравственному самоусовершенствованию побуждала меня к действию. Внешний мир требовал, чтобы эта энергия была отрегулирована я направлена на пользу другим, и я был обязан соответственно переработать в себе его великое требование. Все вокруг указывало мне на природу, природа являлась мне во всем своем великолепии, я знал множество хороших, честных людей, которые, не щадя себя, выполняли свой долг просто из чувства долга; отречься от них, а значит, и от себя самого, казалось мне невозможным. Пропасть, отделявшая меня от вышеупомянутого учения, открылась моему взору до самого дна, посему мне надо было порвать с этими людьми, а так как у меня нельзя было отнять любви к Священному писанию, равно как к основателю христианского учения и первым его последователям, то я создал себе религию для личного употребления, стараясь обосновать и укрепить ее прилежным изучением истории и тщательным проникновением в авторов, склонявшихся к моему образу мыслей.
Но так как все, что я воспринимал с любовью, немедленно отливалось в поэтическую форму, то мне пришла на ум занятная мысль эпически обработать историю Вечного Жида, которая запомнилась мне еще с детства по народным книгам, и, следуя за этой путеводной нитью, изобразить выбранные по моему усмотрению наиболее значительные моменты из истории религии и церкви. Сейчас я расскажу, как сложилась у меня фабула этой вещи и какой смысл я в нее вложил.
В Иерусалиме жил башмачник, которому легенда присвоила имя Агасфера. Основные черты для его характера я позаимствовал у своего дрезденского башмачника. Щедрой рукою я придал ему ум и юмор еще одного башмачника, Ганса Сакса, и облагородил его любовью к Христу. Мастерская у Агасфера была под открытым небом, и он любил вступать в разговор с прохожими, поддразнивать их и, подобно Сократу, каждого умел вовлечь в беседу; соседи и другие простолюдины охотно вкруг него собирались, иной раз наведывались фарисеи и саддукеи, возможно, что и Спаситель со своими учениками останавливался поговорить с ним. Башмачник, помышлявший только о житейском, все же проникся особой любовью к господу нашему Иисусу Христу, и любовь эта выразилась в том, что он старался приобщить великого мужа, помыслы которого оставались ему темны, к своему пониманию жизни. Посему он настойчиво уговаривал Христа выйти наконец из созерцательного состояния, не бродить по стране со всякими бездельниками, не соблазнять народ тоже предаваться безделью, не увлекать его за собой в пустыню. Толпа всегда, мол, пребывает в возбуждении, и ничего доброго это сулить не может.
Иисус Христос, со своей стороны, пытался иносказаниями поучать его своим высоким воззрениям и целям, но на упрямца никакие увещания не действовали. Когда же Христос мало-помалу сделался известен всей стране, доброжелатель-башмачник стал еще пуще его донимать: если-де так будет продолжаться, непременно возникнут беспорядки и мятежи, да и сам Христос волей-неволей станет во главе партии, что, конечно же, не входит в его намерения. Когда события принимают всем известный оборот, Христос схвачен и приговорен, Агасфер вне себя от волнения, но его волнение еще возрастает, после того как Иуда, по-видимому, предавший Спасителя, в полном отчаянии является к нему в мастерскую и, плача, рассказывает о злосчастном исходе своего замысла. Дело в том, что он, Иуда, как и другие из умнейших апостолов Христа, был твердо убежден, что Христос объявит себя правителем и главой народа, и решил силою сломить доселе непреодолимую нерешительность Спасителя, принудить его к действию; с этой целью он и побудил священников к применению грубой силы, на что они до сей поры не отваживались. Апостолы тоже были не безоружны, и все бы, наверно, обошлось, если бы Христос сам не предал себя в руки врагов, оставив своих присных в печальнейшем положении. Агасфер, которого этот рассказ отнюдь не настроил на кроткий лад, еще усугубил горе бедняги экс-апостола, и тому только и осталось, что второпях повеситься.
Когда Иисуса ведут на казнь мимо мастерской башмачника, разыгрывается пресловутая сцена: страдалец падает под бременем креста, и далее крест вынужден нести Симон из Кирены. Агасфер, этот упорный разумник, выходит из толпы зевак и, видя, что кто-то несчастен по собственной вине, не только не испытывает сострадания, но в порыве неуместной справедливости упреками усугубляет беду. Он азартно повторяет прежние свои увещания, они становятся грозными обвинениями, на которые, как ему кажется, он имеет право благодаря своей любви к страстотерпцу. Спаситель не отвечает, но в это мгновение любящая Вероника накидывает плат на его лицо, когда же она его снимает и держит в высоко поднятых руках, Агасфер видит на нем лик Спасителя, но не мученический лик того, кто страждет здесь, рядом, а дивно просветленный и причастившийся славе небесной. Ослепленный этим видением, Агасфер отводит взор и слышит: «Ты будешь странствовать по земле, покуда вновь не узришь меня в этом образе». Пораженный, он лишь через некоторое время приходит в себя и видит, что улицы Иерусалима пустынны, ибо весь народ устремился к месту казни. Тревога и тоска гонять его прочь, и он начинает свое странствие.
Об этом, так же как и о событии, которым заканчивается поэма, хотя оно отнюдь не завершает ее, я, пожалуй, скажу в другой раз. Начало, отдельные сцены и конец были написаны, но мне недоставало сосредоточенности, недоставало времени на изучение материала, необходимого, чтобы вложить в поэму содержание, мною задуманное, и эти немногие листки остались лежать еще и потому, что для меня началась тогда новая эпоха, которая неизбежно должна была начаться, еще когда я писал «Вертера» и затем видел действие, им произведенное.
Обычная людская участь, выпадающая на долю каждого из нас, наиболее тяжким бременем ложится на тех, чьи умственные силы получили более раннее и более широкое развитие. Пусть мы вырастаем под покровительством родителей и близких, пусть служат нам опорой братья, сестры и друзья, пусть развлекают нас знакомые и дарят счастье те, кого мы любим, в конце концов человеку все же остается рассчитывать лишь на свои силы, ведь даже бог так поставил себя по отношению к человеку, что не всегда в трудный час может ответить на его благоговение, доверие и любовь. Я уже с ранних лет по опыту узнал, что в миг жгучей нужды нам говорят: «Врачу, исцелися сам!» Не раз приходилось мне с глубоким вздохом восклицать: «Я топтал точило один!» И вот, намереваясь утвердить свою самостоятельность, я понял, что наинадежнейшей ее базой может стать мой творящий талант. За последние годы он ни на мгновенье не изменял мне; впечатления дня ночью нередко превращались в стройные сновидения, а едва только я открывал глаза, как мне являлось либо новое и причудливое целое, либо часть чего-то уже существующего. Обычно я писал ранним утром, но и вечером, даже глубокой ночью, когда силы мои были возбуждены вином или веселой компанией, с меня можно было спросить что угодно; найдись лишь мало-мальски стоящий повод, за иной бы дело не стало. Поразмыслив над таким даром природы, я решил, что он – моя полная, неотъемлемая собственность, и ничто постороннее не может ни поощрить его, ни ему помешать, – иными словами, я мысленно уже основывал на нем всю свою жизнь. Это представление мало-помалу воплотилось в образ: мне вспомнилась древняя мифологическая фигура Прометея, который, отъединясь и отпав от богов, населил весь мир людским племенем, сотворенным его руками. Я теперь ясно чувствовал, что создать нечто значительное можно только вдали от общества. Мои произведения, пользовавшиеся столь большим успехом, были плодами одиночества, а с тех пор как мои связи с миром стали широкими и разнообразными, у меня хоть и не было недостатка в творческой силе и до вымысла я был охоч по-прежнему, но с выполнением дело обстояло сложнее, так как ни в прозе, ни в стихах я не выработал собственного стиля и, садясь за новую работу, в зависимости от ее содержания, всякий раз вынужден был пробираться ощупью и пробовать то одно, то другое. А так как при этом я решил отклонять, более того – исключать чью бы то ни было помощь, то, наподобие Прометея, также отдалился от богов, и это далось мне тем естественнее, что при моем характере и образе мыслей одно умонастроение вытесняло и отталкивало все другие.
Миф о Прометее ожил во мне. Старое одеяние титана я перекроил на свой рост и без дальнейших размышлений принялся писать пьесу о разладе Прометея с Зевсом и прочими новыми богами, возникшем из-за того, что Прометей собственноручно создавал людей, при содействии Минервы оживлял их и, наконец, основал третью династию. У правящих в ту пору богов были веские причины гневаться на него, ведь выходило, что они некие неправомочные существа, всунутые между титанами и людьми. В эту причудливую композицию в качестве монолога вошло стихотворение, которому суждено было сыграть значительную роль в немецкой литературе, потому что оно дало Лессингу повод высказаться в беседе с Якоби о важнейших пунктах мышления и чувствования. Это явилось искрой для взрыва, обнажившего самые потайные отношения между достойнейшими людьми, отношения, ими даже не осознанные, но все же дремавшие в этом высокопросвещенном обществе. Трещина оказалась столь глубокой, что из-за нее и ряда последовавших засим случайностей мы потеряли одного из достойнейших наших мужей – Мендельсона.
Хотя этот предмет требует скорее философской или даже религиозной трактовки, да так его и трактовали, по сути своей он всецело принадлежит поэзии. Титаны – обратная сторона политеизма, так же как черт – монотеизма; но черт, равно как и единый бог, которому он противостоит, – фигура не поэтическая. Сатана Мильтона, предерзостно им изображенный, всегда остается внакладе из-за подчиненности своего положения: ведь он тщится только разрушить дивное творение верховного существа. Прометей же, напротив, в выигрыше, ибо он формует и творит назло небожителям. Прекрасная, истинно поэтическая мысль – сотворение людского племени не вседержителем, но титаном, отпрыском старейшей династии и потому достойным сего великого деяния. Так греческая мифология являет нам неисчерпаемое богатство символов божественных и человеческих.
Тем не менее эта титанически гигантская, богоборческая идея не была подходящим материалом для моего поэтического дара. Мне скорей бы далось изображение мирного, пластического и долготерпеливого сопротивления, которое хоть и признает верховное начало, но стремится поставить себя с ним наравне. Правда, и смельчаки из этой породы: Тантал, Иксион, Сизиф – были для меня святы. Сотрапезники богов, они были недостаточно смиренны и как предерзостные гости навлекли на себя гнев божественного хозяина и печальное изгнание. Я сострадал им, трагизм их участи признавался еще в древнем мире, и я знаю, что, выведя их в качестве представителей величайшей из оппозиций на заднем плане моей «Ифигении», я им обязан значительной частью того успеха, который выпал на долю этой пьесы.
Но в те времена поэзия и изобразительное искусство для меня были неразрывны. Я рисовал портреты своих друзей в профиль на серой бумаге белым и черным мелком. Диктуя или слушая, как мне читают, я старался запечатлеть характерные позы пишущего или читающего, а также все, что его окружало; сходство было очевидным, и мои рисунки неизменно встречали хороший прием. Это преимущество всегда остается за дилетантами: они ведь отдают свою работу задаром. Чувствуя, однако, все несовершенство такого портретирования, я снова обратился к языку и ритму, которые давались мне легче. О том, как бодро, радостно и живо взялся я за дело, свидетельствуют многие стихотворения во славу искусства природы и природы искусства, с самого момента своего возникновения они вселяли мужество в меня и моих друзей.
Когда однажды, с головой уйдя в работу, я сидел в своей комнате, которая была похожа на мастерскую художника, к тому же весьма плодовитого, благодаря отраженному свету и развешанным и приколотым на стенах незаконченным картинам, ко мне вдруг вошел статный и стройный человек, которого я в полумраке сначала принял за Фрица Якоби, но, тотчас же поняв свою ошибку, приветствовал как незнакомца. Несмотря на свободное и приятное обхождение, в нем чувствовалась военная выправка. Он назвал себя: фон Кнебель. После того как мы обменялись несколькими безразличными словами, я узнал, что он, находясь на прусской службе и прожив довольно долгое время в Берлине и Потсдаме, завязал дружеские отношения с тамошними литераторами, более того – с немецкой литературой вообще. Всего ближе он сошелся с Рамлером и даже перенял его манеру читать стихи. Ему было знакомо и все написанное Гетцем, в те годы еще не пользовавшимся известностью среди немцев. По его настойчивым представлениям, в Потсдаме был напечатан «Девичий остров» этого поэта, позднее попавший в руки короля, который благосклонно о нем отозвался.
Едва мы успели в общих чертах обсудить наиболее острые проблемы немецкой литературы, как я, к большому своему удовольствию, узнал, что фон Кнебель в настоящее время служит в Веймаре воспитателем принца Константина. До меня уже доходили благоприятнейшие вести о веймарской жизни. Многие из побывавших в Веймаре приезжали к нам; они были живыми свидетелями того, что герцогиня Амалия для воспитания своих сыновей избирает людей наиболее достойных, что Йенский университет через лучших своих профессоров тоже содействует этой благородной цели, что вышепоименованная государыня не только покровительствует искусствам, но сама ревностно и успешно занимается ими. Дошел до нас слух и о том, что Виланд пользуется особой милостью двора, а «Немецкий Меркурий», печатающий работы ученых из разных земель, немало приумножает славу города, в котором он издается. Там находится один из лучших немецких театров, знаменитый не только своими актерами, но и авторами, работающими для него. Увы, всем этим прекрасным учреждениям и начинаниям теперь грозила если не опасность, то долгий застой из-за страшного пожара, уничтожившего дворец в мае этого года. Однако веймарцы верили в своего наследного принца и были убеждены, что не только эта беда будет исправлена, но, несмотря на нее, и все другие их упования сбудутся в недалеком времени. Когда я, почти как старый знакомый, стал расспрашивать Кнебеля о всех этих лицах и учреждениях и потом сказал, что хотел бы поближе ознакомиться с тамошними обстоятельствами, мой гость любезно ответил, что ничего не может быть легче, так как наследный принц со своим братом, принцем Константином, только что прибыли во Франкфурт и желают меня видеть. Я тут же заявил о готовности засвидетельствовать им свое почтение, и мой новый друг заметил, что это надо сделать незамедлительно, так как пребывание принцев во Франкфурте рассчитано на краткий срок. Чтобы поскорей приготовиться к визиту, я свел его вниз к своим родителям; удивленные его прибытием и поручением, на него возложенным, они с удовольствием вступили с ним в беседу. Затем я поспешил вместе с ним к молодым принцам, которые приняли меня весьма непринужденно и дружелюбно; граф Гёрц, воспитатель наследного принца, кажется, тоже рад был со мною познакомиться. Разговор тотчас же зашел на литературные темы, и случай дал ему благоприятный оборот, так что вскоре он сделался значительным и плодотворным.
Дело в том, что на столе лежали «Патриотические фантазии» Мёзера, вернее – их первая часть, только что сброшюрованная и еще не разрезанная. Мне эти «Фантазии» были хорошо известны, остальные же их почти не знали; воспользовавшись своим преимуществом, я сделал подробную о них реляцию, что послужило отличным поводом для беседы с молодым герцогом, твердо решившим творить добро на своем высоком посту. Эта вещь Мёзера как по содержанию, так и по своей направленности не может не представлять величайшего интереса для каждого немца. Если Германской империи ставили в упрек раздробленность, анархию и бессилие, то с точки зрения Мёзера множество мелких государств как нельзя лучше способствовало распространению и развитию культуры в соответствии с географическим положением и прочими особенностями отдельных земель. Мёзер, взяв за основу город и епископат Оснабрюк и далее включив в сферу своих наблюдений Вестфальский округ, сумел не только отобразить их взаимосвязь со всей империей, но, рассматривая их положение, увязать прошлое с настоящим, вывести одно из другого и таким образом убедительно показать читателю, какое из нововведений достойно похвалы и какое – порицания. Это давало возможность любому правителю применить теории Мёзера к своей местности и, основательно изучив политическую ситуацию своего государства, а также его связи с соседями и с империей в целом, составить себе наилучшее суждение о настоящем и будущем такового.








