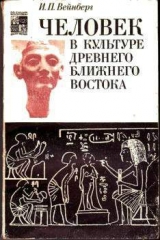
Текст книги "Человек в культуре древнего Ближнего Востока"
Автор книги: Иоэль Вейнберг
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
* * *
Собственное «я» кажется человеку первичной и самоочевидной реальностью, однако в действительности оно является результатом весьма длительного и сложного процесса вычленения «я» из людской общности и еще более длительного и сложного осознания индивидом этой вычлененности. «Индивидуальное „я“ не имеет на ранних стадиях социального развития самодовлеющего значения и ценности потому, что индивид интегрирован в общине не как ее автономный член, а как частица органического целого, немыслимая отдельно от него» [66, с. 125]. Однако социально-историческое развитие человечества – прогресс процесса производства и возросшая значимость в нем индивидуального труда, усложнение социально-политической структуры общества и появление в нем множества разнообразных людских общностей и пр. – все это обусловливает неизбежный процесс автономизации индивида, что предполагает новую, гораздо более сложную взаимосвязь индивида с обществом. Всем развитым древневосточным обществам приходилось решать два вопроса – об отношениях между индивидом и обществом и об отношениях между индивидом и обществом, с одной стороны, и природой, с другой стороны; причем содержание даваемых ответов во многом определяло характер общества и его культуры [215, с. 189]. Эти ответы, как мы могли убедиться, не обладали постоянством, категоричностью, а видоизменялись и развивались с течением времени. Это относится и к разрешению вопроса об отношениях между индивидом и обществом. В длительном, постепенном процессе индивидуализации различимы две стороны – количественная, выражающая степень выделения индивида из людской общности, и качественная, показывающая, по каким признакам идет это выделение [66, с. 124].
В мрачном, пронизанном пессимизмом древнеегипетском «Споре разочарованного со своей душой» охватившее лирического героя безысходное отчаяние, столь глубокое, что
Мне смерть представляется ныне
Исцеленьем больного,
Исходом из плена страданья
[99, с. 99],
порождено главным образом разрывом уз, связывавших индивида с различными людскими общностями: с братьями, которые «бесчестны», с друзьями, которые «охладели», и т. д. С этим согласен также «автор» древнешумерской поэмы «О Невинном страдальце», признающий величайшим горем и злом нарушение связанности «я» и «мы»:
Мой товарищ не говорит мне ни слова истины,
Мой друг называет ложью мои правдивые слова
[68, с. 139],
а в древнеегипетском «Речении Ипусера» «земля перевернулась, подобно гончарному кругу», ибо «человек убивает братьев матери своей… убивают человека рядом с братом своим» и т. д. Разрыв, нарушение связи «я»и «мы» воспринимался древневосточным человеком как одно из величайших несчастий, наряду с этим «хороший человек находит свое место в жизни как член хорошего общества… благополучие и счастье отдельного лица взаимосвязаны со статусом его группы» [165, с. 263–271].
Связанность с «мы», принадлежность к этим «мы» есть непременное условие существования древневосточного человека. Поэтому уже в раннем древнеегипетском «Поучении Птахотепа» звучит совет:
Если ты склонен к добру, заведи себе дом.
Как подобает, его госпожу возлюби
[99, с. 96].
В нем едва ли можно усмотреть «индивидуализм» [165, с. 95 – 100], скорее наоборот, он выражает принципиальную установку на связь индивида с людской общностью, иным проявлением которой можно считать распространенный в древневосточном законодательстве принцип коллективной ответственности, встречающийся в законах Хаммурапи (§ 23, 126 и др.), в хеттских законах (§ 49 и др.) и пр. В ветхозаветном рассказе о греховных содомлянах утверждается принцип коллективной «заслуги», ибо Йахве обещает пощадить весь город, всех его жителей, если среди них найдется пятьдесят, сорок, тридцать, даже только десять праведников (Быт. 18, 20 и сл.).
Именно поэтому не только в средневековом, но и в древневосточном обществе «нормой и даже доблестью было вести себя, как все, как поступали люди испокон веков. Только такое традиционное поведение имело моральную силу» [32, с. 87–88], что подтверждается основной направленностью, главной идеей столь многочисленных и популярных на древнем Ближнем Востоке поучений. Древнеегипетское «Поучение Птахотепа» наставляет:
Ученостью зря не кичись!
Не считай, что один ты всеведущ!
[99, с. 95],
а в прелестном шумерском диалоге между отцом и непутевым сыном без конца повторяется мотив «уподобления, сравнения» с остальными членами своей общности: «Другие, подобные тебе, работают, помогают родителям… Старайся сравниться со своим старшим братом, старайся сравниться со своим младшим братом» [68, с. 29–30].
Однако не следует абсолютизировать этот правильный вывод, считать данную установку единственным на протяжении всей древневосточной истории решением дихотомии «я – мы». Иначе невозможно будет понять, почему с течением времени такие поучения множатся, почему в них все настойчивее звучат призывы «не выпадать из ряда». Эти призывы оформлены как «негативная мораль», т. е. как красочное и яркое описание того, чего не должно быть, – «выпадение из ряда». Писец Хори в египетском «Поучении Аменемопе» (XII в. до н. э.) обвиняет своего друга-соперника писца Аменемопе в невежестве, трусости, бахвальстве и других недостатках, что отличают его от нормы, представленной самим обвинителем, который «любим всеми людьми, прекрасен ликом и как полевой цветок в сердцах других. Нет такого, чтоб он не знал…» [161, с. 443]. Вавилонский «Разговор господина с рабом» представляет собой систематическую и последовательную релятивизацию общепринятых норм и установок – нормы жить семьей, нормы оказывать помощь, нормы быть как и все. По мере движения древневосточной истории – в реальности и в воспроизводящих ее текстах – растет вереница «выпадающих из ряда»: от Гильгамеша, отвергнувшего любовь Иштар и притязавшего на удел богов – бессмертие, до усомнившегося (хотя только на время) в божественной справедливости Иова, от порвавшего с тысячелетним многобожием фараона Эхнатона до порвавшего с нормативным йахвизмом основателя Кумранской общины – Учителя праведности.
В этом нарастающем «выпадении из ряда» проявляется набирающий силу процесс индивидуализации. Этот процесс находит выражение также в древневосточном законодательстве: принцип коллективной ответственности постепенно заменяется ответственностью индивидуальной, как в хеттском «Указе Телипину»: «Если же царевич провинится, то пусть он только своей головой искупит (вину). Дому его (царевича) [и] сыновьям его зла пусть не причинят» [30, с. 139; стк. 55–56] или в четком определении Иехезкеела: «Душа согрешающая, она умрет, сын не понесет вины отца и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается» (18, 20). Однако вот что показательно: несомненно нарастающая с течением времени индивидуализация сочетается не с послаблением, а с усилением требований к индивиду, понуждающих его действовать как все. Это подтверждается жесткой и все ужесточающейся нормативностью йахвизма, десятками законов и запретов, регулирующих поведение индивида. Примечательно, что особой непреклонностью отличалась нормативность как раз «выпавших из ряда» кумранитов, которые требовали не только неукоснительного выполнения всех ветхозаветных законов, но еще и дополняли их своими. Нарушение всех этих установлений сурово наказывалось: за сон во время собрания, за плевок на месте сборищ, за неуместный, громкий смех и т. д. члена общины отлучали от нее на разные сроки. Пример кумранитов демонстрирует сопротивление человеческой общности, «мы» (в данном случае – Кумранской общины) чрезмерной и, следовательно, опасной для этой общности степени индивидуализации.
Г. С. Кнабе предлагает такую периодизацию эволюции связанности «я» с античным полисом [62, с. 60–68]: тождество индивида и гражданской общины (первый период), их диалектическое, противоречивое единство (второй период) и наметившийся разрыв (третий период). Если принять подобную периодизацию, то количественная сторона процесса индивидуализации в древневосточной модели мира, т. е. степень выделения индивида из человеческой общности, выражается в движении от первого периода тождества «я» и «мы» ко второму – диалектическому, противоречивому единству «я» и «мы». Что же касается второй, качественной стороны, то все изложенное выше говорит о том, что в древневосточном мире человек выделяется из своего сообщества, из «мы» не столько своими физическими данными, не столько своими эмоциями, страстями, пороками и пр., а главным образом своими помыслами, словами, действиями, т. е. своим интеллектом [222, с. 312–313].
Изучение восприятия древневосточным человеком отношения «я – мы» нельзя свести лишь к выявлению того, как он воспринимал и осмыслял соотнесенность индивида с человеческими общностями. Другой аспект этой проблемы состоит в установлении того, как древневосточный человек воспринимал саму людскую общность, «мы», какие человеческие общности он выделял и как их оценивал.
Для характеристики восприятия и осмысления мифологическим мышлением человеческих общностей, которые в соответствии с социологической терминологией целесообразнее в дальнейшем именовать «социальными группами», особенно существенными представляются четыре признака: природность, которая проявляется в том, что социальная группа воспринимается не как явление общественное, свойственное только человеку, а как явление общеприродное; оценочное отношение, состоящее в том, что любая социальная группа признается обладающей особыми качествами, определяющими ее место и значение в иерархии социальных групп; ограниченность набора социальных групп; инертность, выражающаяся в стремлении считать перечисленные признаки стабильными, неизменными [224, с. 293]. Именно эти черты восприятия человеком мифологического мышления социальной группы в условиях, когда в обществе древнего Ближнего Востока все больше углублялась социально-экономическая, политическая и идеологическая дифференциация, порождали несовпадения, разрыв между восприятием социальной группы ее современниками и ее реальной сущностью, той, которую позволяют выявить научные реконструкции современных историков. Это придает вопросу о понимании социальной группы древневосточным человеком особую актуальность.
Все многочисленные и разнообразные социальные группы можно классифицировать по их внутренней структуре, включающей систему связей, количественный состав, степень ограниченности от внешней среды и контактности внутри себя и т. д., и по их функциональному назначению [89, с. 137]. Приложение этой классификации к древневосточному материалу позволяет выделить в нем следующие типы социальных групп: семейно-родовой, возрастной, локальный, профессиональный, сословный (и классовый) и неоформившийся.
Сравнительное изучение ветхозаветного «социального» словаря показывает, что по всем параметрам – по количеству упомянутых явлений и обозначающих их слов, по удельному весу этих слов в ветхозаветном словаре вообще и его «социальном» лексиконе в частности, по частотности – семейно-родовой тип социальной группы воспринимается человеком того времени как «наилучшая» и наиболее «важная» социальная группа, к которой «я» принадлежит и непременно должно принадлежать. Такое отношение к семейно-родовой группе стабильно во времени – оно не меняется в тысячелетней ветхозаветной истории – и распространено по всему древнему Ближнему Востоку. В представлении древневосточного человека принадлежность индивида к семейно-родовой группе это не только необходимость, норма, но и непреложное условие его истинно человеческого, т. е. свободного, существования. Вхождение в семью есть один из водоразделов, отличающих человека от «недочеловека», свободного от несвободного. Поэтому полное обозначение свободного человека включает имя его отца и название его семейно-родовой группы, поэтому столь велика роль родословия на древнем Ближнем Востоке и столь популярны, особенно в Египте, семейные групповые портреты, а слова «прекрасная ликом, приглядная в (головном уборе из высоких) двух перьев», «сладостная любовью», «великая любовью» и другие подобные им обращены не к идеалу возлюбленной, не к любви вообще, а к конкретной женщине, жене и матери, к Нефертити, и свидетельствуют «об их (Эхнатона и Нефертити) неразлучности, об их задушевной близости, об их взаимной любви…» [94, с. 24].
В отличие от семейно-родовой группы, обладавшей в глазах древневосточного человека стабильной и неизменной наивысшей значимостью и ценностью, весьма архаичная возрастная социальная группа с течением времени теряла свое значение. Оценка различных возрастных ступеней также менялась. «Дитя и старец – фигуры, полные таинственного значения для мифологической архаики» [4, с. 171]. Многие древневосточные тексты подтверждают правильность этого наблюдения. Например, в жизнеописании Рамсеса II (XIII–XII вв. до н. э.) большое внимание уделяется детским и юношеским годам фараона: «Управлял ты еще тогда, когда был в яйце в твоем статусе ребенка и наследного царевича. Сообщали тебе о делах обеих земель, когда ты был еще мальчиком с локоном… Ты стал „верховными устами“ войска, когда ты был еще мальчиком десяти лет» [106, с. 19].
Древнеегипетское «Поучение Птахотепа» открывается красочным описанием старческой немощи, когда «рот молчит и более не говорит. Глаза не видят и уши не слышат», что, однако, не помеха мудрости, равно как сто десять лет волшебника Джеди не преграда его чудотворным действиям. Но если в девтерономическом описании жизни Давида большое внимание уделено его юности и старости, то в более позднем описании хрониста эти периоды жизненного пути опущены и царь изображен только зрелым мужем. Совместно с другими данными это доказывает, что с течением времени древневосточного человека, равно как и античного, все больше «интересует муж, воин и гражданин, находящийся в поре „акмэ“ (расцвета. – И. В.),в возрасте, когда совершают „деяния“» [4, с. 171].
Такой индивид мыслится древневосточным человеком как непременный член какой-либо локальной социальной группы – сельской общины или города. Первоначально древневосточный человек воспринимал этот тип социальной группы через призму семейно-родовой группы, как семейно-родовую группу, что проявляется в древних генеалогических формулах типа: сыны ( бене) X, А, Б, В и др., X породил ( холид) А, Б, В и др., X – отец Саб)А, Б, В и др., где А, Б, В – локальные группы. Но с течением времени осознается самостоятельность локальной группы, что находит свое выражение в новой генеалогической формуле: X обитает ( йошеб) в А [25, с. 69–70]. Можно также отметить растущее с течением времени признание значимости и ценности локальной группы, необходимости для человека принадлежать к ней. Это приводит к тому, что в I тысячелетии до н. э. полное наименование свободного человека все чаще включает также название города или селения: большинство ветхозаветных пророков обозначаются по этой формуле – «Слова Йиремйаху, сына Хилкийаху из священников, которые в Анатоте», «Миха из Мореши» и т. д. Но еще значительнее тот факт, что принадлежность к локальной группе представляется столь важным компонентом подлинно человеческого существования, что лишенные ее «египтяне стали подобны чужеземцам, выкинутым на дорогу» [118, 1, с. 44], т. е. утратили достоинство человека.
Не менее показательно для древневосточного восприятия социальной группы растущее с течением времени признание значения и престижности профессиональных социальных групп и принадлежности к ним индивида. Это находит выражение в крепнущем самосознании членов профессиональных групп, в горделивом подчеркивании своей корпоративной принадлежности путем включения их названия в полноенаименование или самоназвание человека. Когда Надин, сын Бел-аххе-Ики-ши, потомок Эгиби (VI в. до н. э.), в многочисленных своих документах иногда пропускает имя отца или родовое имя, но всегда указывает свой титул «писец Эанны» [35, с. 101 и сл.], то это такое же выражение горделивого самосознания своей принадлежности к престижному ремеслу писцов, как обычай указывать профессиональную принадлежность в личных печатях: «(Принадлежащая) Берехйаху, сыну Нерийаху, писцу», «(Принадлежащая) [Зе]карйаху, жрецу в Доре» – или упоминать имя изготовителя вещи, как на финикийской надписи: «Лимирн, ликиец, изготовитель чаш (фиал)» [130, с. 122], и др.
В словах гераклеопольского (до XXII в. до н. э.) варианта мифа творения о том, что после сотворения богом Ра людей, животных «он создал для них (людей) князей (еще) от яйца, правителей, чтобы поднять хребет слабого» [78, с. 85], можно усмотреть попытку включить в модель мира новое социально-политическое явление – носителей власти – путем отнесения их к первичному времени творения. Но в глазах гераклеопольского царя Ахтоя Уахкара (XXII в. до н. э.) такие социальные группы, как «вельможи» и «бедняки», представляют собой уже установившиеся данности со строго очерченной характеристикой, ибо «не пристрастен тот, кто богат в своем доме, он владыка вещей и не нуждается», а бедняк «не говорит… правды. Несправедлив говорящий: „О, если б я имел“. Пристрастен он к тому, кто владыка подаяний его» [118, 1, с. 32]. Во всем древневосточном законодательстве меры наказания и вознаграждения за услуги сословно определены (см. гл. II). Принадлежность к сословной группе – основной элемент при определении статуса индивида государством, законом, обычаем. Но вот что показательно: в отличие от многочисленных, преисполненных чувством собственного достоинства демонстраций древневосточным человеком своей принадлежности к семейно-родовой, локальной и профессиональной группам упоминания принадлежности к сословной группе крайне редки. Не исключено предположение, что сословная принадлежность индивида на древнем Ближнем Востоке, будучи определяющим элементом его статуса, еще не стала элементом его самоопределения. Причина того, что сословная группа по-разному воспринималась «сверху» – с позиции царя, царской администрации, закона и т. д. – и «снизу» – с позиции индивида, возможно, заключается в том, что тесная привязанность «я» древневосточного человека к четко оформленным микрогруппам, таким, как семейно-родовая, возрастная, локальная и профессиональная, мешала ему воспринять гораздо менее четкую и компактную макрогруппу, какой на древнем Ближнем Востоке было сословие (в отличие, например, от индийской варны).
Вероятность такого объяснения подтверждается тем фактом, что в иерархии социальных групп различные неоформившиеся социальные группы – «гости», «друзья» и пр. – отмечены лишь малой степенью значимости и ценности. Особенно отчетливо это проявляется на примере дружбы, определяемой как отношение сугубо личностное, добровольное и индивидуально-избирательное, глубокое и интимное, свободное от заданности и предопределенности, не преследующее никаких утилитарных целей и являющееся благом само по себе и т. д. [65, с. 136]. Феномен «дружба» не чужд древневосточному человеку: друзьями называют себя Гильгамеш и Энкиду, и в словах Гильгамеша об умершем Энкиду:
Друг мой, которого так люблю я,
С которым мы все труды делили
[120, с. 52; VII, стк. 1–3] —
звучат мотивы эмоциональной близости. Но скорее всего они были побратимами и принадлежали к очень важной и распространенной на древнем Ближнем Востоке категории искусственного родства. Приметы истинной дружбы, личностной и добровольной, лишенной всякой утилитарности, связывают Давида с Иехонатаном. Это подлинно бескорыстная дружба, особенно со стороны Йехонатана, поскольку Давид враг его отца Шаула и соперник его самого. Однако «друзья» и подобные неоформившиеся социальные группы не слишком привлекают древневосточного человека не только из-за их аморфности, но также из-за той степени индивидуализации, которую они предполагают и стимулируют, но которая представляется ему чрезмерной и неприемлемой.
Древневосточный человек входил одновременно в несколько различных по своей сущности социальных групп. Осознание им своей одновременной принадлежности к этим группам «интенсифицирует деятельность самосознания, которое должно как-то совместить и интегрировать эти множественные и противоречивые определения» [66, с. 132]. То обстоятельство, что один и тот же индивид по-разному проявляет себя в качестве заботливого отца и ворчливого старика, доброго соседа и умелого писца, высокомерного богача и т. д., что он по-разному воспринимается различными людьми в различных общностях, несомненно, стимулирует процесс индивидуализации древневосточного человека, его осознание себя личностью, индивидуальностью. Но вместе с тем именно факт непременной связанности индивида с социальными группами лимитирует возможности, пределы подобной индивидуализации, другой преградой для которой служит основополагающая в древневосточной жизни и модели мира оппозиция «мы – они».
* * *
В восприятии человеком людских общностей, пишет Б. Ф. Поршнев [98, с. 81], «„они“ еще первичнее, чем „мы“… Только ощущение, что есть „они“, рождает желание самоопределиться по отношению к „ним“, обособиться от „них“ в качестве „мы“». Это означает, что оппозиция «мы – они» служит основой оформления и функционирования отношений между племенами, культовыми общностями и т. д., а в конце рассматриваемого периода отношений между этносами. Подтверждают этот тезис частые изображения в древневосточных словесных и изобразительных текстах военных столкновений и торговых сношений, прихода данников и пр. – т. е. проявлений опозиции «мы – они». Особенно доказательна высокая степень повторяемости «этнического» словаря, например, в Ветхом завете [223, с. 22 и сл.], где слово «наш» народ, народность ам) упоминается около 1800 раз, а слово «их» народ (гой) – 555 раз, в чем отчетливо и наглядно проявляется противопоставление «мы – они» в восприятии этноса ветхозаветного человека.
Мы уже видели (см. гл. III), что восприятие пространства-времени древневосточным человеком характеризуется предметной наполненностью и аксиологичностью, обусловленной качеством этих предметов. Сочетание представления о расчлененности пространства на «свой мир» и «чужой (окружающий нас) мир» с оппозицией «мы – они» приводит древневосточного человека к основополагающему представлению об организованном, упорядоченном, «хорошем» пространстве как о «нашем» пространстве, за пределами и вокруг которого располагается «их» неорганизованное, хаотичное, «дурное» пространство. Данное представление пронизывает древневосточную культуру, особенно на первом этапе ее развития. Оно проявляется, например, в знаменитой «Стеле Нарам-Суэна», изображающей поход царя Аккаде (XXIII в. до н. э.) против «них», племени лулубеев. «Они» показаны на стеле нарочито хаотично, беспорядочно: лежащие тут и там тела убитых и раненых, падающие в ущелья, молящие о пощаде, что подчеркивается столь же хаотичным, диким ландшафтом: искривленные ветрами деревья, мрачные ущелья, извилистые тропы. Лулубеям противопоставлены стройные, упорядоченные ряды «нас». Тот же подход демонстрирует «Поучение гераклеопольского царя своему сыну Мерикара»: «Подл азиат, плохо место, в котором он живет, – бедно оно водой, трудно проходимо из-за множества деревьев, дороги тяжелы из-за гор» [118, 1, с. 34]. «Плохое пространство – плохие „они“ – плохие „они“ – плохое пространство» – подобное представление является общим для всего древнего Ближнего Востока, но с течением времени острота противопоставления смягчается, и некоторая организованность, упорядоченность признается также за «их» пространством. В «Рассказе Синухета» сказано, что в чужой стране «я (Синухет) давал воду жаждущему, я указывал дорогу заблудившемуся, я заботился об ограбленном» [102, с. 15–16]. Заслуживает самого пристального внимания тот факт, что данное (и ему подобные) признание возможной упорядоченности и организованности «чужой» страны сопряжено с присутствием в ней человека мира порядка – египтянина Синухета, вносившего туда этот порядок. Не означает ли это, что представление конфуцианства о мироустроительной функции императора, устраняющего путем распространения своей власти над варварами («они») свойственный им хаос и приобщающего их таким образом к миру порядка [77, с. 72–82], не было чуждо также человеку древнего Ближнего Востока? Во всяком случае, слова Дария I в надписи из Накши-Рустама: «Когда Ахура-Мазда увидел эту землю в состоянии смятения, тогда он передал ее в мои руки, сделал меня царем. Я – царь. По воле Ахура-Мазды я ее [землю] поставил на место. То, что я им [подвластным народам] повелевал, то они выполняли в соответствии с моим желанием. Если ты подумаешь: сколь многочисленны были страны, которыми владел Дарий царь, то посмотри на изображение подданных, поддерживающих трон» [118, 2, с. 36], и другие подобные высказывания допускают такое предположение.
В мифологических моделях мира «они» на первых порах куда конкретнее, реальнее, чем «мы» [98, с. 81], это подтверждается той этнографической точностью, которая характеризует изображения «их» древнеегипетскими художниками, с особой тщательностью и конкретностью воспроизводившими расовые признаки «их», особенности «их» одежды, причесок, быта и т. д. Не менее показательны рельефы дворцовой лестницы в Персеполе, где изображена длинная процессия представителей 33 народов Персидской мировой державы. Исследователи так и пишут об этом памятнике: «Это настоящий этнографический музей с изображением всех характерных особенностей одежды и черт лица различных племен и народов» [37, с. 251]. Однако со временем эта конкретность в восприятии «они» уступает место их все более отвлеченно-обобщенному осмыслению, проявляющемуся, например, в Ветхом завете, где слово гойстановится отвлеченно-обобщенным термином, выражающим самую общую и самую сущностную в глазах ветхозаветного человека черту «их» – что они «не-мы», так как «они» лишены «богоизбранности».
Связанность «своей» общности с миром упорядоченным, а «чужой» с миром хаоса, признание членов «своей» общности истинными людьми, а «чужой» – «недочеловеками» порождают концепцию избранничества «нас» [134, с. 45], состоявшую в убежденности данной общности, что она в целом и каждый входящий в нее индивид в отдельности избраны богом (или богами) и в силу этой богоизбранности занимают особое место по отношению к «ним» и среди «них». Идея богоизбранности звучала в древнеегипетском гимне Амону-Ра:
Хвала тебе, великий, родивший богов,
Создавший один себя самого,
Сотворивший обе земли (Египет)
[78, с. 85],
но с наибольшей силой проявилась в монотеистическом йахвизме и дуалистическом зороастризме. Если в мире политеистических религий одним «избранным» общностям с их богами противостояли подобные же «избранные» общности со своими богами, то монотеистический йахвизм, провозгласив избранность собственной общности единственным богом Йахве, не допускал возможности богоизбранничества других общностей: «Блажен народ, у которого Йахве его бог, – племя, которое Он избрал в наследие Себе» (Пс. 33/32, 12). С течением времени концепция избранничества претерпевала коренные изменения, сказавшиеся главным образом в том, что первоначальные представления о коллективном избранничестве всех «нас» уступали место представлению об избранности лишь части «нас» или отдельных индивидов, например, в учении кумранитов [6, с. 159–160], что соответствовало общему процессу индивидуализации на древнем Ближнем Востоке.
Избранность одних и неизбранность других, превосходство одних и ничтожество других – эти и другие сущностные признаки восприятия древневосточным человеком оппозиции «мы – они» обусловливали его убежденность в том, что «они» представляют собой изначального и неизменного врага для «нас». В реальной жизни контакты между «нами» и «ими» могли быть и бывали разными – мирными, торговыми или враждебными, военными, однако в древневосточных текстах, особенно изобразительных, доминирует один аспект – военный. С времен Древнего царства Египта до мировой державы Ахеменидов на фресках и рельефах «они» предстают главным образом в роли врагов, с которыми сражаются, которых побеждают, берут в плен, которые приносят дань. Важнейшая тема всей древневосточной словесности – войны с «ними», победы над «ними», пленение, ограбление, порабощение «их». Возможно, что именно этим, а не всегда реальной опасностью, исходившей от «них», следует объяснить тот факт, что в глазах древневосточного человека защита своей страны, война есть главная и важнейшая функция царя (см. гл. VI). Таким образом, царские анналы, фиксируя именно эту сторону деятельности царей, являются, по существу, перечнем царских походов против «них». Цель подобных походов отчетливо сформулирована в воинской реляции ассирийского царя Саргона (Шаррукина) II (VIII в. до н. э.); «Я – Шаррукин, охраняющий правду, не преступающий предначертаний Ашшура и Шамаша, смиренный, непрестанно чтущий Набу и Мардука – с их верного согласия и достиг желания сердца и над гордым врагом моим я встал победоносно» [122, с. 259; 156]; а также в речи ассирийского полководца у стен осаждаемого Иерусалима в 701 г. до н. э.: «Не слушайте же Езекии (Йехизкийаху), который обольщает вас, говоря: Йахве спасет нас. Спасли ли боги народов, каждый свою землю, от рук царя Ассирийского?.. Кто из всех богов земель сих спас земли от руки моей (царя Ассирии)? Так неужели Йахве спасет Иерусалим от руки моей?» (IV Ц. 18, 32–35).
В этом отрывке много показательного для нашей темы: и то, что «они» – враги, поскольку не чтят «нашего» бога, и то, что «мы» благодаря связи со «своим» богом превосходим «их», но особенно декларированный, как бы программный произвол по отношению к «ним». Современного человека, знакомого с гекатомбами жертв в войнах XX в., с ужасающей жестокостью концентрационных лагерей и терроризма, трудно удивить насилием и жестокостью. Тем не менее мы содрогаемся от апофеоза насилия и жестокости, который содержат, например, анналы ассирийского царя Синаххериба: «Словно жертвенным баранам, перерезал я им горло, дорогие [им] жизни их я обрезал, как нить. Я заставил их кровь течь по обширной земле, словно воды половодья в сезон дождей. Горячие кони упряжки колесницы моей в кровь их погружались, как в реку… Трупами бойцов их, словно травой, наполнил я землю…» [118, 1, с. 217]. Подобное прославление жестокости звучит особенно страшно и жутко рядом с декларируемыми теми же древневосточными царями проявлениями заботы о человеке: «Чтобы сильный не притеснял слабого, чтобы оказать справедливость сироте и вдове». Но все дело в том, что заботу и гуманность следовало проявлять по отношению к «нам», «они» рассматривались как нелюдь, как «недочеловеки», враги, изначальные и неизменные носители зла, по отношению к которым насилие и жестокость оказывались даже добродетелью, благом, заслуживающим восхваления и воспевания.








