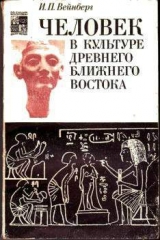
Текст книги "Человек в культуре древнего Ближнего Востока"
Автор книги: Иоэль Вейнберг
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
VII. Древневосточный человек и мир его богов
«Почему не следует писать „очерка месопотамской религии“», – таким полемически заостренным вопросом начинает А. Л. Оппенхейм главу… о месопотамской религии. Он считает систематическое описание месопотамской религии задачей невыполнимой, главным образом потому, что «человек Запада, по-видимому, не способен, а в глубине души и не желает понимать подобные религии, рассматривая их под искаженным углом антикварного интереса и апологетических претензий» [91, с. 186].
Пессимистический вывод крупного ассириолога направлен против столь распространенной модернизации древних религий, древних культур вообще, однако, как отметил И. М. Дьяконов [155, с. 391–392], навряд ли можно согласиться с пессимистическим утверждением о принципиальной непознаваемости древневосточной культуры, в том числе религии. Наша задача в данной главе в постановке вопросов: как древневосточный человек воспринимал своих богов и как он представлял себе взаимоотношения «человек – боги, боги – человек»?
* * *
Однако, прежде чем пытаться разрешить эти вопросы, необходимо хотя бы вкратце коснуться спорной проблемы о месте мира богов в древневосточной модели мира. А. Л. Оппенхейм пишет: «Создается впечатление… что влияние религии на отдельных людей и на общество в целом не имело в Месопотамии существенного значения… Религия не предъявляла сколько-нибудь серьезных притязаний ни на тело, ни на время, ни на богатство индивидуума… Человек жил в чрезвычайно умеренном религиозном климате, определявшемся скорее социальными и экономическими, чем культовыми координатами» [91, с. 178–179]. Так ли это?
Среди шумерских текстов начала II тысячелетия до н. э. имеется так называемый «Календарь земледельца», начинающийся словами: «Во время оно землепашец поучал своего сына» и содержащий разные, сугубо практические советы о проведении полевых работ: о подготовке инвентаря, пахоте, посеве и т. д., среди которых, однако, встречаются и такие рекомендации: «Когда ростки пробьются сквозь (поверхность) земли, вознеси молитву богине Нинкилим… (Если ты исполнишь это), твой бог будет всегда милостив к тебе» [68, с. 83–84; стк. 64, 85]. В ветхозаветном законодательстве многочисленные религиозные законы и запреты властно вторгаются во все сферы жизни человека, нормируя многие аспекты его жизнедеятельности, психики, социальной жизни. На всем древнем Ближнем Востоке боги предъявляли немалые требования к имуществу человека, что показывает не только взимаемая во многих древневосточных странах храмовая десятина [34, с. 14 и сл.], но подтверждает и вавилонское заклинание I тысячелетия до н. э.:
Не пожалел для него (бога) быка из стойла,
Не пожалел для него овцы из загона,
Не пожалел для него добра, что имею
[122, с. 244; стк. 80–82].
Боги притязали также на время древневосточного человека. Ярким, хотя и несколько экстраординарным свидетельством может служить «Дисциплинарный Устав» кумранитов, повелевавший всем членам общины: «И в месте, где будет десять человек, пусть неотступно будет изучающий Учение (тора)днем и ночью, постоянно, на устах друг друга (?). И старшие пусть бодрствуют вместе треть всех ночей года, читая по книге, изучая закон» [103, с. 47; VI, стк. 6–7].
Эти и многочисленные аналогичные примеры очевидно указывают на то, что само существование в мире для человека древнего Ближнего Востока имело религиозную ценность, что «вплоть до поздней древности иных мировоззрений, кроме религиозных, практически не существовало» [43, с. 29]. Человек древнего Ближнего Востока жил в мире, где небо – мир богов и земля – мир людей были неразрывно и постоянно взаимосвязаны, выступали как части единого целого, обусловливающие друг друга, как крона и ствол мирового дерева, как вершина и склоны мировой горы. Следовательно, боги постоянно и активно присутствуют почти во всех сферах жизни древневосточного человека, в большинстве его действий и проявлений от рождения (и до рождения) и до смерти (и после нее).
* * *
Когда боги, подобно людям,
Бремя несли, таскали корзины,
Корзины богов огромны были,
Тяжек труд, велики невзгоды
[122, с. 51; I, стк. 1–4],
тогда, говорится в древневавилонском «Сказании об Атрахасисе» (II тысячелетие до н. э.), боги – Игиги взбунтовались против возложивших на них это бремя «семи великих богов Ануннаков», двое из которых, Ану и Энлиль, на «собрании всех великих богов» вносят предложение о сотворении человека:
«Да!» – ответствовало собранье,
Ануннаки великие,
Что решают судьбы
[122, с. 57; I, стк. 218–220].
Подобные «собрания богов» и принимаемые на них «коллегиальные» решения фигурируют во многих других шумеро-вавилонских текстах. Изучение их привело американского шумеролога Т. Якобсена [165, с. 137–148] к выводу, что мир богов уподоблялся в сознании древних шумеров и вавилонян так называемому государству примитивной демократии, т. е. номовому государствуIII тысячелетия до н. э. Поскольку в таком государстве значительную роль играло собрание «мужей», то и в мире богов «руководство» отводилось собранию богов.
Концепция американского шумеролога получила среди историков широкое распространение и признание. Но при этом специалисты склонны признавать подобный «демократизм» в мире богов специфической особенностью одной лишь шумеро-вавилонской религии, шумеро-вавилонской модели мира, которой противопоставляется «тоталитаризм» древнеегипетской религии, древнеегипетской модели мира [215, с. 194–195]. Не говоря уж о неправомерности приложения терминов «демократизм» и «тоталитаризм» к древневосточным религиям, к мировоззрению древнего человека, спорным представляется также столь резкое противопоставление, скажем, «коллегиальности» шумеро-вавилонского мира богов «авторитарности» древнеегипетского мира богов. В «коллегиальном» мире шумеро-вавилонских богов с течением времени появляются признаки нарастающей авторитарности одного бога, например, бога Мардука в поэме «Энума элиш…», которому
…воздвигли престол почета.
Пред отцами он сел для участья в Совете
[122, с. 38; IV, стк. 1–2].
Наряду с этим в так называемой «авторитарной» древнеегипетской религии, где верховное положение одного бога является несомненным фактом, столь отчетливо выраженным формулой: «Ты (Амон) один, который создал все, ты единственный, который сотворил живое, из глаз которого появились люди, из уст которого произошли боги» [67, с. 89–90], несомненно присутствуют и элементы «коллегиальности». Причем показательно, что проявляются они зачастую в поворотные моменты деятельности богов, например, в решении истребить людей, принятом не одним Ра, а всеми богами вместе, или при обсуждении не менее важного вопроса о присуждении Гору царского титула, когда перед Владыкой вселенной – богом Ра выступают со своими советами другие боги пантеона. Признаки подобной «коллегиальности» наблюдаются также в хеттском, ханаанейском и других политеистических мирах богов и встречаются даже в самом «авторитарном» из древневосточных миров богов – в монотеистическом йахвизме, где устойчиво сохраняется представление о «совете Йахве» [148, с. 274–277; 228, с. 388–391], на который «пришли сыны Бога, чтобы предстоять перед Йахве» (Иов 1, 6). Поэтому правомерно предположить, что признание «коллегиального» начала в мире богов есть свойство восприятия и осмысления этого мира, общее для всего древнего Ближнего Востока.
«Коллегиальность» в мире древневосточных богов не предполагает равенства между ними, а, напротив, связана с подвижной и изменчивой иерархичностью [190, с. 23 и сл.]. Для древневосточного человека одним из существенных критериев расположения богов по рангам и ступеням служил феномен «близкий бог – далекий бог», проявляющийся в африканских космогонических мифах. Согласно этим мифам, в центре вселенной находится верховное божество, творец вселенной, демиург, но «парадоксальным образом эта центральная фигура мифического мира всегда вызывала к себе двойственное отношение – почитания и равнодушия; почитания, поскольку в ней видели демиурга, творца всего сущего, и равнодушия, поскольку она казалась слишком далекой от повседневных человеческих забот» [55, с. 139].
Подобный парадокс наблюдается также в шумерской мифологии, в которой бог неба Ану выступает как всесильный и всемогущий бог-демиург, отец всех богов. Однако свое владычество над вселенной, богами и людьми Ану передает своему сыну Энлилю, который также является демиургом. Но в отличие от Ану, демиурга одноразового и единовременного действа, отделившего небо от земли и землю от неба «в начале» времен, деятельность Энлиля как демиурга характеризуют многократность и повторность. Он произвел деревья и злаки, создал кирку-мотыгу, вспахал поле и вырастил хлеб, положил начало скотоводству и добыл молочные продукты, изготовил строительные материалы и начал строить дома, так что без Энлиля
Не было бы возведено ни одного города, не было бы заложено ни одного селения,
Не было бы построено ни одного хлева, не было бы устроено ни одного загона,
Не возвысился бы ни один царь, не родился бы ни один верховный жрец
[68, с. 116].
Думается, что возникновение дихотомии «далекий бог – близкий бог» связано с различением бога-демиурга одноразового и давнего действия и удаленного поэтому во времени и в пространстве «бога далекого» и бога-демиурга многократного и более позднего действия, воспринимаемого поэтому как «бог близкий». Правомерность такого предположения подтверждается одним из наиболее «близких» и наиболее почитаемых богов шумерского пантеона – Энки. Он демиург, снабдивший Тигр и Евфрат пресной водой, пустивший в реки рыбу, наполнивший леса дичью, взрастивший злаки на равнинах, сотворивший человека, но главным образом он первый учитель человека, поскольку Энки есть хранитель того, что на шумерском языке называлось ме,а на аккадском – парцу. Медовольно единодушно определяется исследователями [206, с. 5; 61, с. 41] как некие божественные силы, присущие всем божественным и земным институтам, обусловливающие их сущность и управляющие ими. Поскольку именно Энки выступает хранителем этих ме(их около сотни), среди которых имеются такие, как «верховная власть» и «власть богов», «царский трон» и «закон», «истина» и «музыка», «ложь» и «ремесло строителя», «мудрость» и многие другие постоянные и повторяющиеся явления, то деятельность Энки как демиурга носит перманентный характер, определяющий его качество «близкого бога».
Связь дихотомии «близкий бог – далекий бог» с характером и интенсивностью воздействия богов на мир особенно наглядно раскрывается на примере соотношения богов Эл и Баал в угаритском мире богов: Эл, как свидетельствуют его эпитеты «создатель всего», «отец богов и людей», «царь богов и людей», это бог-демиург, но одноразового и единовременного действия и поэтому «далекий бог». Ему противостоит и оттесняет его на задний план Баал, бог, воплощающий «активное, развивающее начало», постоянно и интенсивно воздействующий на мир и людей, обеспечивающий и обновляющий плодородие [173, с. 18 и сл.; 206, с. 127–177], который считается поэтому «богомблизким».
Изложенные соображения, подкрепленные древнеегипетскими (феномен Осириса, Хапи и других «близких богов») и иными материалами, подтверждают распространенность на древнем Ближнем Востоке дихотомии «далекий бог – близкий бог», что отнюдь не исключает деление богов на «старших» и «младших», на «великих» и «невеликих» и т. д. Но именно феномен «далекий бог – близкий бог» делает возможным новое решение старой проблемы о причинах причудливой противоречивости и двойственности бога монотеистического йахвизма – Эл – Элохим – Иахве. Генезис этого бога можно себе представить следующим образом [201, с. 319–329]: уже в ханаанейском Иерусалиме «далекий бог» Эл перенял черты и функции местных «близких богов», а затем, во времена Давида – Соломона, уже являясь богом «далеким – близким», слился с племенным, сугубо «близким богом» Йахве, в результате чего образовался тот своеобразный бог Йахве Элохим, который представляет собой двуединство «далекого – близкого бога». Одним из проявлений такого двуединства является то, что Йахве Элохим предстает демиургом одноразового и единовременного действия, сотворившим мир и людей в шесть дней, и одновременно демиургом перманентного, интенсивного действия, столь красочно изображенного в словах: «Ты посещаешь землю, и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее… Ты приготовляешь хлеб; ибо так устроил ее (землю). Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастения ее. Венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают тук; Источают на пустынные пажити, и холмы препоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом; восклицают и поют» (Пс. 65/64, 10–14 и др.).
Сферой наиболее интенсивного и постоянного воздействия Йахве Элохима является история. «Ветхозаветный человек убежден, что бог присутствует и действует в его истории и истории его народа» [153, с. 329–336]. Поэтому главная тема и основное содержание Ветхого завета – история, которая воспринимается как соотношение между богом и человеком, как проявление определяющего и направляющего действия бога в процветании и упадке народа и государства, как действенная связь прошлого и настоящего. Однако признание преимущественного проявления бога в человеческой истории нельзя считать специфической особенностью лишь ветхозаветной модели мира. Во-первых, ветхозаветный человек с течением времени отчасти десакрализирует историю, суживая воздействие бога и расширяя роль автономного человека в истории [212, с. 59–66; 229, с. 45–67]. Во-вторых, признание истории одной из главных сфер проявления воздействия бога на мир людей свойственно также другим древневосточным религиям. Это подтверждают, например, слова Дария I: «Ахура-Мазда дал мне это царство. Ахура-Мазда помог мне, чтобы я овладел этим царством. По воле Ахура-Мазды этим царством я владею» [118, 2, с. 24] и другие источники, в которых находит выражение еще один аспект дихотомии «далекий бог – близкий бог», а именно феномен «личный бог».
Человек древнего Двуречья был уверен в том, что у каждого индивида имеются несколько духов-защитников – или(мой «личный» бог) и иштари(моя «личная» богиня), шеду(дух-хранитель) и ламассу(его женское соответствие). По существу, это «индивидуализированные и мифологизированные носители неких конкретных психологических аспектов основного явления – восприятия себя, личности» [91, с. 203]. Возникновение и развитие феномена «личного бога», несомненно, является порождением и отражением крепнущей с течением времени индивидуализации древневосточного человека, растущего осознания им себя индивидуальностью-личностью, однако оно вызывается также ощущением острой потребности в «близком боге», особенно с усилением авторитарности многих богов и «удалением» их от человека.
Материал из Двуречья показывает, что в роли «личного» бога всегда выступало одно из божеств шумеровавилонского пантеона, например, «личным» богом правителя Лагаша Гудеа был Нингишзида, вместе с царем участвовавший в строительстве храма и т. д. «Личный» бог был для человека самым «близким» из богов, поскольку он выступал не только «соучастником» рождения человека, но и не оставлял своего «подопечного» на протяжении всей его жизни, охраняя его от невзгод и даруя ему счастье и потомство. Поэтому, как отмечает И. С. Клочков [61, с. 45], выражение «иметь бога» (ила ишу)означает «быть удачливым, счастливым», «процветать». Степень близости между человеком и его «личным» богом настолько велика, что она нередко воспринимается как отношение «отец – сын». Это очень ярко выражено в безыскусном, исполненном искренней непосредственности «письме» попавшего в беду человека своему «личному» богу: «Богу, отцу моему, скажи! Так говорит Апиль-Адад, раб твой: Что же ты мною пренебрегаешь? Кто тебе даст (другого) такого, как я? Напиши богу Мардуку, любящему тебя: прегрешения мои пусть он отпустит. Да увижу я твой лик, стопы твои да облобызаю. И на семью мою, на больших и малых взгляни. Ради них пожалей меня. Помощь твоя пусть меня достигнет» [61, с. 46]. Проявляющиеся в этом «письме» особо тесные отношения доверия и защиты между человеком и его «личным богом», выступающим также посредником между человеком и «далеким богом», по-видимому, служат причиной широкого распространения этого феномена, который встречается и в ветхозаветной модели мира в облике так называемого бога отцов. В древних частях Ветхого завета упоминаются божества, обозначаемые не привычными именами собственными – Мардук, Йахве и т. д., а именем нарицательным 'элохим(бог, боги) в сочетании с собственным именем индивида или названием семейно-родового образования, например, «я бог Абрахама, отца твоего», «бог отца моего» и др. [128, 1, с. 1 и сл.; 180, с. 56–58]. Такая структура имени божества говорит о его постоянной и тесной связи со «своим» индивидом или со «своей» человеческой общностью. При этом показательно, с одной стороны, весьма длительное сохранение феномена «бога отцов», а с другой – слияние этих особо «близких богов» с «далеким – близким богом» Йахве и придание ему признаков «личного бога». Это находит выражение в словах гимна: «Доколе, Йахве, будешь забывать меня вконец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день (и ночь)? Доколе врагу моему возноситься надо мною?» (Пс. 13/12, 2–4). Подобное присвоение «далекому – близкому богу» черт «личного бога» было особенно существенным в условиях, когда Йахве Элохим все больше лишался одного из наиболее действенных средств «приближения» бога к человеку – его конкретной предметной воплощенности в идоле.
A. Л. Оппенхейм [91, с. 187], упрекая современных востоковедов и религиоведов в недостаточном внимании к важнейшему в древневосточных религиях феномену «идол», бесспорно, прав. Однако причины этой невнимательности едва ли зависят только от многовековой традиции отрицания идолов и кумиров в западноевропейской цивилизации. Существеннее, по-видимому, иное – трудность для современного человека уяснить тот факт, что идол явился не заблуждением, не продуктом примитивной мысли, а необходимым итогом мифологического мышления, непременно свойственной ему конкретности и образности, неразличения материального и идеального и т. д. Поэтому навряд ли можно согласиться с мнением, что в древнем Двуречье, например, идол служил лишь средоточием для религиозных обрядов. Тексты показывают, что древневосточный человек не делал различия между божеством и его изображением, не считал последнее отражением или видимостью божества, а воспринимал идол как подлинного, живого бога, полагал, что именно воплощение в изображениях делает богов богами храма, земного обитания, земной субстанции [209, с. 13–23]. В представлении древневосточного человека идол это живое существо, которое ест и пьет, слышит и говорит, спит и бодрствует, чувствует и действует. Однако идол все-таки не сливается полностью с божеством, а божество не воплощается полностью в идоле, ибо «божество вселяет свой дух в идол и тем самым отождествляет себя с ним. Но божество не ограничено одним-единственным идолом или одним-единственным образом* Дух божества обитает во многих идолах, в разных образах» [163, с. 5 – 12]. Об этом красноречиво свидетельствует мемфисский вариант древнеегипетского мифа творения, согласно которому Птах «родил богов… он поставил богов в их святилища, он учредил их жертвы, он основал их храмы, он создал их тела по желанию их сердец. И вошли боги в свои тела из всякого дерева, из всякого камня, из всякой глины, из всяких вещей, которые на нем росли и в которых они приняли свои образы» [78, с. 84].
Подобной слитностью божества и идола объясняется практикуемое на всем древнем Ближнем Востоке «пленение» идолов побежденных врагов, даже «приношение их в жертву» своим богам, о чем сообщает хеттский царь Хаттусили I: «Потом я пошел походом на город Цальпу и я его разрушил, и я взял его богов и три крытых повозки и отдал их Солнечной Богине города Аринны. А изображение быка из серебра и серебряный кулак – знак власти я отдал храму Бога Грозы. А остальные изображения богов, всего их было девять, я отдал храму богини Меццула» [118, 1, с. 263], а пятьсот лет спустя, в 539 г. до н. э., персидский царь Кир II упрекает вавилонского царя Набонида в том, что тот «удалил древние идолы богов», сам же он «вернул их (богов) в целости в их [прежние] святилища, в их жилища, которыми они довольны. Пусть все боги, которых я вернул в их священные города, молятся Белу и Набу о долгой жизни для меня» [118, 2, с. 19–21].
Приведенные тексты (а число их можно без труда увеличить) явно свидетельствуют о том, что основное функциональное назначение идола в «приближении» бога к человеку, чем и объясняется широкое распространение феномена «идол». Однако не противоречит ли данному утверждению яростное отрицание идолов йахвизмом, столь отчетливо сформулированное в заповеди: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и служи им…» (Исх. 20, 4–5), в котором иногда видят проявление уникальности йахвизма? Однако почитание в рамках йахвизма в Израильском царстве (X–VIII вв. до н. э.) золотого тельца как воплощения Йахве, присутствие в «собрании Йахве» обладавших выраженной телесностью керубов, наличие элементов предметности в описаниях Йахве даже столь яростными противниками «идольности», как пророки, опровергает тезис об изначальном и постоянном отрицании идолов в йахвизме. Вероятнее всего, восприятие Йахве эволюционировало от признания его образности до ее «размывания» и затем отрицания. Такой процесс отнюдь не был уникальной чертой йахвизма, так как начатки его засвидетельствованы также другими древневосточными текстами, например, описанием Атона в древнеегипетском «Гимне Атону»:
Ты сияешь прекрасно на небосклоне неба, живой
солнечный диск, положивший начало жизни!
Ты восходишь на восточном небосклоне и ты наполняешь
всю землю своей красотой!
Ты прекрасен, велик, светозарен и высок над всей землей
[118, I, с. 90].
* * *
При рассмотрении вопроса о том, как человек древнего Ближнего Востока представлял себе отношение «человек – боги, боги – человек», следует исходить из основополагающего признания им различия между несотворенными и существовавшими до «начала» времен богов, по крайней мере части их, и сотворенным богами или богом человеком. Однако присущее мифологическому мышлению признание связи творца с творением (см. гл. IV) в значительной степени смягчает различение между богами и человеком, сближает их между собой, тем более что человек признается не только богосотворенным, но в силу этого также богоподобным.
Такая генетическая (богосотворенность) и морфологическая (богоподобность) близость между богами и человеком к тому же дополняется и подкрепляется (или даже обусловливается?) связью функциональной, т. е. той целью, которой задавались боги, когда создавали человека. Конечно считалось, что «человек был сотворен, чтобы служить богам» [206, с. 24], и этот тезис подтверждается многими древневосточными текстами, например, шумерским мифом об Энки и Нинхурсаг, где боги повелевают Энки: «Сотвори богам слуг, да порождают себе подобных (?)». В других текстах также отношение «бог – человек, человек – бог» носит отчетливо однолинейный характер. Однако в шумерском мифе «Овца и зерно», но особенно в вавилонском «Сказании об Атрахасисе» отношения между богами и человеком, человеком и богами более не сводятся лишь к прислуживанию человека богам. Согласно этому сказанию, сотворению человека предшествовало время, когда
Они, небесные Ануннаки,
Тяжкий труд положили Игигам.
Начали боги выкапывать реки.
Жизнь страны, каналы прорыли
[122, с. 51; I, стк. 19–22],
вследствие чего боги Игиги возмутились, запротестовали и решено было поручить «праматери богов» Белет-или:
Пусть она сотворит человека,
Бремя богов на него возложим,
……………………………………
Пусть несет человек иго божье!
[122, с. 56; I, стк. 9 – 12].
Люди, таким образом, сотворены для службы богам, но суть этой службы в том, что человек берет на себя «бремя богов», которое, судя по дальнейшему изложению [122, с. 59; I, стк. 328–339], включает жизненно необходимые для самого человека действия: добывание пищи, сооружение жилища, строительство каналов и т. д. Иными словами, функциональное назначение человека приобретает двусторонний характер, включающий не только служение богам, но также удовлетворение потребностей самого человека. С течением времени именно этот аспект – сотворение человека ради него самого (и богов), даже сотворение мира для человека (и для богов) – становится доминирующим в божественном замысле. Такова цель сотворения человека в гераклеопольском варианте древнеегипетского мифа творения: «Охранены люди, стадо бога, он (Ра) создал небо и землю по их (людей) желанию, он уничтожил хаос воды, он создал воздух, чтобы жили их носы. Они его подобия, вышедшие из его тела» [78, с. 84]. Аналогичные свидетельства содержатся в позднем варианте ветхозаветного мифа творения, в зороастрийском мифе: «Ты (Ахура-Мазда) тот, кто… создал для нас (людей) скот, источник благоденствия» [118, 2, с. 61; 47, стк. 3] и др. Поэтому вполне вероятным представляется предположение, что в соответствии с нарастающим антропоцентризмом древневосточной модели мира мысль человека древнего Ближнего Востока двигалась от признания главной целью богов в сотворении человека – их потребностью создать себе слуг к признанию конечной целью всего процесса творения желание удовлетворить потребности человека (и богов). Существенно меняются акценты в божественном замысле всего креативного процесса, но остается незыблемым признание генетической, морфологической и функциональной связанности человека и богов, породившее распространенную на всем древнем Ближнем Востоке и унаследованную другими эпохами мифологему о непосредственных интимных контактах между богами и земными женщинами, богинями и земными мужчинами, в которой также проявляется отношение «бог – человек, человек – бог».
Из многочисленных примеров приведем только два: «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери; Тогда сыны ’Элохима увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал», сказано в ветхозаветной книге Бытие (6, 1–2), а в «Эпосе о Гильгамеше» богиня Иштар предлагает герою:
Давай, Гильгамеш, будь мне супругом,
Зрелость тела в дар подари мне!
Ты будешь мужем, я буду женою!
[120, с. 39; VI, стк. 7–9].
В этих и большинстве других примеров инициатива исходит от богов и богинь, что соответствует их доминирующему статусу в отношении «боги – человек». Однако даже в этом аспекте преобладание богов не признается абсолютным, ибо встречаются тексты, правда немногочисленные, в которых инициатива подобных (интимных) контактов исходит от человека, как, например, в шумерском мифе «Инанна и Шукаллитуда», повествующем о том, как садовник Шукаллитуда овладел в своем саду богиней Инанной.
Но вот что показательно: случаи интимных контактов между богами и людьми, людьми и богами, как правило, отмечены знаком минус, ибо Гильгамеш отвергает любовь Иштар, от связи сынов Элохима и дочерей человека рождается племя людей строптивых и высокомерных, а проступок садовника влечет за собой несчастья для всех «черноголовых». Кроме того, случаи интимных контактов между богами и людьми, людьми и богами, отнесенные, как правило, ко времени очень далекому, «изначальному», когда жили герои, каких позже не бывало, и свершались чудеса, которые больше не повторялись, с течением времени сменялись в древневосточной модели мира разговорно-зрительной формой контактов, проявившейся в теофании (явлении бога).
Теофания, включающая непременно двустороннее общение между богом и человеком, человеком и богом, предполагает, по мнению древних, не только физическое общение между ними – человек должен видеть, слышать бога, и бог должен видеть, слышать человека, но также определенную языковую и духовную общность, поскольку бог должен говорить о том, что важно человеку, и на том языке, который понятен человеку, и наоборот. Поэтому замена интимных контактов разговорно-зрительными в «исторические» времена не означает ослабление связей между богами и людьми, людьми и богами. Пожалуй, даже наоборот, ибо в отличие от носивших выраженный избирательный характер интимных контактов, которые касались лишь немногих избранных среди людей, предполагалось, что теофания не только случается чаще, но и доступна каждому. Таким образом происходило некоторое упрощение отношения «бог – человек, человек – бог». Если во время сражения при Кадеше бог Амон явился лишь одному фараону Рамсесу II, когда тот воззвал к богу: «Он (Амон) дал мне свою руку, и я возликовал. Он воззвал за мной: „Вперед! Вперед! Рамсес-Мериамон!“» [117, с. 123], то Йахве Элохим является не только царям и пророкам, жрецам и «божьим людям», но также рядовым смертным. Как правило, теофания служит средством оповещения индивида или людской общности о божественном предначертании.
У одного фараона, долго не имевшего наследника, родился мальчик, и «пришли богини Хатор, чтобы решить его судьбу. Они сказали: „Он примет смерть от крокодила, или от змеи, или же от собаки“» – так начинается древнеегипетская сказка об «Обреченном царевиче» [102, с. 78], отразившая древнеегипетское представление о том, что жизнь и смерть человека, весь его жизненный путь предначертан богами с момента его рождения. Эта предопределенность и есть судьба, о которой герой сказки говорит: «Я отдан во власть трем судьбам: крокодилу, змее, собаке» [102, с. 82].
Тем не менее царевич и его жена пытаются противостоять судьбе – разрубают змею. Но поскольку конец сказки не сохранился, трудно решить, кончается ли она избавлением героя от злой власти трех судеб (или гибелью судьбы-собаки). Во всяком случае, эта сказка, как и другие древнеегипетские тексты, свидетельствует, что в восприятии древнего египтянина одним из самых важных проявлений отношения «боги – человек, человек – боги» явилась дихотомия: божественное предначертание (судьба) – свобода воли человека, которая играла основополагающую (с учетом местных вариантов) роль в жизни древневосточного человека, хотя он, по всей вероятности, лишь смутно ощущал ее, не осознавал, во всяком случае, не выражал ее так, как мы.
Неоднократно отмечалось, что египтяне воспринимали мир и свою жизнь в нем как нечто стабильное и не подверженное изменениям, максимально упорядоченное, воспроизводящееся из поколения в поколение. Естественно, что предначертанность оказывалась заложенной в самой основе подобного мира и жизни. Жизнь человека в долине реки Нил представлялась «запрограммированной» не каким-то особым действием или силой, а самим фактом принадлежности человека к стабильному и упорядоченному, малоизменчивому и воспроизводящему миру, допускающему проявление свободы воли человека лишь в узких и жестких пределах. Это видно из описания причин бегства Синухета: «Мой ум помутился, мое сердце – его не было больше в моем теле – увлекло меня на путь бегства» [102, с. 12].








