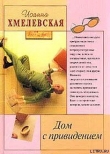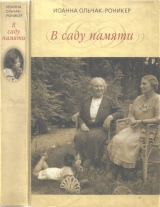
Текст книги "В саду памяти"
Автор книги: Иоанна Ольчак-Роникер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)

Зыгмунд Быховский, мобилизованный в качестве врача в царскую армию во время русско-японской войны, 1904 г.
Вскоре стали приходить известия о поражении России, которые воспринимались с нескрываемым ликованием. Всюду повторяли экзотические названия: Порт-Артур, Харбин, Хабаровск, Цусима. Звучал вальс «На сопках Манджурии» – он исполнялся в Швейцарской Долине, в кафе, на улицах и в подворотнях. Пробуждалась надежда, что разгром на войне подорвет царский режим империи и поспособствует ослаблению антипольской политики. Самые запальчивые утверждали даже, что настает час для нового восстания. Польская социалистическая партия во главе с Пилсудским призывала к активному сопротивлению царизму.
Двадцатипятилетняя Камилка Горвиц как раз в тот период вернулась из Цюриха, получив медицинское образование, и начала работать в еврейской больнице на Чистом. Одновременно с тем она действовала в варшавской ячейке ПСП. 13 ноября 1904 года в воскресенье она приняла участие в демонстрации социалистов, которая собиралась на Гжибовской площади, у костела Всех Святых. Когда с красными знаменами они двинулись в город, полиция и драгуны стали их разгонять. И тут со стороны демонстрантов раздался салют из пятидесяти револьверов. Это Боевая дружина Пилсудского впервые применила против России оружие, что произвело на варшавян огромное впечатление: на какой-то момент чувство полного бессилия было в людях поколеблено. Во время стычки жертвы были с обеих сторон, множество людей схватили. Через два дня взяли Камилку, препроводив в женскую часть тюрьмы, так называемую «Сербию». Выпустили ее под залог, внесенный матерью.

В январе 1905 года в России начались уличные беспорядки, ставшие прологом к революции. «Кровавое воскресенье» – жестокая расправа полиции с людьми, шедшими с антивоенными лозунгами к Зимнему дворцу в Петербурге, спровоцировала, с одной стороны, новые демонстрации и волнения, а с другой – усилила репрессии властей. В Варшаве ПСП объявила всеобщую забастовку. В ней приняли участие тысячи рабочих со всей страны. Участвовала и молодежь – под лозунгом требований польских школ. Одним из главных зачинщиков забастовки в своей гимназии был шестнадцатилетний Гучо Бейлин.

Якуб Морткович, во время прогулки в тюрьме «Павяк», 1906 г.
Симпатизировавший ПСП Якуб Морткович также включился в конспиративную деятельность. Он связался с независимыми организациями в Кракове. Был одним из организаторов Общества народных издательств в Варшаве. Принимал участие в таких международных институтах, как Общество польской культуры и Всеобщий университет. Получал из-за границы и распространял книги, запрещенные царской цензурой. Ничего не помогало, даже если Анулька, идя с папулей по улице, заслоняла его ручонками при виде русского полицейского. Ничего не помогало. Даже если на звонок в дверь она просыпалась в постели, шепча: «Тсс! Не открывайте, обыск!»
В 1906 году ночью раздался стук в дверь квартиры на Школьной. После тщательного обыска царские жандармы увели Якуба Мортковича. Его посадили в следственный изолятор на Павяке. Ему грозила ссылка в Вятку. Но каким-то чудом, возможно, за деньги, а может, благодаря связям, спустя два месяца его приговорили принудительно на год покинуть пределы Российской империи. Наказание заменялось прекрасной и полной впечатлений поездкой. Вместо Сибири – путешествие по Европе. Он взял с собой жену и дочь. Был 1907 год. Ханне пять лет.
В книжной фирме остался компаньон Линденфельд и преданный сотрудник Мариан Штайнсберг, – пишет моя мать. – В квартире, частично сданной, – наша прислуга Марцин. Сама поездка – ее плодотворность невозможно переоценить: Lehr und Wanderjahre[50]50
Учись и путешествуй (нем.).
[Закрыть] – пролегала через Краков, Вену, Венецию, Флоренцию, Рим, Неаполь, Сорренто, Париж, Мюнхен, Лейпциг. Сегодня меня удивляет, с каким воодушевлением мои родители мотались по Европе, изучали искусство, целыми днями пропадали в музеях и церквах, со всем упорством занимаясь самообразованием, и вместе с тем нянчились с ребенком, у которого в течение всего этого времени не было своей няни. Как гласит семейная легенда, я часто засыпала прямо на краю постели или на сдвинутых стульях, долгие часы проводила под присмотром музейных курьеров и великолепно умела в самый неподходящий момент задать вопрос. «Dove rittirata?»[51]51
А где тут туалет? (итал.).
[Закрыть].

Ханя Морткович в Италии, 1907 г.
Помимо всякого рода впечатлений, поездка пятилетнему ребенку просто надоела. В музеях и церквах, которые ее заставляли посещать, она капризничала: «Маленьким тут скучно». А однажды в Риме так устала от бесконечных осмотров, что, когда в Сикстинской капелле ей велели лечь и снизу повнимательнее приглядеться к куполу, нарисованному Микеланджело, с ней случилась истерика – пришлось ее увести, поскольку она во весь голос кричала: «Я так не могу, не могу все время смотреть и смотреть!» Пришлось отправиться в Сорренто. Вот где было чудесно. На деревьях золотые апельсины, синее небо. Волшебный лазуревый грот на Капри. Необыкновенные сокровища на пляже. Ветки кораллов и во всем своем разнообразии разноцветные камушки.
Сохранились из того времени поэтические снимки в светло-коричневых тонах: портрет маленькой Хани стилизован под девочку на старых полотнах. На одной из фотографий распущенные по плечам вьющиеся волосы, перевязанные на лбу атласной лентой, платьице, отделанное тончайшим кружевом, в руках усыпанная плодами ветвь апельсинового дерева. На другом снимке – муслиновое платье с розочками, белая шляпка, такие же ажурные носочки и туфельки. Видно, как старательно подбиралась каждая деталь ее гардероба. Похоже, моя бабушка, одевая дочь, таким образом залечивала раны собственного спартанского детства, когда одно и то же платье переходило от сестры к сестре и попадало ей уже по пятому кругу в довольно плачевном виде.

На побережье Атлантики. Слева: Роза Хильсум, Люсьен, Шарль и Рене Хильсумы, Янина Морткович, в центре – Ханя Морткович, 1907 г.
Следующее лето они проводили на Атлантике, во французской деревне. Из Парижа к ним приехала тетя Роза и три ее французских сына. Отсюда все вместе поехали в Меран, где лечилась Юлия. И далее – в Париж, Мюнхен и Вену. Якуб Морткович во время этой поездки завязал близкие контакты с самыми известными издателями Франции, Германии и Италии, познакомился с организацией национальных и международных союзов книжных продавцов и издателей. Наконец-то у него было вволю времени обсудить с моей бабушкой план издательской деятельности по возвращении в Варшаву.
Через год разрешение было получено. Разумеется, вернулись втроем. Родители – к работе в книжной фирме, Анулька – в свою детскую, которая нуждалась в перестановке мебели, поскольку сюда прибыли новые «жильцы»: изящная парижанка Лили в розовом шелковом платье, тряпичная итальянка Мими и шесть парижских деточек от тети Розы. В одном углу сделана спальня для всех «детей». Для иностранцев и туземцев: Зоей со светлыми косами, Эльжуни с медным лицом, Янтося в залатанных штанах, а также для близнецов в голубых платьицах. В другом углу сооружена кукольная столовая: буфет, стол и стулья; в третьем – кухня с печной трубой, полки с горшками и сервизом, лохань и отжималка. Под окном встал зеленый столик с такого же цвета скамеечкой, где она могла рисовать. У стены – также зеленого цвета шкаф с любимыми книгами: «Стефек Бурчымуха», «Заколдованный Гучо», «Золотая палочка», «По ягоды».

Ханя Морткович, 1910 г.
Я потому с таким удовольствием описываю солнечное детство моей матери, что у меня самой осталось не так-то уж много радужных воспоминаний из того же периода собственной жизни. Довоенного времени я не помню. Об оккупационных переживаниях лучше не вспоминать. С родным домом рассталась так рано, что даже не знаю, как выглядела моя детская, какие у меня были куклы, платья, игрушки. И лишь теперь, заново перечитывая «Анульку», замечаю, впрочем, без всякого сожаления, как сильно детские годы матери отличались от моих. Я всегда завидовала безмятежности ее духа и психической выносливости, однако мне никогда и в голову не приходило, что не только гены, но еще и совершенно не схожие линии судьбы могли так по-разному сформировать наши характеры.
Ее детство было на редкость счастливым. И хоть чары доброй волшебницы длились недолго и вскоре мать ожидали тяжкие, полные драматизма времена, быть может, именно эти счастливые годы, проведенные в любви и спокойствии, зародили в ней оптимизм и радость жизни, которые не оставляли ее при всех личных невзгодах, страхе оккупационных лет и послевоенных трудностях. Измученная бременем ответственности за судьбу всей нашей семьи, а позже тяжело больная, она до конца жизни сохраняла в себе что-то детское. Энтузиазм, способность восхищаться миром, спонтанность, юмор, заразительный смех. Доброжелательную и всегда готовую помочь людям, ее обожали все. Может, именно за счет этой своей детской доверчивости и лучезарности она сумела во время оккупации обрести столько друзей, благодаря которым спаслись бабушка, я и она сама.
Но страшные испытания еще очень далеко. Пока же Анулька рисует даму в платье с узкой талией, коком на голове и зонтиком в руке, а внизу пишет:
Ни один мудрец не сможет выразить в своем ответе
Как я мамочку люблю – больше всех на свете.
Мама спрячет рисунок в шкаф. Потом поместит в книжке про Анульку. И этот кусочек прошлого сохранится. Юлия Горвиц смотрит на девочку с любовью и приговаривает: «Золотая головка, золотое сердце, золотые ручки».

Переориентация
В 1904 году товарищ «Вит», то есть Макс, попросил товарища «Виктора», то есть Юзефа Пилсудского, быть свидетелем у него на свадьбе. Сегодня такое даже трудно себе представить! Будущие – активный член Польской компартии и Глава возрожденного государства… так близки? Ведь уже тогда их пути начали расходиться. В ПСП все заметнее прорисовывался раскол на два течения: правое и левое.
Пилсудский и его сторонники – «старые», которые были «за независимость», считали главной задачей партии пробуждать в обществе дух борьбы и веры в приближающееся народное восстание. К нему надо готовиться исподволь: расширять партийные ряды, создавать кадры военных, добывать оружие и снаряжение, чтобы в нужный момент открыто выступить против захватчиков. «Молодые», а по-другому – «интернационалисты», к которым принадлежал и Макс, напротив, утверждали, что борьба крошечной группки энтузиастов против огромной России обречена – в который раз – на провал. Надежду следует связывать только с мировой революцией. Однако, при всем различии мнений, были возможны дружеские встречи, значит, сильны еще прежние чувства, раз товарищ «Виктор» принял участие в семейном торжестве товарища «Вита». Свадьба справлялась в Кракове. Здесь политическим эмигрантам не возбранялось находиться под своими подлинными именами.

С будущей женой Макс познакомился в Швейцарии. Стефания Геринг – дочь известного экономиста, социолога и социалистического деятеля Зыгмунда Геринга и Хелены Кон. Ее дядя – Феликс Кон, социалист, в последующем член ПКП[52]52
Польская коммунистическая партия.
[Закрыть], а еще позже – член революционного Комитета Польши во время большевистского наступления на Польшу в 1920 году, и сам, естественно, большевик. Стефания родилась прямо на пароходе, плывшем по Енисею: ее мать, сопровождавшая отца в ссылку, попала в Сибирь. Уже один этот драматичный пролог биографии Стефании мог послужить прекрасной рекомендацией в жены революционеру. Молодая женщина изучала экономику и право в Женеве и, прибавьте к этому, – была активной социалистической деятельницей. С Максом ее сблизила политическая работа, которая переросла в любовь. И в скитальческую эмигрантскую жизнь из страны в страну, из города в город.
В 1905 году, в связи с началом революционных беспорядков в России и в Королевстве Польском, Макс нелегально приехал из Кракова в Варшаву как представитель Заграничного комитета ПСП. Революционная горячка ускорила его переход на левые позиции. Именно с его подачи возник двухлетний период драматичных споров в ПСП, закончившийся расколом.
Михал Сокольницкий – член ПСП, ближайший сотрудник Пилсудского, с Горвицем познакомился еще раньше, в 1899 году на партийной конференции в Париже. И предложил ему тогда остановиться у него. В своих воспоминаниях, написанных тридцать семь лет спустя, он так его характеризует: Диалектик-акробат и заядлый спорщик, до исступления поглощенный проблемами борьбы и господства. Готовил себя к великой роли в партии. Чувствуется, он пытался проникнуться к Максу симпатией. Он был скор, проницателен, в мыслях – инициативный, в убеждениях – упорный, и я бы добавил, уверенный в намерениях. Со свойственными мне юношескими устремлениями, исполненными жажды справедливости и уничтожения социальных различий, я какое-то время его идеализировал, видя в нем еврея-поляка – приверженца жертвенности типа Волей и Мейзелсов[53]53
Веер Мейзельс (1798–1870) – раввин, деятель еврейства, соединившегося с польским национально-освободительным движением, поддержал Краковскую революцию 1846 г., повстанческие выступления, призывал еврейский народ принимать участие в патриотических демонстрациях 1861 г. на территории Королевства Польского, откуда был выслан, предварительно пройдя тюремное заключение.
[Закрыть]. И даже его партийная одержимость, казалось мне, вытекает из глубин его оскорбленного расовой ненавистью человеческого достоинства, а в его чисто доктринерской запальчивости я усматривал всего лишь ярко выраженную идейность.

Максимилиан Горвиц, около 1904 г.
На позднейшее охлаждение их отношений повлияла радикальность взглядов Горвица и сопротивление Сокольницкого талмудистскому толкованию принципов, почерпнутых у Маркса. Сокольницкий с ужасом и негодованием описывает время съездов и советов партии в следующие 1905–1907 годы. Говорит, что верх тогда брали не идеи, а борьба за власть, взаимная ненависть и подозрительность, амбиции и тщеславие, лишенное всякого смысла словесное жонглирование и демагогия.

Стефания Горвиц, урожденная Геринг, около 1904 г.
В марте 1905 года на VII съезде партии «молодые» во главе с Горвицем форсировали решение, согласно которому требование независимости Польши отодвигалось на второй план. «Лозунг дня» – под держать революцию в России и требовать от царского правительства большей политической и гражданской автономии. Решение было принято большинством голосов, вопреки протесту Пилсудского и его сторонников. В июне 1905 года на партийном Совете ПСП Горвиц был избран в новый Центральный рабочий комитет левых, а прежнее руководство партии из управления было выведено. В ведении Пилсудского по-прежнему оставалась Боевая дружина – созданная им подпольная армия ПСП, которая вела подготовку массовых и показательных выступлений с оружием в руках, направленных против царских сановников, армии и русской жандармерии, а также участвовала в экспроприации, то есть «эксах», пополняя партийную кассу за счет нападений на банки и понтовые фургоны.
Но и тут пошли конфликты. «Молодые» соглашались с нападениями на явно ненавистных личностей: шпиков, агентов, полицейских, – однако массовые акции, во время которых гибли русские солдаты, рассматривали как нарушение солидарности с русским пролетариатом. Вместо того чтобы найти взаимопонимание, они создали собственную парамилитаристскую организацию, которая стала называться Технико-боевым отрядом. Он обеспечивал охрану во время манифестаций рабочих и проводил «эксы», благодаря чему добывались деньги на собственные партийные нужды.
Именно тогда тринадцатилетняя Маня Бейлин стала свидетельницей странного события, которое описала потом в воспоминаниях. Она часто ночевала у бабушки на Крулевской. Юлия, после переезда Мортковичей, чувствовала себя одинокой в своей огромной квартире, а революционная атмосфера тех лет держала в постоянном напряжении. Камилка, несмотря на свой прежний арест, продолжала заниматься агитаторством и все свободное от больницы время проводила на партийных встречах. Макс, вернувшись в Варшаву, не захотел из соображений конспирации жить на Крулевской. Впрочем, он был сразу же в очередной раз арестован и посажен в X Павильон. Старая женщина опасалась спать одна в большом и пустом доме. И как когда-то ее мать Мириам, стала просить внуков составлять ей компанию.
Чаще всех приходила Маня. Вечера и ночи, проведенные у бабки, позднее ускорили выбор внучкой жизненного пути. Бабушка Юлия интересовалась международной политикой, выписывала три политические газеты, и девушке надлежало прочитать ей перед тем, как пойти спать, самые важные статьи, помещенные в «Journal de Débats», «Berlines Tagesblatt» и «Neue Freie Presse». Потом начиналась дискуссия по текущим и актуальным событиям, которая одновременно становилась школой знаний о мире. Младшая Бейлин довольно скоро превратилась в эксперта по мировой политике и маньяка газет, а через несколько лет, будучи уже во Франции, сама занялась политической журналистикой.
Однажды вечером, когда они спокойно себе рассуждали о положении на русско-японском фронте, в квартире раздался звонок. Прислуга осторожно, не снимая цепочки, приоткрыла двери и, увидав знакомых, быстро впустила их в дом. Одной из них была Стефания, жена Макса, которая тогда работала в Технико-боевом отряде ПСП разносчицей газет, а по-другому «одногорбым верблюдом». Так звали женщин, контрабандой проносивших запрещенную литературу и другие секретные передачи, пряча их под фалдами тогдашней одежды. А бывало что и оружие. Вторая дама Зофья Поснер – «Анна» – жена известного социалистического деятеля Шимона Поснера. На обеих были довольно большие черные пелерины и огромные шляпы, что придавало им весьма романтичный вид. Прежде всего они попросили отпустить прислугу. Потом быстро зашторили все окна и портьеры на дверях. Женщин проводили в самую дальнюю от входа комнату, где те сняли пелерины и велели помочь им снять с себя платья и корсажи. Разоблачившись, развязали холщовые пояса, которыми были опоясаны. Бабушка с внучкой побледнели: под поясами были спрятаны пачки русских денег. Доставая их оттуда, конспираторши пояснили, что они пришли сейчас после нападения партийного боевого отряда на почтовый поезд, перевозивший банковские деньги, – их надо на ночь куда-нибудь спрятать. Утром за ними придут. Снова оделись, накинули черные пелерины, нахлобучили шляпы и ушли, легкомысленно оставив на столе груду пачек с деньгами.
Маня и Юлия трясущимися руками стали складывать их в какие-то сумки, все это убрали на антресоли, спрятав среди старых тряпок и чемоданов. Потом Маня пошла спать, но ее все время будили кошмары: жандармы врываются в дом, обыск, допросы, тюрьма и каторга. Она слышала, как бабушка ходит по квартире, смотрит в окно, прислушивается к дверям. Утром явился молодой «боец». Упаковал деньги в огромный чемодан и ушел. Партийная касса пополнилась деньгами. Очень скоро они пригодились.
Макс тогда уже больше двух месяцев сидел в тюрьме. Времени на размышления было предостаточно. Из них возникла брошюра «Еврейский вопрос», которую опубликовали два года спустя. Думается, его интерес к столь сложной и болезненной проблеме, стремление разрешить ее заслуживает особого внимания. Не с точки зрения главного тезиса, согласно которому капитализм – виновник всех несчастий евреев и неевреев. И что только революция может сделать свободными и счастливыми измученные народные массы. Не гоже сегодня – не fair, издеваться над такими убеждениями. Слишком уж трагично они были пересмотрены историей.
Привлекает внимание искренность, с какой брат моей бабушки признавался в своих комплексах, трактуя их как следствие своего происхождения и тех психических травм, которые были им получены на пути к ассимиляции. Эти проблемы, чувствуется, были ему ведомы не понаслышке, а по личному опыту и наблюдениям за близким окружением. Когда он работал над текстом, ему было двадцать восемь. Давно не юноша-романтик, влюбленный во все польское, простодушно веривший, что достаточно посвятить жизнь борьбе за свободу и справедливость этой страны, и она примет его с распростертыми объятиями. Нет, на собственной шкуре испытал: навсегда ему оставаться нежеланным – пасынком.
В последние десятилетия XIX века, в связи с ростом антисемитской пропаганды, польский патриотизм нередко подменялся национализмом, защищавшим себя якобы от наплыва «этнически чуждых и вредных элементов». Эти хорошо всем знакомые и известные с детства оскорбительные эпитеты, обвинения в мошенничестве, алчности, ханжестве, трусости, жестокости, нетерпимости не могли не ранить душу, исходи они даже не от заклятых антисемитов, а людей, бессмысленно повторяющих услышанные где-то банальности. Сам Болеслав Прусписал в «Еженедельных хрониках»: Еврейство означает не столько происхождение и религию, сколько, скорее, темноту, спесь, сепаратизм, безделье и эксплуатацию.
В общественном мнении, утверждал Макс, неассимилированный еврей, или еврей, не достигший уровня достоинства поляка, был получеловеком. Да и сам он, воспитанный в духе ассимиляции, в ранней юности еще питал иллюзии, что ему удастся избежать судьбы «пархатых», обиженных и униженных, которых подозревали во всех смертных грехах. Рецепт не быть презренным представлялся ему донельзя простым: Еврей, чтобы стать человеком, должен перестать быть евреем и стать… поляком. Оказывается, достаточно совершить лишь двойное предательство. Отречься от неассимилированных собратьев. То есть от собственных корней и своей истории, религии, традиций. Но еще и отказаться от себя самого, своей складывавшейся веками самобытности. Тщательно спрятать свое «я», свою психическую и интеллектуальную инакость, особенности своей культуры, изображать из себя кого-то другого, чтобы во всем поразительно походить на поляка.
Справиться с подобной мимикрией невозможно. Всегда останется чувство стыда. Так кого же имел в виду Макс? Себя? Свою семью? Они стыдились своего происхождения. Разумеется, не отказывались от него там, где об этом хорошо знали. Но и тут старались поступком, словом, жестом быть на высоте и доказать, что они совершенны, то есть в совершенстве ощущают себя поляками и от еврейства избавились тоже совершенно. С эдаким наполовину стыдливым, наполовину горделивым выражением лица принимали они комплименты, которые отпускал по их адресу какой-нибудь действительный поляк, дружески похлопывая их по плечу. «Ты – настоящий поляк, в тебе ни на грош ничего от еврея, если бы я не знал, никогда бы не подумал, что… Всем бы евреям быть такими, как ты! У тебя нет ничего общего с этими мерзкими мошенниками и картавым сбродом!»
С ростом числа полонизированных евреев агрессивнее становился направленный против них антисемитизм. Макс назвал в своей брошюре ассимиляцию еврейской идеологией, сфабрикованной еврейской буржуазией и интеллигенцией. Она не была панацеей от оскорблений. Наоборот. Редактор антисемитской «Роли» Ян Еленьский писал: Если ты еврей – будь им! По мне лучше темный ортодоксальный еврей, чем цивилизованный нуль, ибо первые хоть во что-то верят, чем-то являются, тогда как от вторых не знаешь, чего ждать. Все у этих сторонников безоглядного, подлого утилитаризма – для гешефта: купить – продать. Роман Дмовский[54]54
Роман Дмовский (1864–1939) – один из идеологов националистического движения в Польше.
[Закрыть], публикуя «Мысли современного поляка», утверждал: Неустанно растут сонмы поляков еврейского происхождения, однако, это по большей части низкосортные поляки. Новая польско-еврейская интеллигенция именно в силу своей многочисленности войти так глубоко в польскую среду, как это удалось ранее ассимилированным единицам, просто автоматически не могла. Она создала свою собственную еврейскую среду, с особым душком и отношением к жизни и ее проблемам. При этом она все больше ощущала свои силы и естественный ход вещей, сознательно или бессознательно стремясь навязать польскому обществу личные понятия и притязания.
В 1904 году Горвиц требовал от ПСП вести безоговорочную войну с шовинистической программой Народной Демократии. Не видя ответной реакции, закидал членов партии вопросами: а найдется ли в этой освободившейся отчизне место для евреев и других меньшинств? Что это будет за место? Гражданин другой категории? Пришелец или откровенный враг? Вопросы оставались без ответа. Пилсудский никогда не скрывал, что для него самая главная проблема – независимость Польши. Рассмотрение же других общественных конфликтов – классовых, расовых, национальных, он откладывал на потом. Задетое достоинство рождает бессильную злобу и гнев, агрессию, желание «отыграться», мечту доминировать. Если человек не сумел справиться с пережитым унижением, сам от себя отрекся независимо от того, что говорят о нем другие, неприязнь и обиды станут тем ферментом, который будет искажать его психику и разрушать душу.
Макс, хромая, расхаживал по камере в поисках слов, стараясь обозначить цель для этих униженных. Осознавал ли он парадоксальность своей миссии? Ведь он хотел, чтоб еврейский пролетарий подменил веру в Иегову верой в социализм. Такая вера не нуждалась, как религия его предков, в терпеливом ожидании Обетованной Земли. Надежду обрести утраченное достоинство она давала уже сегодня. И ни в каких рациональных доводах необходимости тоже не было. Достаточно простых заверений: А ведь попасть в общечеловеческую среду можно прямо из еврейства. Евреи-социалисты понесли в массы еврейский факел классового сознания. С талмудистскими стихами на устах: «Кто тебе поможет, если не ты сам?» «Какая ты сила, если отгораживаешься?» и «Когда – если не теперь?» – они шли к еврейскому рабочему и давали ему уроки солидарности и борьбы, учили чувствовать, мыслить и жить. И те подняли опущенные низко головы, расправили согбенные плечи, печальные и потухшие глаза их загорелись новым блеском… Идея борьбы… вдребезги разбивала старый, традиционный образ еврея, который держится на поверхности жизни за счет выносливости плеч и мешанины внешней покорности с неиссякаемой хитростью. Раз и навсегда эта идея положила конец представлениям и предрассудкам об особой еврейской душе… В этом своем действии новый еврей-человек выступал во всем величии и красоте.
Неужто он действительно верил в обетованную землю по-социалистически? Или очень хотел в это верить?
В октябре 1905 года в ответ на известие о начавшихся в Москве и Петербурге волнениях началась всеобщая забастовка по всему Королевству Польскому. 30 октября царь капитулировал, огласив свой знаменитый манифест и обещая России первую в ее истории Конституцию. Это вело к усилению гражданских свобод, а в российской Польше пробудило надежды на полную автономию. Царским манифестом была также объявлена амнистия политическим заключенным. Первого ноября около варшавской тюрьмы в Цитадели, в Ратуше на Павяке, собрались толпы людей с требованием выпустить арестованных. Среди освобожденных тогда был и Макс.
Маня Бейлин описала тот день. Было на редкость тепло и приятно для этого времени года. Во второй половине дня за открытыми окнами их квартиры стал нарастать шум, звуки песни. Удивленные домашние выбежали на балкон и увидали марширующих демонстрантов. Серую и черную толпу. Мужчины в рабочих фуражках, женщины в платках, студенты и гимназисты в своих мундирах несли красные знамена и распевали «Варшавянку»:
Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело.
Знамя великой борьбы всенародной
За лучший мир, за святую свободу.
На бой кровавый, святый и правый,
Марш, марш вперед, рабочий народ!
Гучо воскликнул: «Социалистическая демонстрация!» – и побежал к дверям. За ним сестры – Геня и Маня. «Подождите, я с вами!» – закричала мать, Флора Бейлин, и бросилась за детьми, поспешно снимая шляпу с вешалки и на ходу прикалывая ее к волосам длинными шпильками. Присоединившись к шеренге разгоряченных энтузиазмом людей, все вместе двинулись на Театральную площадь к Ратуше, где находилась префектура русской полиции и предварительное заключение. Здесь демонстранты стали требовать выполнения обещаний царя, освобождения политических заключенных. Ворота Ратуши отворились. Внезапно в толпе сообразили, что вместо «политических» выпустили бандитов и воров. Услышав раздающиеся протесты, конница казаков напала на безоружную толпу, размахивая нагайками и врезаясь саблями в людей, давя их. Это была одна из самых кровавых боен в Варшаве. «Вот как царь выполняет свои обещания!» – кричали в разгоняемой толпе. Бейлиным с трудом удалось выбраться из давки и невредимыми вернуться домой. Маня на всю жизнь запомнила эту картину: лужи крови на земле, люди, истекающие кровью, и, как кровь, алые знамена, передававшиеся ранеными из рук в руки. И мощный крик «Да здравствует свобода!» Чувство братства со всей этой абсолютно чужой, но вдруг ставшей такой родной толпой.
А вот воспоминания Михала Сокольницкого[55]55
Михал Сокольницкий (1880–1967) – политический деятель, историк, составил «Анкарский дневник».
[Закрыть]. Он пишет: Приходится со странным недоумением констатировать, что толпа эта не была польской. Рядом со мной шло сгрудившееся в невероятную массу население Налевок, Генщи и Новолипок, которое, откликаясь на призыв и обещания, двинулось, исполненное солидарности, в центр Варшавы. Повсюду, то здесь, то там можно было увидеть русских, рядам со мной раздавались то еврейская, то русская речь и меньше всего слышался польский язык. <…> Первого ноября Варшава столкнулась с социализмом. Для большинства социалистов, и для меня в там числе, этот день запомнился жутким кошмаром.
Этот же день – как радостный и лучезарный, полный, при всем трагическом исходе, надежд, описала моя бабушка в рассказе «Стахо»: «Люди молниеносно побросали свои занятия, оставили повседневные дела и толпами кинулись на улицу… Но это были, пожалуй, уже не те люди, что еще вчера протискивались бочком как чужие, безучастные, часто равнодушные, а то и враги. Сегодня рядом с ними чужих не было, не было ни слуг, ни хозяев, и различий никаких тоже не было. Для всех – равные права, значит, и обязанности – равные. И люди обращались друг к другу как братья, товарищи, понимали друг друга с полуслова и со всем соглашались, ибо, может, всего лишь раз им и было позволено дышать полной грудью. Главный герой – Стах, то есть десятилетний Гучо Быховский, засыпая, видел во сне, что теперь так будет всегда; люди отныне станут друг другу братья и товарищи; и уже никто никогда никого не обидит… И шептал во сне: „Да здравствует свобода!“»