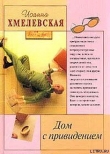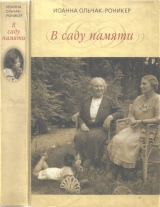
Текст книги "В саду памяти"
Автор книги: Иоанна Ольчак-Роникер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)

Документы военной службы Рышарда Быховского
В апреле 1944 года Рысю стукнуло двадцать два. Он провел день рождения в подготовке к ночному учебному полету, а ночью были вылеты. Но даже в тучах не оставляли мучившие его проблемы.
…Широким эхом отозвалось тут дезертирство евреев из польской армии. Я слышал об этом факте давно, и меня это нисколько не удивило, хотя время и способ решать подобные проблемы невозможно не осудить. Меня в связи с этим вызвал мой командир – ознакомиться с приказом Главнокомандующего и мин. [министерства] национальной обороны – последний о. [очень] специфичный, грозящий м. пр. [между прочим] репрессиями после войны всем семьям дезертиров (бедные семьи, наверное, их и так уж нет в живых!). Конечно, меня это о.[очень] задело: ведь не для того же я объехал пол земного шара и стал добровольцем, чтобы потом дезертировать.
Но больше всего опасаюсь возможных репрессий со стороны сильных лондонских властей в отношении моих родителей и сестер. Все это, однако, не стоит бумаги и чернил. Одному из лучших тут моих друзей я в одной из наших долгих бесед как-то заметил, что иногда задумываюсь, не совершил ли большую глупость, приехав сюда, но прихожу к выводу – нет, этот шаг ошибкой не был. Надо было побывать здесь хотя бы для того, чтоб услышать из его уст, что он благодарен Гитлеру за разрешение еврейского вопроса. Я думаю об этом всерьез, без иронии. Надо было, чтобы в конечном счете у меня раз и навсегда раскрылись глаза. Кроме того, это время нельзя считать, конечно, потерянным еще и потому, что тесте с уроками в быту, которые не отделить от жизни, бомбардируются еще и немцы…
Не хотелось бы, чтобы из высказанных выводов, поверхностных и по природе своей общих, у вас сложилось впечатление, будто я несчастлив, расстроен, мне плохо… Ничто не было бы так далеко от истины. В действительности мне сейчас очень хорошо, я в прекрасном настроении, личное мое житье на редкость замечательное. Этого мне хватило бы с избытком на весь оставшийся век еще несколько лет тому назад…
Густав Быховский все это врем жил самыми тяжкими предчувствиями. После первой катастрофы он умолял сына не возвращаться в действующую армию, по секрету от него пытался что-то предпринять, посылал прошения Генеральному инспектору военных сил и в соответствующие министерства. В последние месяцы с ума сходил от беспокойства. Все возрастающий страх отца заметен в ответах сына.
Father, ту dear! [91]91
Отец, мой дорогой! (англ.).
[Закрыть] Мне жаль, но ты напрасно беспокоишься и теряешь чувство реальности… Подумай! Я не отдельный индивид, а часть страшной военной машины, очередной регистрационный номер в картотеке мировых катаклизмов… Я подчиняюсь правилам и закону, я взял на себя серьезные обязательства… У меня была долгая учебная подготовка, она очень дорого стоила… Ты это себе представляешь? И теперь, в самый разгар развернутых сражений, мне отступить? Вернуться в университет?..
Daddy! [92]92
Папочка (англ.).
[Закрыть] Не надо вмешиваться! Пойми, я один из миллиона, участвующих в этой войне. Нам и так повезло больше, чем другим. Терлецкий на собрании Пен клуба сообщил, что получил из страны известие, будто бы Ханка убита… Весь наги народ уничтожен…
Daddy, dears! Войне скоро конец. Поверь мне…
18 апреля Дивизион Мазовецких земель № 303 начал свои воздушные бои. Рысь был штурманом одного из ланкастеров. Последнее сохранившееся письмо домой он написал месяц спустя – 17 мая:
Как вы знаете из газет, это был месяц сильнейших авиационных налетов за всю историю. Каждую ночь мы побивали рекорд предыдущей, сбрасывая астрономическое число бомб. Должен признаться, удовольствие, когда внизу полыхает немецкий город, – безумное. Хочется вам об этом написать поподробнее, да не могу – нельзя. Во всяком случае, впечатления так необычны, картина столь нереальна и фантастична, что по временам кажется, будто это – огромный театр сумасшедших, и человек с удивлением спрашивает себя самого: а что, собственно говоря, здесь делаю я? В работу эту я втянулся, и пока у меня одни из лучших результатов во всем дивизионе – за два последних вылета меня наградили «Exceptionalz good». Я тут числюсь на одном из первых мест среди лучших штурманов. Экипажу меня отличный. Оборонительные силы слабеют и себя исчерпывают по мере того, как силы нашего наступления прибывают. Я уверен, что еще немного, и наше превосходство в небе будет повсеместным – как их в сентябре 1939-го. Вот тогда и закончится война. Из известных вам целей, о которых читали, наверное, в газетах, я побывал над Кологной, Дюссельдорфом, Карлсруэ. Будучи в Лондоне, получил обе посылки, за что вам очень благодарен. При случае не забудьте про легкие кальсоны, поскольку все сносил, остались одни толстые…
В ту майскую ночь в небе, на высоте пяти тысяч метров, бушевала страшная снежная буря. Дивизион ланкастеров возвращался из полета на Дортмунд. Над Фризийскими островами бомбардировщик Рыся оказался под обстрелом немецких зениток. После нескольких попаданий отказал двигатель. У экипажа оставался выбор: совершить посадку, но попасть в плен, или дотянуть до Англии. Верх взяло второе решение. Рысь вел самолет вслепую, поскольку навигационные приборы вышли из строя. Покружившись над аэродромом, зашли прямо на runway[93]93
Взлетно-посадочная полоса (англ.).
[Закрыть], и уже когда выпустили шасси, из строя вышел второй двигатель. Машину подбросило. Как Рысь ни старался, удержать машину ему не удалось, и они рухнули на бойницу. Самолет развалился пополам. Через минуту раздался взрыв. Четверо успели выскочить и остались в живых. Трое сгорели. В том числе и Рысь, который к тому же еще, по-видимому, пытался спасти документы самолета.
Официальное сообщение RAF – ROYAL AIR FORCES[94]94
КВС – КОРОЛЕВСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ (англ.).
[Закрыть] гласило: «F/Sgt Richard Bychowski killed in action May 22, 1944»[95]95
Старший сержант Рышард Быховский погиб в бою 22 мая 1944 г. (англ.).
[Закрыть]. Рыся похоронили на кладбище польских летчиков в Ньюарке под Лондоном вместе с двумя его коллегами из экипажа. Над его могилой прочитал молитву полковой раввин польских войск. Честь отдал и участвовавший в церемонии похорон войсковой католический священник.
Представительством польских евреев в Нью-Йорк Густаву Быховскому было отправлено письмо с выражением соболезнования:
Уважаемый господин профессор!
Мы глубоко скорбим по случаю гибели Вашего сына б. [блаженной] п. [памяти] Рышарда Яна Быховского, который пал смертью летчика. И выражаем Вам наше искреннее сочувствие.
Смерть Вашего сына, бесстрашного героя-летчика польской армии, который на небесных просторах вел бой с врагом человечества, цивилизации, с палачами нашего страдающего Народа, – облачает в траур все польское еврейство. Память о нем в истории нашего народа сохранит его светлое имя рядом с именами тех героев-сыновей польских евреев, кто с оружием в руках выступил против наших поработителей и отомстил за смерть невинных мучеников.
В Вашем сыне, благородном воине, воплотилось все самое лучшее в польском еврействе: любовь к свободе, самоотверженность, честь, героизм. Он отдал свою молодую жизнь за освобождение человечества, Польши и польских евреев из ярма рабства, за святые права демократии.
Пусть сознание исполненной им великой миссии и высоты его героических поступков принесет облегчение Вашему безмерно страдающему отцовскому сердцу.

Эпилог
Бабушка и мать в Варшаву уже не вернулись. До конца жизни так и остались в Кракове, в Доме писателей, где пришлось опять налаживать быт. И, будто Феникс из пепла, также заново возникло издательство Мортковича, правда, всего на несколько лет. Но успели выйти в серии «Под знаком поэтов» серенький и пока еще дешевенький томик стихов «Мертвая погода» Леопольда Стаффа и «Век поражений» Антони Слонимского, несколько книг для детей, почтовые открытки из серии «Польская живопись», напечатанные по уцелевшим клише, были и другие книги. А потом власти Народной Польши начали топить частное предпринимательство, и фирму ликвидировали. Вот тогда бабушка обратилась к переводам, а мать стала писать.

После войны. Ханна Морткович-Ольчак и Янина Морткович в Кракове
В устроенной по-коммунальному квартире на Крупничей в очередной раз возрождался дом. На стены, вместо оригинальных картин, повесили репродукции. К бездарной мебели, полученной от Союза писателей из какой-то немецкой гостиницы, прибавилась пара бидермейеров, приобретенных в комиссионном магазине у сребристоволосой Зоси Крудовской. На полках с изданиями Мортковича, выкупавшимися в антиквариатах, встало любимое бабушкой кобальтовое стекло. Не легко было в неуютных комнатах воссоздавать атмосферу изысканного эстетства, столь характерную для внутреннего убранства довоенного времени. И, однако же, удавалось.
Старые и новые знакомые летели к этому дому, точно мухи на мед. Он был открыт для всех, и каждый, в зависимости от потребностей, получал искомое: кого выслушают и накормят, кого утешат и развеселят, а понадобится – деньгами снабдят. Люди, еще не пришедшие в себя от ужасов войны, но уже втянутые в безумие новой системы, именно тут, где проживали две одинокие женщины, ощущали себя в безопасности, здесь царило бескорыстное внимание, а главное – отстраненное отношение к действительности и всегда, по выражению бабки, беседа «на уровне» – без всяких жалоб.
Не знаю, откуда у них бралось на все это время. Обе много работали, при этом не пропускали театральные премьеры, выставки, музеи, кино. Читали новые издания и литературные журналы, вели живую светскую жизнь, устраивали скромные ужины для друзей. Регулярно бывали в парикмахерской, у маникюрши, портных – их посещение считалось настолько обязательным, что даже болезнь не освобождала от этого. Но что импонирует мне сегодня больше всего, вели огромную переписку с друзьями, которых все прибывало, но прежде всего – с рассеянной по всему миру родней. Дня не проходило без письма из Парижа, Нью-Йорка, Варшавы. И на них отправлялись подробные ответы из Кракова.
Поначалу письма были полны отчаянных воплей: Где Иоася? Где Павелек? Бабка отвечала: Иоася нашлась! Гучо! Вместе с тобой скорбим по поводу утраты Рыся! Маня Бейлин сообщала из Парижа, что Павелек жив. Он находится в военном госпитале Алессано в Италии, куда его направили поправлять здоровье. Мать информировала американских родственников об оккупационных судьбах варшавской родни: Каролю схватили, арестовали и несколько месяцев продержали в тюрьме. Ей чудом удалось бежать в первый день уничтожения гетто, когда всех вывозили в газовые камеры.
Как приятно звучит это многоголосие из-за границы! Марта Оснос – из Нью-Йорка: Плачем от счастья, что вы живы. Чем можем вам помочь? Все крепко целуют Иоасю. А сильней всех Роберт.
Бабушка – из Кракова: Марточка, дорогая моя! <…> Если можете нам помочь, то прежде всего – одеждой. У нас нет никаких теплых вещей, свитеров, шерстяного. Нужно нижнее белье, чулки, перчатки, шляпы и сумки… Обувь и теплые вещи для Иоаси – безусловно. PS. Иоася продолжает верить, что они с Робертом поженятся.
Маня Бейлин – из Парижа: Павелек посещает школу в Алессано. У мальчиков питание, как у английских офицеров, а кроме того, ежедневная плитка шоколада и 60 лир на мелкие расходы… В течение полугода они проходят целый класс, ведь до того, как его вывезли в Германию, у него было лишь свидетельство об окончании гимназии, а значит, к концу февраля у него будет уже свидетельство об окончании лицея.
Густав Быховский – из Нью-Йорка: Моничка славная и добрая. Если б не она, не пережил бы утраты Рыся.
Мать – из Кракова: Не знаю кого – Марту или Марылю – благодарить за костюм в серую клетку и за черную трикотажную кофточку… Все мне теперь идет, когда не вешу и пятидесяти кило.

Из России вернулись в Варшаву Камилла Канцевич с Янеком. Следом – Стась Бельский с Галинкой. Из Парижа приехал Павел Бейлин. Жизнь обретала равновесие. В письмах теперь больше сообщалось о мелких происшествиях – повседневных и частных. Маня в Париже беспокоилась за своего Пьера. Он столько пережил – детство в России, война во Франции, а там – сопротивление и участие в maquis[96]96
Маки (франц.) – так англичане называли французское Сопротивление.
[Закрыть] и теперь он выглядит со странностями: замкнутый, предпочел иметь дело не с людьми, а с животными. Марта из Нью-Йорка жаловалась на Питера: учиться не хочет, читает одни комиксы, невоспитан, не понятно, что из него получится. Время шло. Павел учился в Институте по научным кадрам. Янек Канцевич закончил Исторический факультет Варшавского университета, женился на Белле. Роберт Оснос – студент-медик в Колумбийском университете, Пьер Пфеффер – на естественном факультете Сорбонны. Питер Оснос сдал на отлично экзамены в элитную гимназию по музыке и искусству. Моника закончила Гарвардский колледж и стала учиться на психологическом отделении университета в Нью-Йорке. Каждое письмо дышало неизменной любовью и тоской, желанием быть в курсе событий, просьбой о встрече.
Я не писала никому. Была вне этой общности. Не дан мне был доступ в тот край памяти, откуда бабка с матерью черпали силы для жизни. Нежелание, с которым я пресекала всякие попытки вовлечь меня в круг родственников, драпировали, как я теперь понимаю, ревность и злость. Кому какое дело до чужого утраченного рая?
Роберт получил медицинское образование, женился на Наоми. Моника, доктор психологии, вышла замуж за студента, с которым училась, – Дугласа Холмса. Павел Бейлин – известный публицист – познакомился в Гдыни со студенткой медицины Агнешкой. Их бракосочетание проходило в Варшаве. Галинка Бельская – студентка Варшавской политехники – вышла замуж за учившегося вместе с ней Сташека Левандовского. Стали появляться дети. В течение нескольких лет в Краков приходили фотоснимки очередного потомства. А у меня в Варшаве своя жизнь, и не больно меня все это интересовало. Время с нарастающей скоростью увеличивало географию расстояний не только между Краковом и Нью-Йорком, но и между Краковом и Варшавой. Все реже нас навещали родственники. Бабушка уже не выходила из дома. Не без признательности вижу теперь, сколько сил понадобилось, чтобы не разорвалась расползавшаяся паутина прежних связей.
Бабушка умерла в 1968 году. После ее смерти ликвидировали квартиру на Крупничей. Особо ценных вещей тут не было. Но из всех ящиков ясеневого комода и секретера посыпалось несметное количество писем, почтовых открыток, уведомлений о свадьбах, детские рисунки, фотографии, вырезки из газет, где речь шла о родственниках. Пьер Пфеффер начал работать в Институте естественной истории в Париже, побывал в диких странах, опубликовал у Фламмариона две книги: «Bivouas à Bornéo» и «Aux îles du dragon»[97]97
Обе книги переведены на русский язык: Пфеффер Пьер. Бивуаки на Борнео. М.: Мысль, 1964; На островах дракона. М., 1964.
[Закрыть] Маня присылала французские рецензии на его работы. Питер Оснос был направлен в Советский Союз корреспондентом «Вашингтон пост». Марта Оснос присылала нам его статьи. Ничего не выброшено. Ни театральные рецензии Кароли Бейлин, ни кинорецензии Стефы Бейлин, ни очерки Павла Бейлина.
Я купила две огромные плетеные корзины и сложила туда все, не разбирая и не заглядывая. Мой дом умирал во второй раз. Умиляться старым бумагам я просто была не в состоянии.
В течение многих лет эти корзины преданно сопровождали меня в моей кочевой жизни, вместе со мной время от времени сменяя адрес. Мешали мне, раздражали, занимали место. Я в них не заглядывала. Меня не посещали чувства наследницы, которая получила дар, сотканный из чужих привязанностей, сожалений и тоски. После смерти матери я все реже общалась с родственниками. При каждой встрече произносилась одна и та же сакраментальная фраза: хорошо бы написать историю нашей большой семьи. А я здесь при чем?
Сегодня я понимаю, что тогда еще слишком близко была Катастрофа, которая своей тенью заслонила множество, безусловно, важных, но вдруг оторвавшихся в прошлое проблем. В сравнении с пережитым, допотопные воспоминания представлялись совсем уж мизерными. А ведь и старые времена состояли не из одних только ярких событий, скорее, и это прежде всего, из таких же и не менее трудных преодолений и болезненных драм. Нелегко, выходит, вырабатывается своя точка зрения на то, что ушло. Бабушка незадолго до смерти начала писать воспоминания, однако довела их только до замужества. Мать свои закончить так и не успела, остались отрывки задуманной ею книги. Самые старшие члены семьи, которые помнили все и больше всех, откладывали эту задачу на потом. У нынешнего времени, которое подсовывает новые, а нередко и не менее драматичные сюжеты, свои обязательства. А тут еще коммунистические годы с необходимой в тот период автоцензурой. Инстинкт самосохранения запрещал останавливаться, возвращаться мысленно назад: иди вперед, не оглядываясь.
Наверное, и бабке, и матери мешало закончить воспоминания их неопределенное отношение к своему происхождению. Всю жизнь они подчеркивали свойственную им польскость и не хотели, а может, и не умели, назвать подлинным именем житейские и психологические проблемы, вытекавшие из еврейского детства. Взявшись писать о прошлом, они неминуемо должны были бы соотнести его с этим фактом. Похоже, час еще не настал. Перенесенные ими во время оккупации унижения потрясли их, наверное, гораздо больше, чем страх смерти. Но заговорить об этом они были не в силах.
После смерти моего отца его вдова Мария Ольчак передала мне папку, обнаруженную в его архиве. В папке, среди прочих документов, лежало составленное когда-то, теперь уже на пожелтевшей бумаге, завещание тех оккупационных лет. Точно письмо с того света. Лишь тут дошел до меня талмудистский призыв: «Если не ты, то кто? Если не сейчас, то когда?»
Янек Канцевич, обладая фотографической памятью, рассказал мне о судьбах тех членов нашей семьи, кто в межвоенном двадцатилетии уехал в Советский Союз. Марек Бейлин, сын Павла, предоставил семейные архивы, сохраненные его тетками: Каролиной и Стефанией. В моем распоряжении были еще и воспоминания Мани Бейлин. Но отсутствовало столько нитий. Нет связи с американскими кузинами и кузенами. Можно бы им написать. Да ответят ли?

Осенью 1998 года в Краков позвонила Моника Быховская-Холмс. Она была проездом в Лондон. Сказала, что приедет в Варшаву на два дня. Может, нам увидеться? Свалилась на меня, как с неба. Мы встретились в Европейской гостинице. Во время беседы я чувствовала, как тает во мне многолетний ледник Мы не могли друг от друга оторваться. Подружка Моники Лиза Апигнанеси остолбенело наблюдала, как мы часами сидим в гостиничном барчике, перебивая друг друга и выкрикивая экзотические имена: Гизелла, Флора, Генриетта, пытаясь восстановить на клочках бумаги генеалогическое древо, смеемся и плачем. Неожиданно обнаружилось, как много нас связывает. Общие интересы, любовь к одним и тем же книгам и фильмам, одинаковое чувство юмора, тяга к недавно открытой семейной истории. После этой варшавской встречи мы поняли, что жить друг без друга не можем.
Между нашими бабками неустанно кружили почтовые открытки и письма, а между нами бесценным посредником стал имейл. Мы почти ежедневно делились друг с другом важнейшими и незначительными событиями: как продвигается ремонт в моей кухне в Кракове и – в ее деревенском доме в Коннектикуте. Об обручении ее дочери Памелы с Борисом. И о жизненных планах моей дочери Каси. О театральных премьерах в Лондоне. В Кракове и Варшаве. О пишущемся мной семейном романе. Благодаря ей созрело важное решение: Роберт и Питер Осносы приглашают меня в Нью-Йорк Моника – к себе. Там они поделятся со мной тем, что помнят. Покажут письма, документы, фотографии.

В апреле 1999 года я приземлилась в аэропорту JFK[98]98
Имени Джона Кеннеди (англ.).
[Закрыть] и началась потрясающая неделя. Сегодняшняя реальность моих американских родственников – богатая, колоритная, полная жизни, покоилась на истлевшем, туманном и неясном прошлом наших родителей, дедушек и бабушек В прогулках по городу, в музеях и разговорах за вином исчезали временные и пространственные границы, кружась между тем и этим светом – Манхэттеном и Аидом.
Самое изумительное в этой поездке – встреча с судьбой Рыся Быховского. Огромный архив, который Моника со всем возможным пиететом хранит у себя, содержит бесценные документы, запечатлевшие три года его жизни, проведенной на Западе. Использовать удалось, к сожалению, лишь небольшую часть.
Тогда же мне рассказала Моника, и что ей пришлось пережить во время бегства из бомбардируемой Варшавы. Ей было всего два года, когда ее увезли, и, стало быть, запомнить она ничего не смогла, кроме неясных обрывков, не будь разговоров с родителями, которые постоянно возвращались к этой жуткой истории.
В деревенском доме Роберта Осноса под Нью-Йорком сладко пели птицы, его жена Наоми делала салат. Мы сидели на террасе, глядя на зеленые горы, я включила магнитофон, и… маленький мальчик выбежал с криком на пылающую варшавскую Твардую, зовя: «Мама!»
В кабинете Питера Осноса висят фотографии, на которых он снят с преемником английского трона принцем Карлом, с Горбачевым, Хрущевым, Клинтоном. У всех них он брал интервью, был блестящим журналистом. Позже работал в известном издательстве «Рандом Хаос». Ныне решил отказаться от яркой карьеры журналиста и обеспеченного места. Основал собственное маленькое издательство. Риск, конечно, но ему хочется показать, на что он способен. Кому показать – себе? Своим близким? Миру? Предкам с того света? Невольно думаешь: откуда этот внутренний императив, который по очереди каждому из нас отравлял жизнь: «Ты должен кем-то стать! Доказать, на что способен!» Чьи же это гены теребят нас все время?
Роберт сделал мне бесценный подарок – письма моей матери к его матери и Быховским, писавшиеся после 1945 года и до самой их смерти. Не выбросил, благодаря чему сегодня я могу их цитировать, приводить из них отрывки, поражаясь величию любви, которая связывала между собой предыдущее поколение. В антрактах балетных спектаклей, на которые меня водил Роберт, в музеях, куда мы ходили с Моникой, в Чайнтауне или итальянских кафе – везде мы вели разговоры о памяти. Для чего мы чурались воспоминаний наших родителей? Зачем заглушали собственные воспоминания? Почему порвалась связь, которая так мощно держала нас – детей? А то, что в течение стольких лет и не пытались ее восстановить? Не без изумления, но с легким недоверием следили мы за тем, как возрождается между нами былая близость.
Через год после моего посещения Нью-Йорка, в мае 2000 года, Моника и Роберт прилетели в Краков. Возник повод расширить встречу и собрать всех варшавских родственников. Целым событием стал приезд из Москвы Пети – сына Макса. Мы разложили на столе семейные фотографии. Вместе рассматривали снимки его отца – молодой пламенный революционер и рядом – уже старый, измученный, смертельно расстроенный человек перед лицом собственной катастрофы. Рисовали новые побеги общего генеалогического древа. Его ветви – это Лена, Максим, Сергей, Аня, Таня. У меня – Катажина, потом Мария.

Сидят слева: Сергей Валецкий, Мария Веймейр, Михал Роникер; второй ряд: Катажина Циммерер, Иоанна Ольчак-Роникер, Мотка Быховская-Холмс; стоят: Петр Валецкий, Ян Канцевич и Роберт Оснос.

Слева: Памела Холмс, Таня Валецкая, Ася Соколовская, Мария Веймейер, Марта Хоффман. Тоскана, 2001 г.
Следующим этапом во все набирающей силы истории нашей семьи стала поездка в Тоскану. Идея принадлежала Монике Быховской-Холмс, соучредителями стали Роберт Оснос и Максим Валецкий. В апреле 2000 года, накануне пасхальных праздников, мы пустились в путь. Из Варшавы. Из Кракова. Из Нью-Йорка. Из Сан-Франциско. Из Москвы. Из Бостона. И даже из Стокгольма, где на какой-то конференции была Дебора, дочь Моники. Когда мы прибыли на место, оказалось, что из двадцати шести человек, откликнувшихся на наш призыв, двадцать – потомки Юлии и Густава. И тогда Дуглас Холмс, муж Моники, один из инициаторов встречи, когда все мы уже сидели за столом с приготовленными им для нас макаронами, поднял первый тост в честь этой четы – сына венского раввина и дочери варшавского купца.
– Просто чудо, – сказал он, – что после двух мировых войн, стольких исторических и жизненных перипетий за этим столом собрались представители пяти из девяти их детей. Мы переглянулись. В самом деле.
Самую старшую – энергичную и деловую Флору, представлял правнук Марек Бейлин – сотрудник «Газеты Выборчей».
Покладистую и меланхоличную Гизеллу – двое внуков: Роберт и Моника, четверо правнучек: Гвин – экономистка, Жан – юристка, Дебора – тоже юристка, Памела – студентка, изучающая медицину, и праправнук – четырехлетний Эли.
Янину представляет внучка, то есть я, Иоанна, правнучка Катажина – журналистка и переводчица, и праправнучка шестнадцатилетняя Мария.
Максимилиана Горвица – российско-американская группа из пяти человек. Из Москвы прилетел его сын Петр Максимилианович – химик, его дочь и внучка Максимилиана Лена – бизнесмен, из Сан-Франциско – внук Максимилиана Максим – бизнесмен и две правнучки: двадцатилетняя Аня – дочь Лены и четырнадцатилетняя Таня – дочь Максима.
Самую младшую сестру – Камиллу – представляла внучка Нина – сотрудница Варшавского университета, и трое правнуков: Петр – работавший в сфере информатики, биолог Мария и семнадцатилетняя Ася.
Не было пятнадцати человек (и это не считая потомков Розы, с которыми ни у кого из нас нет никаких контактов). Прежде всего – старейшины рода – Янека Канцевича, а также Пьера Пфеффера – из Парижа, которого не удалось уговорить приехать на этот съезд. Не назвать всех отсутствующих. Но и без них в тосканской столовой царила кутерьма, к которой шесть супружеских пар приглядывались не без любопытства. Не буду пересказывать разговоров, которые велись за столом сразу на пяти языках и до поздней ночи. Не скажу, и сколько выпили кьяньти – некоторые из нас виделись друг с другом впервые. Сразу и не сообразишь, кто из нас к какому поколению принадлежит. А какой взять тон? Серьезный или шутливо-комичный? И как в данной ситуации сломить собственную настороженность: позволить себе растрогаться или лучше держать себя в руках? К счастью, спасло наше природное чувство юмора. Два дня, в течение которых проходил процесс сближения, стали опытом трудным и слишком сложным, не поддающимся простому рассказу: тут парой фраз не отделаешься. Но на одном событии мне хочется все же остановиться.
Как-то вечером Роберт Оснос по случаю своего семидесятилетия устроил праздничный ужин и как психиатр предложил нам разыграть нечто вроде спектакля – довольно рискованного психологически. Пусть каждый из присутствующих скажет несколько слов о себе. Поначалу все растерялись – от удивления. А потом стали по очереди говорить. Первой от волнения расплакалась моя дочь Кася. За ней Моника. А потом все – кто не стесняясь этого, кто незаметно от других – стали утирать слезы. В этом была какая-то мистика: словно бы здесь и сейчас мы давали отчет о нашей жизни не только перед собравшимися за столом, но и перед нашими общими предками.
Моя внучка Мария, когда подошла ее очередь, свою речь начала с благодарности жизни, в которой есть место радостным сюрпризам – она для себя открыла столь большую и неизвестную доселе родню. Еще совсем недавно мир представлялся ей чужим и огромным. Но теперь она чувствует себя в полной безопасности. Как дома. Ибо отныне знает, что в странах, даже таких далеких, как Россия и Америка, у нее много близких.
Самые большие овации вызвало выступление Пети. Он сказал, что считает нашу встречу великой победой судьбы. Две дьявольские силы присягнули нас уничтожить. Немецкий тоталитаризм умерщвлял, советский убивал и уничтожал, отнимая у нас связи. Он не только лишал достоинства и чувства безопасности, но и сознания принадлежности к определенному обществу, своей традиции, собственной тождественности. Человека лишили корней, отобрали память, привязанности, ценности, которые передаются из поколения в поколение, чтобы он не знал, зачем живет и что может передать своим детям. Нам повезло, мы преодолели все преграды и обрели друг друга, а значит, и свое общее прошлое, которое поможет нам лучше понять, кто мы и чего хотим.
И в заключение попросил выпить за самого молодого члена семьи – своего внука и сына Сергея Леона. Мы выпили за него и за всех детей: да здравствуют Леон из Москвы; Сэм, Йонах, Эли – из Нью-Йорка, Нильс – из Риги.
– Всё! – вскричала зычным голосом моя прабабка Юлия. Она терпеть не может излияний чувств и пафоса. В голубую игровую, где на стене висит портрет венского раввина, а в углу в шкафу за стеклянными дверцами стоят собрания сочинений польских поэтов, она зовет мужа, детей, зятьев, сыновей и внуков, чтобы всем вместе подумать над финалом повествования. Ну вот, все сейчас соберутся и из-за мелочей переругаются. Рыжеволосая Генриетта обидится, что я забыла про Маргулисов, добрая Роза расстроится, что так мало о ее сыновьях. Бабка из педагогических соображений ткнет меня в пару ошибок, а мать бросится защищать. Начнут требовать: исправь оплошность, проставь дату, подчеркни то, дополни это. Но почему-то мне кажется, что мои предки довольны тем, что получилось. Больше всего на свете они ценили семейные узы. Я кинулась на поиски исчезнувших следов, а обрела подлинные чувства. Взывала к Теням, а откликнулись Живые.
Мы все снова в Саду памяти.