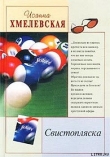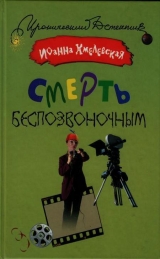
Текст книги "Смерть беспозвоночным"
Автор книги: Иоанна Хмелевская
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
Домой возвращалась не торопясь, стараясь немного упорядочить хаос, царящий в голове.
Папочка Эвы метал на Поренча громы и молнии – это хорошо. Поренч его объегорил – это и вовсе замечательно! И отсюда следовал вывод, который напрашивался с самого начала: образовалось товарищество Поренч–Яворский, сеющее слухи и поливающее грязью честных людей. Я тоже стала их жертвой, с той только разницей, что меня как раз Эвин папочка никоим образом не касался. И мне не было необходимости бежать на край света.
Попыталась собраться с мыслями, и тут сообразила, что Гурскому я все‑таки не все рассказала, и даже то, о чем сообщила, получилось у меня как‑то неубедительно и сумбурно. Он меня словом не попрекнул – должно быть, сам пытался упорядочить мой сумбур. Но он не говорил с пани Вишневской, а ведь я главное узнала от нее, вернее, почувствовала, сопоставила и сделала выводы. Главное же во всем моем заключении – драгоценный папочка спятил, нет, зациклился на почве дочери. Дочь принадлежит ему, она его собственность, не имеет права жить своей жизнью, должна слепо подчиняться ему – так же, как жена. Так по какому праву она проявляет такую самостоятельность, убегает от него и живет, как вздумается, занимается тем, чем хочет, и даже осмеливается добиваться каких‑то там успехов? Без него?!
Эва, дочь, которая не пожелала быть сыном. И совсем другая: оказалось, она ни в чем на него не похожа, ктому же излишне самостоятельна. Он хотел, чтобы она во всем от него зависела, повиновалась всем его приказам. А она осмелилась ослушаться! А вдруг ей бы какую золотую медаль дали? Он бы наверняка считал это своей заслугой, и получалось бы – ему дали, не ей!
Тут появляется Поренч, сразу понимает, с кем имеет дело, и успокаивает папочку: взбунтовавшаяся дочка не сама добилась успехов, она ведь ноль без палочки, тут папочка прав, но ей помогли всякие такие прохиндеи на телевидении, которые ловят таких простаков и используют в своих целях. Они и последнюю дурочку способны вознести на невиданные высоты, у них связи и возможности, любое дерьмо так преподнесут почтеннейшей публике, словно это бесценное сокровище, из идиотки звезду сделать – им раз плюнуть. Нет, для этого вовсе не обязательно затащить ее к себе в постель, им бы деньжат побольше огрести. Вот и из вашей Эвы – объявят ее открытием года и – выдоят все, что у нее за душой. Разрекламируют, растрезвонят, глупая публика послушно проглотит все, что ей преподнесут. Реклама, как известно, Двигатель торговли.
И этот жлоб, этот папочка громогласный поверил всему, что наплел лучший друг Флорианчик. Нет, так он этого дела не оставит, он покажет негодяйке, где ее место, и растолкует, что она сама по себе – ничтожество, о которое он может ноги вытирать. Только надо устранить всех этих ненужных покровителей. Ишь, и ей голову задурили, а главное, ему от этого – ни гроша медного.
Мог ли Поренч убедить кретина в том, что к вознесению Эвы причастен и Вайхенманн? А почему нет? Ведь ему нужна была знаменитость – небось сколько раз трепал эту фамилию, распаляя папочку. А Држончек? И его приплел. Теперь он тянет Эву на пьедестал, папочка слушает и багровеет, и Заморский, тот вообще Эвой завладел, она его как собачонка слушает. Вот не представляю, каким чудом можно убедить человека поверить в такие бредни, увидеть в так называемом творчестве Заморского хотя бы след Эвиного участия… Впрочем, такой ослепленный ненавистью болван во что угодно охотно поверит, если это в одной струе с его психозом.
До сих пор получается у меня вроде бы логично. Но вот дошли до Поренча, его роль, его доля участия в травле…
Дышинский и Язьгелло. Совместными усилиями они развенчали бред, который наворотил Поренч. Они понимали и другим разъяснили, что так называемые великие режиссеры–постановщики – бездарные недоноски, за душой ни капли таланта, а лишь безумная жажда обогащения, когда попирается и совесть, и даже здравый смысл. Они не помогают писателям – напротив, они их губят. Разрушают творческую атмосферу, загоняют писателя в угол, и, если он слабый и не с кем посоветоваться, затопчут, загрызут, убедят, что он – ничтожество, а без них и вообще пропадет. Вот папаша и кумекает: выходит, драгоценный Флорианчик всю дорогу катил бочку на Эву, наплел с три короба насчет помощи могущественных воротил телевидения, устраняя чужими руками своих собственных конкурентов. Папаша пришел в ярость и решил отомстить. Уж себя, любимого, никому не позволит обижать!
Вроде бы все складывается логично, но ведет к однозначному выводу: Поренча пришил папочка.
К выводу я пришла, остановившись на красный у очень сложного перекрестка – Аллеи Неподлеглости и Вилановской.
Стоп! Это я и машине, и себе. Машина послушно замерла, а я, наоборот, помчалась в своих рассуждениях дальше. Невозможно! Не мог он убить! Убийство врага всегда предполагает разрядку ненависти к нему. Убив, можно радоваться победе над поверженным противником, наслаждаться тем, как ты сумел собственной рукой уничтожить ненавистного подлеца. Злоба и ненависть исчезают, сменяясь торжеством и радостью – теперь он уже не станет пудрить ему мозги, и не надо думать, как уничтожить этого мерзавца: изрешетить пулями или изрубить на куски! О, вот откуда эти «куски»…
Пани Вишневская – просто бесценный источник информации.
И все же мне удалось взять себя в руки и свернуть в нужную улицу, а не умчаться в синюю даль…
* * *
Петр Петер распахнул перед Гурским дверь квартиры, не спрашивая: «Кто там?» Он ждал сиделку и был уверен – наконец, пришла.
Гурский первым делом извинился, что пришел без предупреждения – так получилось. Поздоровался и опять стал извиняться.
– Вы уж извините, приход полиции всегда не очень‑то приятен, а тут я даже не сумел вас предупредить. Знаю, у вас сейчас неприятности в семье, а тут еще я, но, поверьте, это очень важно. Мне срочно надо с вами поговорить, и я очень рассчитываю на вашу помощь.
Петрик сначала онемел и даже струхнул, а потом взял себя в руки и впустил полицейского без лишних слов.
– Все о'кей, не стоит извинений. Вот–вот придет сиделка, мы уже договорились с медсестрой, а операцию мама перенесла хорошо, теперь надо оправиться после нее. На всякий случай мы не хотели бы ее на ночь оставлять одну и без медицинской опеки…
Мама Петра Петера проживала не в замке, а в обычной варшавской квартире, так что она прекрасно слышала, что к ее мальчику пришел полицейский, и сочла своим долгом вмешаться:
– Да со мной все в порядке, обо мне не беспокойтесь. Петрик, отведи этого пана в другую комнату и поговорите там спокойно. Только двери оставьте открытыми, я позову, если что… Хуже всего с питьем, вот, хочется пить, а врачи не разрешают. Да ничего, уж потерплю. Ага, вот еще что. Не забудь показать пану полицейскому ту вещь – ведь сам говорил, что надо бы ее в полицию снести, а тут полиция сама к нам пришла…
– Мамуленька, ты бы вздремнула, – ласково предложил сын, поправил постель больной и увел полицейского в другую комнату, побольше, которая показалась Гурскому какой‑то очень пестрой от обилия разложенных по всей мебели мотков разноцветной шерсти. – Черт бы их всех побрал! – неожиданно рявкнул парень, так что следователь, уже готовясь присесть к столу, вздрогнул.
– А в чем дело? – вежливо поинтересовался он.
Жестом пригласив его сесть, Петр и сам опустился на стул, тяжело вздохнул и подпер подбородок руками, опершись локтями о стол.
– Так ведь я хотел рассказать вам об этом как‑то дипломатично, не сразу, а может, и вообще не говорить, – попытался объяснить Петрик свое неуместное восклицание. – Ведь с полицией никогда не известно, что она преподнесет человеку. А родная мать сразу—из тяжелого орудия… ну да ладно, начинайте вы, вам положено.
Гурский тоже присел к столу и начал снимать показания.
– Да я в основном из‑за Яворчика. Сразу оговорюсь: его преступлениями я не занимаюсь, ничего о них не знаю, меня они не интересуют. И его алиби мне ни к чему, допрашивать его нет необходимости. Я хочу знать, что и кому он говорил. А из тех, кому мы можем доверять, вы, пожалуй, больше всех знаете.
А сейчас я поясню, что именно нас интересует. Вся эта последняя череда убийств неким иррациональным образом связана с Эвой Марш, хотя официально она нигде не фигурирует, и нам хотелось бы выяснить, насколько это ошибочно или, напротив, важно. Насколько нам известно, на Яворчика оказывали большое влияние…
Вздохнув с облегчением, Петрик убрал локти со стола и постарался как можно обстоятельнее отвечать на вопросы пана следователя. Он понял: речь пойдет о том, что он слышал, то есть о сплетнях или слухах, а они не имеют соответствующих статей в Уголовном кодексе. Вот, например, если бы пан Возняк опубликовал в газете заявление, в котором обзывал кретином и идиотом пана Ковальского, последний имел бы полное право обратиться в суд, защищая свою честь и достоинство. А когда те же слова произносятся в разговоре в узком кругу знакомых, у пана Ковальского не будет никаких юридических обоснований для обращения в суд. Так что Петрик мог себе позволить пересказать то, что слышал, не опасаясь юридических последствий.
И он позволил себе, причем весьма охотно, потому как не выносил Поренча и Яворчика, но зато любил и ценил Эву Марш. Он постарался как можно точнее припомнить все бредни и измышления Яворчика. Ну, хотя бы о том, что Вайхенманн собирал книги Марш и агитировал сценаристов; как Заморский своими фильмами делал ей рекламу; как Држончек выбирал самого щедрого из кучи спонсоров, горевших желанием поставить фильм по книгам Эвы Марш; как без поддержки поклонников Эва просто исчезла бы с горизонта. Повторяя все эти оскорбительные выпады, парень каждый раз добавлял, что это они такой грязью поливали писательницу, а он только их слова повторяет по просьбе полиции, сам же придерживается прямо противоположного мнения.
– И это было не только мерзко, но и глупо, – добавил Петрик, – потому что любой человек на телевидении прекрасно знает, как обстоят дела на самом деле, кто есть кто и чего стоят его слова. Телевизионщики очень хорошо разбираются в ситуации, пан инспектор. И знают цену рекламе. Ведь что там греха таить, бывает и такое: кто‑то хочет себя разрекламировать и платит большие деньги…
– И Эве Марш тоже случалось?..
– Да что вы! Никогда в жизни! Поренч, как известно, сознательно вел такую политику, а Яворчик всему верил и лишь повторял как попугай. Знаете, иной раз услышишь такое и ушам своим не веришь, а вот Яворчик верил всему, что наговаривал на честных людей. Я не могу точно сказать, чем он руководствовался, тут психолог нужен или, вот как вы, следователь, но скорее психиатр. Ну да, наверняка, не Яворчик вас интересует?
– Нет, – не стал возражать Гурский, – не Яворчик Только то, что он говорил, и те, которые верили его бредням.
Петр Петер задумался.
– Ну, кто верил? Наверное, те, которые что ни услышат с экрана телевизора, всему верят, короче, глотают все. А Поренч, надо отдать ему справедливость, умел изящно подать всякую гадость, придав ей убедительность. Можно сказать, что он и заразил Яворчика.
Записывая показания свидетеля, Гурский параллельно дополнял вновь услышанным то, что ему было уже известно и что он инстинктивно чувствовал, говоря о своем чутье.
– Спасибо, – сказал он наконец, – я услышал от вас много ценного, знаете, вроде бы пустяки и мелочь, а в целом создают определенную картину. А теперь, может, вернемся к тому, что вы хотели мне показать.
Петрик как‑то сник и не сразу отреагировал. Его спас приход сиделки. Мать и сын обрадовались ей, а мамуля, до этого не издавшая ни звука, опять сочла своим долгом вмешаться.
– Это, собственно, я нашла, проше пана. Петрик, ну что ты так колеблешься и делаешь из этого большой секрет, может, оно там уже и не лежит? Потому что, видите ли, пан следователь, я считаю, нужно вам об этом сказать, хотя мне и нелегко издалека кричать…
– Мама, успокойся, перестань волноваться, тебе вредно. Я сам скажу! – решился наконец сын. – Видите ли, так у нас все как‑то несуразно получилось, мама совсем не заботится о своем здоровье, а давно надо было обратиться к врачу, и в результате все произошло сразу – и мамина болезнь проявилась, и эту штуку мы обнаружили, то есть хуже некуда – и скорая помощь подъехала, и тут эта находка, все сразу, я совсем растерялся, не знал, за что хвататься, а потом, как подумал, испугался, что попаду в подозреваемые. Понятия не имею, откуда оно тут взялось…
– Да покажи же пану! – Мама даже рассердилась. – Мне и самой любопытно поглядеть.
Гурскому тоже очень хотелось поглядеть на их находку. Первый раз о ней слышит!
– Одновременно все получилось, – бормотал свое Петрик – И мамин гнойный аппендицит, и эта штуковина как с неба свалилась…
Петрик встал, подошел к разложенным на диване кучам разноцветной шерсти, подобранной по оттенкам, раздвинул мягкие пряди. Под ними виднелся какой‑то предмет.
– Мамуля доставала вот эту, ярко–красную, в самом нижнем ряду, и тут ее схватило, – рассказывал молодой человек Врачу еще успела позвонить и даже поглядела на эту штуковину, пока ехала скорая. И я тогда же ее увидел, ведь я сразу же приехал, вместе со скорой, но занялся уже мамой и больницей. А ее сразу, как привезли, – на стол, и операция! Я там при маме ошивался, пока ее домой не отпустили, а тут, на диване, ничего не трогал, и факт, колебался, говорить – не говорить, человек боится, как бы ему хуже не вышло. Но если хотите – смотрите, чего уж…
Под мягкими пасмами шерсти лежал буздыхан.
– Спасибо, пани Аня, так мне очень удобно, – оживленно щебетала мамуля. – Пан инспектор, вы же видите – там я собрала шерсть только красных оттенков. И вот эту киноварь. И когда она мне понадобилась – вы ведь знаете, я плету коврики на продажу, – так среди яркой киновари в глаза бросилось что‑то зеленое. Говорю вам, прямо по глазам ударило! Я уж думаю – может, со мной оттого и аппендицит приключился, что уж очень я испугалась, решила – привиделось мне. А оказалось никакое не привидение, а просто непонятная вещь. И почему‑то я сразу подумала: может, вещь историческая?
Гурский переглянулся с Петриком. Тот бессильно поднял руки – сдается, дескать.
– Я даже не потребую от вас ордера на обыск, – отрешенно признался он. – И мама со мной согласна, уверен. Значит, все‑таки, это то, что вы ищете? Этого я и боялся. Тут ведь чего только не услышишь, я о таком старинном оружии и не слышал. Оно?
– Пока наши эксперты не дали заключения, воздержусь от официального заявления… Мое же личное мнение – да, это именно орудие убийства. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Но даже если это и так, вы разрешите мне не возлагать подозрения на вашу маму?
– У нее уже и без того слепая кишка, – жалобно проговорил сын немного некстати. – Я не брал этого в руки, но, кажется, тяжелое? И никогда раньше таких штук не видел, только слышал, а это какое‑то странное сочетание буздыхана и бунчука.
Инспектор со знанием дела поправил, что плюмаж не с той стороны и вообще он должен быть из конского волоса.
– Ага, такой бракованный реквизит. Ну да мне на это наплевать, я только очень хотел просить вас, пан инспектор, маму не трогать.
Инспектор не намерен был подозревать не только пани Петер, но и ее сына. Не стали бы они так идиотски прятать орудие преступления, а если допустить, что все же такое пришло им в голову, не предъявили бы его добровольно следователю, внезапно зашедшему к ним. О буздыхане вообще знали лишь хозяйка квартиры и ее сын, и не скажи они о нем полицейскому, бракованный реквизит продолжал бы прятаться в гуще шерстяных мотков, ведь и мать и сын были вне подозрений. Никто их за язык не тянул, сами признались, обыска в их доме не предвиделось, а теперь инспектору надо поломать голову, каким образом проклятый реквизит, раздробивший затылок жертвы, перенесся на мягкий диван этой уютной квартиры?
Сам не перелетел, его кто‑то принес. И скорее всего – убийца. Интересно, а почему именно сюда принес и так глупо спрятал, чуть прикрыв слоем мягкой шерсти? На что рассчитывал? Ведь полиция не преследовала убийцу, тот не метался в панике, не сунул орудие убийства куда попало, а принес именно на этот диван.
Что‑то в этом роде Гурский высказал вслух.
Мамуля Петра Петера, хоть и перенесла острое воспаление аппендицита, не потеряла способности мыслить и рассуждать.
– Кто бы его ни принес, проше пана, – сказала она своим мягким голосом, – знал, что делал. Если бы мне не понадобилась срочно киноварь, я бы еще не скоро стала рыться в том месте. Петрик, я буду рассказывать, а ты покажи пану. Вам меня слышно, пан инспектор? Сейчас я работаю с серой и бежевой шерстью, яркий акцент не просто красной, но киноварной шерсти пришел мне в голову внезапно, а там, на диване, вы видите, пан инспектор, уже все готово, пряжа разрезана на куски, разложена по порядку, и вот в таком, рассортированном виде, еще долго бы лежала нетронутой. Это для будущего коврика я заготовила.
– Значит, преступник вас знал?..
– Да никто к нам посторонний не заходил. Я уже давно неважно себя чувствовала, и мне было не до гостей.
– А кто у вас был, скажем, на прошлой неделе?
– Да никто…
– Мама! – счел нужным вмешаться сын. – Назовите всех, кто был. Все человеческие существа. Да хотя бы меня и Миську.
– Ну да, вы были. И еще, раз существа… Уборщица приходила, она раз в неделю у нас бывает. Была и Катажина. Это моя приятельница, она рекламирует мои коврики направо и налево, дай ей Бог здоровья, и вечно приводит клиентов. Но на сей раз пришла одна. Ну и этот был… Вот уж не знаю, какая нелегкая его принесла, он вообще бывает у нас раз в десять лет, а тут вдруг заявился, и, главное, не предупредил. Если бы позвонил, я бы придумала что‑нибудь: уезжаю, например, такси уже ждет – лишь бы его не видеть, не выношу этого болвана!
– А кто этот болван?
– Да крестный Петрика, дальний родственник моего покойного мужа, двадцатая вода на киселе, Роман Выстшик Еще счастье, что недолго просидел и как‑то обошелся без своих идиотских выходок
– Не могли бы вы поподробнее описать его визит?
Не только по лицу пани Петер было видно, насколько неприятно ей говорить об этом человеке. Вся небольшая фигурка старушки напряглась, выражая негодование и неприязнь. Инспектор уже пожалел, что заставил пожилую женщину, к тому же только что перенесшую полостную операцию, тратить столько сил, но ничего не поделаешь. Он чувствовал – вот главный свидетель обвинения, и его показания могут оказаться решающими.
Взяв себя в руки, старушка постаралась как можно точнее рассказать о том неприятном дне. Тоже, должно быть, понимала, не стали бы к ней приставать после операции, если бы не крайняя нужда.
– Дверь ему открыла Веся, наша уборщица, я бы наверняка попросила сказать, что меня нет дома, а ей это в голову не пришло. Вошел в комнату, как к себе домой, кофе выпил. Вот и все. Так просто зашел, сказал: был тут рядом, решил зайти. Он на минутку, времени нет. Ага, чуть не забыла. Он не может не сказать человеку какой‑нибудь гадости. И тут не удержался. Сказал, что я здорово постарела и пора бы мне носить парик, и зачем мне столько шерсти, не иначе как выложить гроб изнутри, чтоб помягче лежать было, хотя только что спросил, сколько времени у меня уходит на изготовление одного коврика. И, довольный своей шуткой, глупо загоготал. Придурок!
Сидевшая дотоле тихо, как мышь под метлой, сиделка не выдержала.
– Пожалуйста, не нервничайте так, проше пани, и не дергайтесь, вам пока двигаться ну никак нельзя. И ночь надо проспать спокойно, и весь завтрашний день – полный покой. Вот послезавтра, если захочется потанцевать, – пожалуйста, уже можно будет. Но не сейчас.
И, повернувшись к следователю, медсестра сурово потребовала:
– Выбирайте более приятные темы для разговора. Больную нельзя волновать. Смотрите, как вы ее расстроили, она просто не в себе! Не смейте волновать пациентку!
Гурский извинился и попросил разрешения задать еще один, последний вопрос. Очень важный для расследования преступления!
– Прошу не гневаться, уважаемая пани Петер, но для нас очень важно знать, когда точно он нанес вам этот неприятный визит?
Мамуля Петрика перестала дергаться, оцепенела, напряглась и сосредоточенно уставилась на зимний пейзаж, висевший в ногах ее кровати. Сначала она считала про себя, потом стала считать вслух. Гурский тоже считал про себя, и у них обоих вышло, что отец Эвы Марш навестил мать своего крестника точно в день убийства Заморского.
– Во сколько?
– Да аккурат в середине дня. Около полудня. Погодите, дайте подумать. Он так разозлил меня, что я тогда забыла сделать что‑то очень нужное… Ага, вспомнила! Котлеты. Мясо разморозила и совсем забыла о нем, так что оно у меня завонялось. Значит, и в самом деле было около двенадцати или двенадцать с минутами… А что?
– Да, все совпадает. Только вот я по–прежнему не вижу смысла… Ах, простите, не буду морочить вам голову, но вот обыск придется сделать, это уж так положено. Мы постараемся провернуть все поскорее и аккуратно.
Обыск, действительно облегченный, но по всей форме, мамуля, к радости сына, восприняла как развлечение, к тому же ей от него была прямая польза – в ходе обыска криминалисты нашли такую особенную деревяшку для разрезания и расчесывания шерстяной пряжи, которая у мамули давно потерялась, а это затрудняло ее творческий процесс. А мамуля с самого начала настроила сыщиков на эту деревяшку, предупредила, что она где‑то в комнате завалялась и попросила, как найдут, не забирать ее, а оставить на видном месте. Оказалось, бесценная деревяшка лежала себе спокойно в качестве закладки в огромном альбоме с семейными фотографиями.
Других преступных трофеев не обнаружили. Ни пистолета, ни штыка.
Бунчук–пернач–буздыхан эксперты без труда признали тем орудием, от которого принял смерть Заморский, к тому же оставленные Заморским следы можно было видеть невооруженным глазом. Убийца даже и не пытался отмыть свое оружие горячей водой с мылом, не задал себе труда малость его щеткой потереть. Его заботила лишь дактилоскопия, и вместо отпечатков пальцев он оставил отпечатки кожаных перчаток Вернее, одной перчатки, старой и изношенной, которая полностью стерла находящиеся под ней следы пальцев того, кто приволок буздыхан из реквизиторской и поставил зачем‑то в дверях архива.
Мамулю Петруся так вдохновила беседа со следователем, потом обыск и обретение драгоценной деревяшки, что даже суровая медсестра вынуждена была признать – здоровье больной улучшается быстрыми темпами.
Отчет о событиях с обратной стороны луны поступил ко мне из трех источников и почти одновременно.
Поздним вечером позвонила Миська и, прикрывая трубку ладонью, вполголоса поинтересовалась:
– Иоанна, что происходит? От матери Петрик вернулся какой‑то странный. Мать его в порядке, а вот он – не очень. В отличном настроении и все хихикает. Говори скорее, пока он в ванной!
– У них должен был состояться разговор с моим знакомым ментом, кристальной души человеком. Разговор наверняка состоялся, возможно, это Гурский так положительно на них подействовал. Тебе Петрик что‑нибудь сказал?
– Если бы! Я тогда не стала бы тебе звонить. Говорю – все хихикает как ненормальный, а я страх как боюсь сумасшедших. Но ты ведь должна знать, из‑за чего он так перенервничал и сейчас не в себе?
– Случайно догадываюсь, но не уверена. А он в перерывах между хихиканьем хоть что‑нибудь говорил?
– Отдельные слова, иногда вырывались у него и обрывки фраз.
– Напрягись и процитируй.
– Попытаюсь, но не уверена, что повторю точно.
Миська замолчала, напряженно сосредоточилась и начала:
– Ну вот, например, ярко–красная киноварь… Дурак – Полагаю, это он о себе. – Ушлый мерзавец… А у мамули бывают гениальные проблески… Сукин сын… Подбросил, подонок!.. Не верю. Невозможно! «Невозможно» он повторил три раза!
Мозг получил пищу для размышления, и я начала отчаянно соображать. Прикидывала так и эдак. Я знала, чем занимается мамуля Петра Петера, и знала, что Гурский направился к ним. Сочетать проблески мамули с ярко–красной киноварью было легко, у меня самой сколько раз случались такие внезапные цветовые озарения, но как все это увязать с наветами Яворчика? Миська терпеливо ждала в мобильнике, я слышала ее заинтересованное дыхание и поспешила успокоить:
– Кое о чем догадалась, но маловато фактов. Может, еще что подкинешь?
– Могу! – тут же отозвалась Миська. – Еще он выкрикивал: «Под носом лежало, раз плюнуть, легче легкого», и еще: «На подносе преподнесли, а я балбес». Это, пожалуй, самое длинное его высказывание. С трудом выхватила его из его бесконечных ха–ха–ха и хи–хи–хи, о, вот еще: «Бракованный реквизит»! Как заорет, и чуть не помер со смеху, еле отсморкался, до слез его проняло. Слушай, что с ним? Я просто его боюсь!
– А ты не бойся! – посоветовала я, уже начиная догадываться, причем меня тоже вдруг начало трясти. – А, случайно, не проговорился он о том, что у них что‑то нашли?
– Погоди, подумаю… Нуда, было, я же тебе с этого и начала: «Как на сковородке», «Под самым носом».
– И «бракованный реквизит», говоришь? Ну так поздравляю: они нашли орудие убийства!
Возможно, это было скорее моим горячим желанием, чем действительным выводом из полученных фактов, но так уж у меня получилось. Сразу после этого я услышала вскрик Миськи, шум какой‑то возни и затем голос Петрика: Пани Иоанна, это вы? Да нет, я не свихнулся, хотя так себя чувствую – чрезвычайной легкости состояние… Мисенька, кохане, не вырывай у меня трубку, а тоже слушай, все поймешь. Видишь, как слушает пани Иоанна, а она взрослая умная женщина, и у нее тоже были сыновья, и наверняка была и мать, правда, пани Иоанна? А моя мать скрывала от нас состояние своего здоровья изо всех сил, но было видно, что ей плохо, и в больницу ее увезли с гнойным аппендицитом, а я, балбес, недооценил свою маму! Мисенька, да перестань дергаться, холодный душ – то, что надо, и я уже пришел в норму. А та штука, которую она мне показала среди своих заготовок, меня просто оглушила, я сразу понял – это то, что ищет полиция, но откуда оно взялось у нее? И как это связано с ее здоровьем, потому что тут уже разразился прямо ад – и скорая, и операция, и мама такая слабенькая, так что я боялся заявлять об этой вещи, не до нее мне, а вдруг меня загребут, и как она без меня? Поди докажи, что ты не верблюд. Да я и собственными глазами видел, как проклятый реквизит на нее подействовал, разве ей можно было так волноваться? Вот я и метался, что делать? Отложить, пока мама не оправится? Сразу стану подозреваемым – медлил, не сообщал. А сообщить – опять же в дураках можешь остаться, если окажется, что это не то, только мамулю обеспокоил, сиделка сказала, у нее высокая температура, а это очень опасно. Точно еще эксперты не сказали, но, скорее всего, это тот заср… Ох, я хотел сказать – тот самый буздыхан, о котором вся телестанция вопит. А вот сейчас думаю: ну что я за кретин, и сам извелся, и мамуля изнервничалась, надо было сразу пани позвонить, вы бы нам дело посоветовали, а так…
Я сочла нужным прервать бурный поток излияний.
– Тихо! Вы не виноваты, вас взвинтили обе, Миська и Лялька. А сейчас попрошу отвечать на вопросы.
– Да, конечно, спасибо!
– Гурский был?
– Ясное дело, был. Ведь от того…
– О Яворчике спрашивал?
– Ясное дело. Я ему все…
– И что‑то у вас нашел?
– Ясное дело, я сам ему показал, хотя нашла эту вещь моя мамуля.
– Наверняка в ярко–красной киновари! Головой ручаюсь!
Парень был потрясен моей гениальностью.
– Откуда вы знаете?
– Я разбираюсь в колористике. Ну, показали вы ему это, и что дальше?
И дальше пошло, как в следствии положено.
Петрик совсем успокоился, и мы с Миськой смогли получить ясное и четкое описание всего, что произошло в их доме. У Миськи хватило ума помолчать и не перебивать парня, я же, понятное дело, боялась лишним словечком сбить рассказчика с темы. Наконец он закончил и я, потрясенная, отключила сотовый.
Телевизионное орудие убийства в киноварной шерсти невинной женщины!
Следующим позвонил Островский.
Каким‑то таинственным образом Гурский сумел с ним пообщаться между обнаружением буздыхана и окончанием обыска у пани Петер. И задавал вопросы вполне определенного содержания.
Островский рассказал мне, что провел у себя на работе тоже небольшое расследование, в связи с тем звонком, когда к нам в редакцию якобы звонила Эва Марш, желая дать интервью. Ему так и не удалось докопаться до источника этих слухов.
– Выходит, кто‑то пустил утку? Ведь известно, что Эва не дает интервью, а уж сама навязываться ни за что не будет.
– Вот именно, – подтвердил Островский.
– И вы полагаете, это Яворчик?
– Я расспросил всех, кого мог. Выяснил лишь, что звонивший приписывал инициативу самой Эве Марш, а я в это не верю.
– Так вы считаете, звонил Яворчик? Так и не ответили мне.
Островский фыркнул в трубку.
– Я скорее считаю, звонил Поренч. И считаю, он что‑то задумал, сознательно позвонил – в планах своей акции, но дальше – стоп. У меня получается вообще какая‑то паранойя.
– Не у вас одного, – буркнула я. – Ну ладно, кто звонил – вы выяснить не сумели. А выяснили ли хотя бы, что этому неизвестному ответили в вашей редакции?
– С трудом, буквально выжал. Разумеется, ответили как можно неопределеннее. Что не исключено, возможно, а вообще дать более определенный ответ могу лишь я. Меня же на месте не было, и звонивший ответа не получил.
– И все это вы передали Гурскому?
Да, и еще кое–какие мелочи, потому что он тоже умеет человека прижать к стенке так, что не вздохнешь! Я вспомнил, что у нас телефон спаренный с секретариатом, а там полиция уже знает способы, как вычислить звонившего. Кажется, ему моя идея понравилась.
У меня в голове молнией пронеслось: звонил прохиндей из уличного автомата, и пиши пропало – такого не отловишь.
Повезло Гурскому…
И тут позвонил Гурский.
– Знаю, что поздно, – сухо заявил он, – но решил позвонить. У матери Петра Петера обнаружилось орудие убийства на телестанции, от которого погиб Заморский. Я не подозреваю, повторяю: не подозреваю ни Петра, ни его мать. Я ясно говорю?
Заверила Гурского, что говорит он очень даже ясно. Хотя и мало.
– А вы наверняка успели поговорить со свидетельницей, с той соседкой, для разговора с которой я, по–вашему, не пригоден. Так рассказывайте. Слушаю.
Разумеется, я ему постаралась подробнее пересказать весь разговор с пани Вишневской, хотя он все равно остался недоволен и, по выражению Островского, основательно прижал меня к стенке, допытываясь малейших подробностей. А об остальном говорить отказался, сказал, в другой раз. Что мне оставалось делать? В другой так в другой…
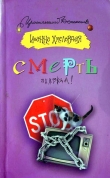


![Книга Убойная марка [Роковые марки] автора Иоанна Хмелевская](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-uboynaya-marka-rokovye-marki-46976.jpg)