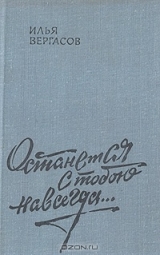
Текст книги "Останется с тобою навсегда"
Автор книги: Илья Вергасов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Командующий подошел к нам:
– Солдат кормишь так, как они того заслуживают?
– Хозяйственники стараются, товарищ генерал.
– Хвастунов не люблю. Солдат начинается с песни, а полк с котла.
У полевых кухонь жарко, кашевары в белых колпаках. Тут же Вишняковский, затянутый на все ремни.
Командующий остановился, потянул носом:
– Аромат, Леонид Прокофьевич, а?
– Поедим – поглядим, – улыбнулся член Военного совета.
Сержанты сидят друг против друга, уминают из котелков украинский борщ. Немало их, ждущих очереди у кухонь.
– Как хлеб насущный? – громко спросил Гартнов.
– В достатке, товарищ генерал.
Хлопотливо подскакивает Вишняковский, застывает, держа руку у козырька. Он долго не может выговорить ни слова, выручает Бочкарев:
– На пробу приглашаешь?
– Так точно!
Командующий с лукавинкой в глазах:
– Не проведешь. Твой комполка хвастун, и ты туда же, а?
Генерал зыркнул на очередь и пристроился в ее конце. Впереди – сержант Баженов. Генерал сразу же спросил:
– Ты запевал?
– Запевал, товарищ генерал.
– Откуда такой взялся?
– Полтавский.
– Богатый край, щедрый и на людей и на хлеб.
Баженов протянул котелок – его очередь.
– Прими в напарники, а? – неожиданно напросился Гартнов.
– С удовольствием, товарищ командующий!
Пятидесятилетний генерал и двадцатилетний сержант, раскинув ноги, сидели глаза в глаза, дружно работая ложками.
–_ Черти!.. Я-то, старый вояка, поедываю неживую заморскую колбасу. Подполковник, возьми на довольствие!
– Продаттестат – и милости просим!
– Вот какой ты! Но обожди, с тобой разговор особый. А за хлеб и соль низкий всем поклон.
Два генерала и я уселись в холодке. Командующий распахнул китель, в зубах у Бочкарева соломинка, он ее перебрасывает то в одну сторону, то в другую.
Генералы переглянулись. Командующий застегнул китель на две пуговицы, насупившись посмотрел на меня. Я хотел подняться, но он приказал:
– Сиди!.. Из каких запасов свежее мясо?
– Все законно, товарищ генерал.
Командующий погрозил пальцем:
– Я тебе покажу "законно"! Армия на консервах, сухарях, а у него райская жизнь, скажите пожалуйста! Докладывай, откуда твое богатство?
Рассказ мой уместился в ладошку: подбираем дохлых лошадей, варим мыло, мыло меняем на продукты.
– Колхозы раскулачиваешь? – настаивает Бочкарев.
– Обмениваемся с частным сектором...
– "Сектором", слово-то какое выколупал! Нет частного – война! Партизанская самозаготовка, и даже без спроса. И вообще... Самогон гнали? Сам комполка побывал на поминках...
Меня глушили, как рыбу гранатами, вот-вот всплыву наверх.
Бочкарев:
– На солдатах яловичные сапоги!
Гартнов:
– Вытурил из полка опытного начальника штаба... Не полк, а боярская вотчина!
Бочкарев:
– Не признает политсостав, всему сам голова!
Обида душила.
– Помалкиваешь? Как, Леонид Прокофьевич, будем на полку оставлять?
– Прикинем, подумаем...
Генералы снова переглянулись, поднялись. Идут к машине, я рядом, земля из-под ног куда-то уплывает. Неужели наветы Сапрыгина сильнее того, что видели генеральские глаза, слышали уши? Это же несправедливо...
– Не согласен, никак не согласен!
– С чем? – Командующий уставился на меня.
– С вашей оценкой жизни части. Хоть в военный трибунал – не согласен!
Командующий хлопнул меня по плечу, улыбнулся:
– А теперь скажи по секрету: откуда на сержантах яловичные сапоги?
– Полковника Роненсона упросил...
– Гм... Как это тебе удается? – Посмеиваясь, генералы уселись в машину, она рванула с места...
Я устал. Ах как я устал!..
* * *
Полк спит. На горизонте – малиновый солнечный диск: быть, наверное, ветру. На акации верещит одна-одинешенька кургузая птичка. Свистнул улетела. Пошел по лесной поляне. Призывное ржание, остановило. Нарзан, вытянув шею, скосил на меня глаза.
– Здоров, дружище.
Он фыркнул, бархатистые губы умостились в моей раскрытой ладони.
– Подсластиться хочешь? У меня, брат, одна горечь. Мне нужна шагистика да дыры в черных мишенях... А ты как думаешь? Головой мотаешь, жалуешься, что и тебя замордовал. Вон как бока твои подзапали. Что ржешь?.. Покажи-ка зубы... О, ты стар, как и твой поводырь Клименко. По твоим лошадиным годам – полная отставка. Вот погоди, дружище, перемахнем границу, я и тебя и Клименко на гражданку. Топайте себе в мирную жизнь, в колхоз. Еще поработаете. Верно ведь?.. За вами и я подамся... Только куда? Есть в одном городе домишко на окраине, а ключей вот мне не оставили. И бог знает где сейчас хозяйка...
– Константин Николаевич! – окликает меня Рыбаков, подходит, крепко жмет руку. – Как ты?
– Более или менее...
– Мне не спалось. Куда ты исчез после смотра?
– Бродил. Свежим воздухом дышал.
– Ну, что там генералы?
– По головке погладили!..
24
Высокого роста майор с пустым левым рукавом, конец которого засунут в карман кителя, вошел в землянку.
– Не помешаю? – спросил очень уж по-граждански.
– Садитесь, гостем будете.
Он сел, правой рукой достал из кармана брюк домашней белизны носовой платок, вытер лицо, улыбнулся – глаза восточного разреза, с лукавинкой.
– С кем имею честь?
– Майор Татевосов Ашот Богданович, назначен на должность начальника штаба вверенного вам полка.
– Вы? – Невольно посмотрел на пустой рукав.
Майор улыбнулся, мелкие морщинки густо набежали на загорелый лоб.
– Понимаете, домой гнали. Как – домой? С Перемышля до Волги, с Волги сюда, Румыния под носом, а меня – домой. Справедливо?
– Садитесь, Ашот Богданович. И меня вытуривали. Значит, мы два сапога пара!
Он обнажил белые зубы:
– Очень хорошо – мы два сапога пара.
– Так с прибытием, Ашот Богданович.
– Скажите, что такое запасный полк – какой цвет, какой вкус?
– Поживете – попробуете. Всего не расскажешь, но кое-что все же послушайте.
И за своими словами я видел Сапрыгина, холящего телеса под штраусовский вальс, бесконечный строй парнишек, Петуханова, лежащего в июньской траве ничком. Но странно – я разглядывал пережитое будто со стороны. Пришло желание высвободиться от ежедневной напряженной жизни... Внутренняя пружина, которая гнала меня от одного дела к другому, сейчас ослабевала.
Не знаю, может, причиной самовысвобождения был человек с сабельно-острым носом, которому легко говорилось о том, о чем вообще никому не собирался рассказывать; может, потому, что он слушал, как слушают дети, не избалованные откровенностью взрослых. Что-то в нем было распахнуто настежь.
– Ах, какая беда! – Он вскинул здоровую руку, вскочил, заходил по комнате. – Стреляю из пушки, из автомата, умею при самом трудном бое держать связь... Что еще умею, а?
– Садитесь. Покурим...
Поглядывая друг на друга, крепко затягиваясь, дымили.
– Разрешите, товарищ подполковник? – Вошел капитан Карасев, худой, синегубый, глотающий соду, глядящий на мир уныло – уж такой характер.
– Вот наш помначштаба, – сказал я Ашоту. – Все грехи – в его гроссбухах. Капитан, представляю вашего непосредственного начальника майора Татевосова Ашота Богдановича. Любите и жалуйте.
Карасев не улыбнулся, посмотрел на Ашота и как заведенный спросил:
– Как прикажете сообщить родным о смерти старшего лейтенанта Петуханова?
– А как вы думаете сообщить?
– Думаю... Все-таки трибунал...
На лице Ашота я заметил нетерпение.
– Ваше мнение? – спросил я, обращаясь к нему.
Он вскинул руку.
– Зачем семье страдать? Послать солдатскую похоронку.
Карасев повернулся ко мне, в глазах вопрос.
– Вы не поняли решения начштаба или не согласны с ним? – спросил я у него.
Ашот с удивлением смотрел в спину уходящего помначштаба.
– Ба... какой сердитый!
– Он работяга и думающий офицер. На него можно положиться...
– Прошу двое суток на знакомство со штабом полка.
– Сутки! Нужно немедленно сформировать боевой полк, обучить, обстрелять.
– Сколько у нас на это дней?
– Сам бог не знает, наверное.
– Понимаю!
* * *
На следующий день в полковом штабе все задвигалось, закачалось, заволновалось. Служивые писаря спинами обтирали глинобитные стены старой украинской хатенки, лупя глаза на низенькую дверь, за которой сидел "безрукий" и решал судьбу каждого из них. Одни выскакивали от него, словно оглушенные взрывной волной, растерянно искали помощи, бросаясь от одного штабного офицера к другому, а другие – с жесткими складками на лицах, собранные, готовые беспрекословно подчиниться своему начальнику штаба.
* * *
...Идем "трясти" вишняковские команды. Нас сопровождает молоденький лейтенант в новеньком кителе, сапожках, в лоск прилизанный, – начальник вещевого довольствия. Заладил одно: "Виноват!"
– Другие слова знаешь? – спросил Татевосов.
– Виноват, знаю!
– Веди в портняжную.
– Виноват, что касается мастеров, отбирал лично сам майор товарищ Вишняковский.
В бывшем просторном амбаре немца-колониста прорублены высокие окна. Столы, а за ними солдаты: кроят, шьют, утюжат. Нас встречает небольшого роста кругленький губастый старшина.
– Мастера! – командует он.
– Пусть работают. Как живется-трудится? – спрашиваю я.
– Дела, как у старого башмачника, товарищ подполковник: есть молоток нет шпилек, есть шпильки – дратва гнила...
На вешалках кители, гимнастерки. На столах наметанные раскрои, и, похоже, из дорогого заморского сукна.
– Кому?
– Мы не имеем права знать. Мы шьем тем, у кого личная резолюция самого товарища майора.
– Покажите эти резолюции.
Старшина переминается с ноги на ногу, смотрит на лейтенанта, на лице которого, кроме готовности еще раз сказать "виноват!", ничего не прочтешь.
– Старшина, повторить приказ?
– Никак нет, товарищ подполковник.
Он неохотно протягивает мне замусоленную папку. Я беру ее, раскрываю бумаги, бумаги, на многих следы машинного масла. "Дорогой Валерий Осипович! Я думаю, что и на этот раз не откажешь в пустячной просьбе. Прикажи, пожалуйста, сшить три кителя и шесть пар портков подателям сей записки. Навеки твой, Иван Копалкин". Или: "Слушай, ты, мудрец. Сваргань нужному человеку сапоги с высокими халявами, а еще брюки по-кавалерийски обтянутые кожей. Твой рыжий". Резолюция Вишняковского: "Старшине Артему Пыпину. Сшить! В. В.".
Татевосов качает головой, кончик носа у него бледнеет.
– Старшина Пыпин, вы хорошо из винтовки стреляли?
– Я закройщик, меня Крещатик на руках носил. Стрелял я только по голубям из рогатки.
– Ничего, научим! – Татевосов резок.
Тыловиков выстроили во взводную колонну.
* * *
Чуть свет едем к генералу Валовичу. Ашот зевает.
– Не выспался? – спрашиваю.
– Тут у меня слабинка, понимаешь. Дрыхну – хоть из пушек пали.
– И на гражданке так?
– Не поверишь – всем кланом будили...
В домике генерала даже воздух наэлектризован. Ждем в крохотной приемной. К Валовичу заходят усталые штабные офицеры и, не задерживаясь, спешат к своим рабочим местам. А то забежит запыленный с головы до ног порученец. Ашот шепчет:
– Дело на мази.
– А у нас худо, боевую обкатку не прошли.
– Будем просить, будем уговаривать, – успокаивает меня Ашот.
Ждем второй час. Генеральский адъютант обнадеживает:
– Непременно примет.
Правильно говорят: штабисты выигрывают или проигрывают бой до его начала. Судя по напряженному генеральскому лицу, по твердому его взгляду и решительным жестам – он как-то уж очень быстро спрятал оперативные карты, которые лежали на столе, – тут проигрывать не собираются.
Валович откинулся на спинку венского стула:
– Что нужно?
– Прошу придать на день-другой артиллерию, танковую группу и разрешить совместное учение с боевой стрельбой.
Генерал погладил бритую голову, чихнул.
– Где, когда?
– За Просуловом, пять километров восточнее лагеря.
– Не разрешаю. За каждый выстрел отвечаешь головой. В тылу тишина. Запомните – тишина!
– Обкатка необходима, – вставляет слово Ашот.
– Согласен. – Генерал достает карту. – При тебе, подполковник, двухверстка? Разворачивай. От Просулова веди линию на север до отметки сорок восемь и семь десятых. Нашли? Тут можете пострелять сколько душе угодно.
– Там тылы другой армии и даже другого фронта, товарищ генерал.
– Это уж наша забота. Танки не дам, а с артиллерией так: свяжитесь с командиром Шестой бригады РГК и с командиром Двести тридцать четвертого иптаповского{1} полка. Они жаждут взаимодействия с пехотой. Все!
...Мы пробились через скучные заросли ивняка и вышли на поле с пологим скатом в нашу сторону, напоминавшее правый берег Днестра. Струи воды стекали с плащ-палаток – только что отбарабанил дождь. Начштаба Татевосов откинул капюшон, осмотрелся.
– По-моему, то, что надо нам, товарищ подполковник.
– А как артиллерия? – спросил я у командира гаубичного полка РГК.
– По мне что ни хата, то и кутья, – стреляю с закрытых позиций. Что скажет мой собрат по оружию? – Он кивнул на командира иптаповского полка майора Горбаня.
Горбань, с ног до головы закутанный в плащ-палатку, посмотрел на небо, будто там и была самая главная позиция для его шустрых пушек. Покосился на всех и промолчал.
– С тобой не соскучишься. – Полковник-артиллерист подтолкнул Горбаня в бок.
Мы тщательно выбирали поле для учения с боевой стрельбой. Еще раз согласовали взаимодействие и решили к рассвету сосредоточиться на "позициях".
...Полевой телефон связывал меня со всеми подразделениями полка, а рация – с артиллеристами. Торопится минутная стрелка. Рыбаков, присев на корточки, поглядывает на меня. Его волнует мое решение: я приказал пехоте идти за огневым валом, держа минимальную дистанцию от него – метров сто. Он умолял:
– Может, двести, а? Черт его знает, как стреляют эти пушкари...
– А ты у них узнай, Леонид.
– Узнаешь! Один хвастун, другой молчун...
Я еще раз в бинокль рассматриваю поле – ни души; подразделения хорошо замаскировались.
Рыбаков делает еще одну попытку:
– Увеличьте дистанцию, христом-богом прошу!
Ашот смеется:
– Как говорит цыган: небитый – серебряный, битый – золотой!
Минутная стрелка приближается к двенадцати... Я швыряю в небо красную, затем синюю ракеты. И все поле сразу же вздрагивает от рева семидесяти пяти орудий – от полковой пушки до гаубицы РГК.
Снаряды ложатся все ближе к "переднему краю". Огневой вал плотнеет, выравнивается, становится сплошной стеной.
Десять минут дрожит древнее поле, потом я, прижимая телефонную трубку к уху, командую:
– Первый, в атаку!
– Есть! – Это голос комбата Шалагинова.
Захлебываются станковые пулеметы, а черная завеса над "передним краем" растет, растет...
– Пошли, пошли! – кричит кто-то рядом.
Я вижу первую цепь – изломанную, кое-где разорванную.
– Первый! Что они у тебя, кисель хлебают? Перебьешь людей! Выравнивай!
Слежу в бинокль: комбат Шалагинов выскакивает с наблюдательного пункта, от него связные бегут в роты.
Приказываю артиллеристам:
– Перенести огонь на сто метров в глубину!
Огневой вал медленно-медленно начинает уходить дальше, а первая цепь пехоты, ускоряя ход, "штурмует" вал. За ней идет вторая, черновская.
В считанные секунды артиллеристы меняют прицел, и снаряды ложатся между первой и второй цепями.
Напряжение нарастает. Все бинокли – на атакующих.
– Молодцы артиллеристы! – кричу от души.
Майор Горбань молчит, и не понять, доволен ли он работой своих пушкарей, которые лупят прямой наводкой и с завидной быстротой меняют позиции, таща орудия на себе. Он временами лишь что-то бубнит в телефонную трубку.
– Ур-ра-а-а! – разносится голос пехоты.
– По своим бьете, слышите?! – вдруг заорал Рыбаков.
Вижу в бинокль: снаряд разорвался метрах в тридцати от второй цепи. Связываюсь с командиром гаубичного полка:
– В солдат швыряешь снаряды!
– Это твою пехтуру заносит!
Замполит настойчиво просит:
– Прекратите учения, слышите?
Я в трубку:
– Астаховцы, вперед!
Солдаты Астахова идут сомкнуто, словно это убережет их от случайного снаряда. Сам комбат по-журавлиному вышагивает впереди. Надо ему за это всыпать!
С дальнего поста воздушного наблюдения докладывают:
– Курсом сто восемьдесят пять, на высоте четыре тысячи метров немецкий разведчик.
– Унюхали, сволочи! – Ашот вскинул голову.
Высоко-высоко в небе блеснули крылья вездесущей "рамы".
Командую:
– Отбой!
Сразу же пресекается огонь, лишь смрадный дым ползет над учебным полем. Замполит протягивает мне телефонную трубку:
– Докладывает Чернов, что в его батальоне легко ранили двух тыловиков... Я же предупреждал!..
– Проследи, – говорю ему, не беря трубку, – чтобы их вовремя отправили на медицинский пункт.
– И это все? – Рыбаков смотрит мне в глаза: ждет раскаяния, что ли?
– Дорогой Леня, – Ашот дружески подтолкнул его, – я понимаю твои заботы, но зачем сейчас на мозги давишь? Сам видел, как батальоны выполняли задачу. Как шли за огневым, валом, а?
Рыбаков шмыгнул носом. Это мальчишеское шмыгание заглушило во мне те резкие слова, которые хотелось сказать; ему.
– Иди-ка, Леонид, к Чернову и во всем разберись... Сам знаешь как.
В КП вошел майор Горбань, по-прежнему закутанный с ног до головы в плащ-палатку, уселся подальше ото всех и запалил махру. Вот кто заслуживает похвалы. Его солдаты дружно облепляли свои длинноствольные пушки и, как муравьи, что тащат ношу в десять крат большую, чем они сами, волокли; их по крутым склонам.
– Спасибо, майор Горбань.
Он пожал каждому из нас руку и сел в свой "виллис".
– Веселый человек, – усмехнулся Ашот.
25
Далеко на севере – в Белоруссии – гремели фронты. Там окружали дивизии и армейские корпуса немцев. Москва салютовала наступавшим частям и соединениям. В сводках Информбюро – новые города и новые направления. Вспыхнули жестокие бои у Вислы, а позже за Вислой – на Сандомирском плацдарме. Только наш 3-й Украинский фронт от Григориополя до Черного моря прилип к Приднестровью, обжился в удобных окопах, выше головы зарылся в землю.
Здесь над фронтом густела тишина, в садах алел шафран, остро пахло шалфеем. Тишина была августовской, когда палят стерню, поднимают зябь, снимают ранний виноград, когда под яблонями вянет падалица... Одинокий коршун плавно кружит над древними скифскими курганами, а степь под его крыльями лежит перезрелая, усталая от плодородия. Вот эту самую степь, на которой пылятся наши дороги, где мы солдатскими лопатами перебросали с места на место миллионы тонн ржавой приднестровской земли, много веков назад топтала восьмисоттысячная армия персидского царя Дария. Утомленный бесплодной погоней, Дарий умолял скифского царя вступить с ним в битву: "Странный человек! Зачем ты бежишь все дальше и дальше? Если чувствуешь себя в силах сопротивляться мне, то стой и бейся, если же нет, то остановись, поднеси своему повелителю в дар землю и воду и вступи с ним в разговор". Скифский царь отвечал: "Никогда еще ни перед одним человеком не бегал я из страха, не побегу и перед тобою; что делаю я теперь, то привык делать и во время мира, а почему не бьюсь с тобой, тому вот причины: у нас нет ни городов, ни хлебных полей, и потому нам нечего биться с вами, страшась, что вы их завоюете или истребите. Но у нас есть отцовские могилы: попробуйте их разорить, так узнаете, будем ли мы с вами биться или нет..."
За Днестром в 1944 году у немцев было столько же солдат, сколько было их у Дария. Окопались, ждут...
Ждем и мы. Нет скирды – а их раскидано бог знает сколько, – под которой не затаился бы наш танк. Свернулись армейские и фронтовые госпитали, под прикрытием темноты двинулись к самому Днестру. А ночью на Днестровской переправе на первый взгляд тише, чем днем, даже махонький огонек не блеснет. Кажется, что все спит и комендант видит третий сон. На самом деле льется здесь в три ручья солдатский пот. Уже за километр до реки машины выключают моторы. Толкают их солдатские руки.
Команда еле слышная:
– Раз-два, взяли!
Тащат машину по выщербленному настилу моста, тужатся, выталкивают на тот берег в кусты, а то и подальше – в лес. Машина за машиной, а меж ними скользящие, тяжело дышащие тени: артиллеристы несут на плечах снаряды до самых позиций, накапливая боекомплект за боекомплектом.
Меня срочно вызвали к командующему.
Дежурные офицеры направили мою машину куда-то за поселок, на четвертом километре остановили. Майор с повязкой на рукаве придирчиво сличал мое лицо с маленькой фотокарточкой на первой странице офицерского удостоверения, посмотрел в свой список.
– Машину остановите под кленами, а сами шагайте от маяка к маяку.
Через каждые сто метров – офицер. Снова проверка документов.
Иду долго, прохожу кустарник и оказываюсь на широкой поляне, прикрытой сверху кронами старых дубов. На свежих сосновых скамейках – генералы, старшие офицеры.
Кто-то тянет меня за рукав:
– Садись, комполка.
Генерал Епифанов, комдив, радушно принимавший пополнение за Днестром.
– Здравия желаю, товарищ генерал.
– Ну и поджарили вас! Слушайте, по знакомству подбросьте-ка мне полсотни сержантов, – толкнул он меня в плечо.
– Мы за каждым сержантом сами гоняемся.
– Вымели, значит, начисто? Жаль. Тимаков, пойдете ко мне на полк?
– С удовольствием, да хозяин не пустит.
– А просился?
– Боюсь даже заикнуться.
На поляне затихло – появились командарм и генерал Бочкарев, потом начштаба Валович со свернутой картой. Мы поднялись. Командующий взмахом руки велел нам сесть, а сам посмотрел поверх голов:
– Комендант?
– Здесь комендант!
– Обеспечение?
– На триста метров вокруг ни души.
– Всё. Идите и сами за линию. – Командарм оглядел нас каждого в отдельности. – Товарищи командиры соединений, отдельных частей, начальники служб, – наступление!
Вздох облегчения: наконец-то! Командарм степенно продержал:
– Где, когда, кто и как – узнаете в положенное время, в положенном месте. О противнике. – Он подошел к карте, которую успел развернуть начальник штаба. – Внимательно приглядитесь. – Он кончиком указки очертил позицию за Днестром... – Решается судьба Балкан, судьба сателлитов врага Румынии, Венгрии! – заканчивал командарм. – Возможно, противник не верит в нашу наступательную силу. Сколько можно наступать! Наступлениям нет конца! Мы, по его расчетам, должны выдохнуться... Есть немало доказательств тому,, что противник, ожидая наступления на нашем фронте, недоучитывает его мощи, считает: у него достаточно сил, чтобы не пустить нас дальше Прута и Дуная...
Я возвращался в полк, вспоминая генеральскую карту, старался зрительно представить местность, на которой развернется сражение, может быть одно из величайших в этой гигантской войне. Леса, дороги, холмы, города, поселки. Странный рельеф – противник почти всегда будет над нами. Это его преимущество. Но мой партизанский глаз видел и кое-что другое: буераки, балки, перелески – есть свобода для внезапного маневра усиленных подразделений.
По приказу генерала Валовича наш полк форсированным маршем подошел к главной переправе через Днестр и рассредоточился в прибрежном районе вправо и влево от дороги. От моего наблюдательного пункта, с которого хорошо проглядывается во всю глубину Кицканский плацдарм, в батальоны и спецподразделения потянулась телефонная связь. Полк окапывался по линии, лежавшей вдоль Днестра.
26
Душные августовские ночи с ароматом вянущих трав стояли над позициями. С деревьев в окопы падали перезрелые яблоки.
Несмотря на тишину и кротость небесного купола с круглой, картинной луной, невозможно было изгнать навязчивую мысль, что смерть и жизнь уже стоят с глазу на глаз. Хотелось, чтобы все началось как можно скорее, но проходила еще одна ночь – и новый день приносил лишь прежнюю тишину и прежний покой. В топях на том берегу Днестра квакали лягушки, на пустых дорогах шальной ветерок взвихривал пыль, рассеивая ее по степи.
В десять часов утра 19 августа 1944 года узнали, что наступление назначено на завтра.
Солнце, как и вчера, катилось по знойному небу, на позициях – наших и немецких – шла обычная перестрелка. Но теперь время мчалось на всех парах. Ночь подкралась внезапно. Никто не спал: на наблюдательных и командных пунктах, на артиллерийских позициях и полевых аэродромах, в окопах и землянках тысячи офицеров еще раз уточняли ориентиры, стыки между частями, сигналы взаимодействия различных родов войск; солдаты писали письма. Кто тайком уговаривал судьбу, молясь богу, кто менял белье... Что же готовит завтрашний день?
Наш запасный полк вкапывался в землю на левом берегу. Я обошел батальоны и долго стоял, вглядываясь в Заднестровье, – хотел предугадать, когда же грянет артиллерийско-бомбовый удар по немецким позициям. Но там, как и вчера, шла обычная пляска сигнальных ракет, вспыхивала редкая перестрелка; на переправе – безлюдье.
– Распластался на земле, еще не остывшей от дневного зноя. И река и кусты на берегу были залиты густым лунным светом и казались неживыми. Сейчас у меня не было той отчаянной занятости, которая еще вчера и позавчера захлестывала. Теперь время есть и подумать, но мозг мой будто заключили в панцирь, через который не просачивалась ни единая живая мыслишка. Гулко стучит сердце – отдается в висках. Пытаюсь вернуться к прошлому, к чувствам, которые владели мною у материнской могилы, на полустанке, откуда открывались мглистые дали Пятигорья, и на берегу Кубани, где стоял я у дуба с выжженной сердцевиной.
Кто-то приближался ко мне.
– Ты, Ашот?
– Это я. – Рыбаков улегся рядом. – Ну как, командир?
– А черт его знает... Будто на полном ходу с седла выбросился...
– Ты? Удивительно... Что-то сегодня у всех не так, как вчера. Ходил из окопа в окоп и людей не узнаю. Даже самые шумливые попритихли.
– Так всегда, Леонид. Бывало, в партизанской землянке допекают друг друга – кажется, и врагов злее нет. А в засаде из смертельного огня один другого вытащит.
– А верно!.. У моего бати присказка была: "На межах – до грани ссоры да брани, а волка гуртом бьют"...
Над нами бесшумно планировал самолет, казавшийся гигантской ночной птицей. Мы следили за тем, как он со снижением шел на восток. Рыбаков сел по-турецки.
– И я вроде сам себе чужой... Как бы с лету в яму не угодить.
– Перескочишь, замполит.
– Дай-то бог!..
– Я малость вздремну, Леонид, а ты присмотрись-ка к медикам – как у них там?
Он скрылся за кустом можжевельника, а я еще постоял на берегу, потом шагнул в сторону землянки и... замер: ночная тишина раскололась на тысячи кусков, на землю и небо обрушились гул и рев такой страшенной силы, что берег под моими ногами закачался.
Началось!
На левом фланге плацдарма что-то запылало. Густые полосы огня бегут на запад и, кучась, поднимаются багровой стеной. Гулкая горячая волна с Днестра размашисто катится в степь, за ней еще одна, еще...
Пушки бьют впереди, слева, справа, даже из-за спины летят горящие стаи реактивных снарядов.
Ровно двадцать минут грохочет ночь, разрываясь на части, а потом внезапно затихает, лишь воздух перенапряженно дрожит.
Взлетают в небо ракеты, и через считанные секунды доносится приглушенное расстоянием солдатское "ур-ра". Ночная атака? Солдатский крик заполняет пространство с левого фланга до самых болот.
На линии немцев густеют вспышки выстрелов, стаи трассирующих пуль летят на нашу сторону. Я улавливаю басовитый язык пулеметов "МГ-42".
"Ур-ра-а" еще кричат, но тише, тише, тише... А пулеметный перестук у немцев набирает силу, в небо вплетается ухающий гранатный перекат, словно по мокрой ухабистой земле волокут только что сваленные деревья.
Полностью умолкает артиллерия, и на плацдарм возвращается прежняя тишина. Но оживает переправа: крики, лошадиное ржание, вой моторов, надвигающиеся с того берега.
Спускаясь к реке, останавливаю первую попавшуюся пароконную повозку:
– Старший есть?
– Вроде я – ездовой.
– Что там, на левом фланге?
– Наши пушки дюже по ихней стороне молотили, значит. А как пошли мы в атаку – мать честная! Ждали, гады...
– Оборону-то прорвали?
– Куда там, не подпустил фриц, вот какая штука. Пшел! – стеганул кнутом: лошади натянули постромки.
Еще повозки, санитарные машины. Многовато раненых. Что же там надумали? Ночная разведка боем?
Бежит ко мне Ашот:
– Захлебнулась атака?
– Пока не ясно.
Идем в землянку – поближе к телефону.
Ашот зажал подбородок единственной рукой, потом рубанул ею по воздуху:
– Что мы гадаем? У Толбухина какой запас, знаешь?
Входит помначштаба капитан Карасев, докладывает:
– Вас ждет на проводе Четвертый.
Беру трубку:
– Двадцать первый слушает.
– Семья на месте? – Голос у Валовича спокойный, обыденный.
– Так точно.
– К утру двадцать второго со всеми потрохами быть в моем доме.
– Через порог не пустят, товарищ Четвертый.
– А ты проскочи!
– Понятно.
Ашот прислушивается к интонации моего голоса.
– Порядок? – Весь подался ко мне.
– Валович в норме.
– Хорошо! Ночная разведка боем, не более того.
Я понемногу успокаиваюсь; прилег и сразу же крепко засыпаю. Сплю без сновидений. Открываю глаза_день и... тишина.
– Проспал? – вскочил на ноги.
Ашот недовольно махнул рукой:
– Седьмой час, а молчок. Когда же начнется, командир?
Странно: приказа об отмене решающего наступления не было. Может, он до нас не дошел?
Вдали, на плацдарме, купол монастырской церкви. На нем играет солнце, и видно даже, как голуби летают. Начинался зной; на дороге, спускающейся к переправе, поднялся смерч, кружась двигался к Днестру, но не дошел – угас, лишь медленно кружились над землей обрывки бумаги.
Я пошел к берегу, выбрал удобное для наблюдения место, поднял бинокль... Ей-богу, ничего за ночь не изменилось, кроме леса на левом участке – он потемнел и еще дымил.
Пришел с судочками Касим, расстелил на сухой траве салфетку.
– Кушать надо, командир.
Неожиданно над нашими головами послышался пронзительный, какой-то скулящий визг. Инстинктивно распластались на земле. И тут же ахнуло одновременно с берега, на плацдарме и в степи за спиной. Все вокруг начало окутываться густым дымом и исчезало из поля зрения. Видимой осталась часть неба, где в несколько этажей шли на запад самолеты: звеньями, эскадрильями, целыми полками.
Звуки слились, ощутимо вздрагивала земля, не столько услышал, сколько почувствовал уханье тяжелых гаубиц. Сериями летят на запад огненные "сигары" – бьют реактивные установки. Взрывы десятков тысяч снарядов и авиационных бомб сжирали кислород, и вскоре трудно стало дышать. Ткнулся лицом в землю, хватая запекшимся ртом пропитанный пороховым угаром воздух. Грохот, треск продолжались целую вечность, земля качалась, как палуба в зыбком море. Артиллерийско-бомбовый удар длился пятьдесят минут, затем оборвался, и глухая тишина показалась куда страшнее кромешного ада.
– Начинается атака! – заорал Ашот, ударив кулаком по земле.
Гул надвигался исподволь, будто из глубины земли. Снова надрывно заголосили батареи, бросая теперь снаряды в глубину немецких укреплений.
– Идет пехота! – Ашот приложил ладонь к уху. – Точно, пошла, матушка!
Я не слышал криков атакующих, но как-то ощущал движение на линию немцев и то, как пехота вклинивается в оборону, – после такого артиллерийско-бомбового удара там, у немцев, не должно быть ни одной живой, огневой точки. Уже пора идти танкам. Жду: вот-вот завоют моторы и залязгают гусеницы. Ну!








