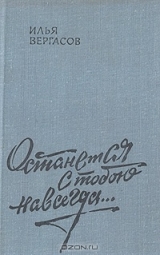
Текст книги "Останется с тобою навсегда"
Автор книги: Илья Вергасов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Я поднял колонны и бегом бросил к переправе. Солдаты бежали мимо матерившегося коменданта, просачиваясь менаду машинами, скапливаясь на том берегу. В лесу выстраивались роты. Недоставало девяти человек. Но посланный офицер привел всех живыми и целыми.
Леонид Сергеевич молчал. Губы его заметно подрагивали.
– Впервые, что ли?
– Нехорошо как-то получилось.
– Не кайся, не такое бывает. – Я понимал: ему тяжело. – Леня, ты посмотри вправо.
Целая полоса леса была выбита немецкими бомбами.
Я не стал задерживать Рыбакова, отпустил в полк. Уехал он с поникшей головой. Напрасно.
Пополнение принимал рослый генерал Епифанов. Он вглядывался чуть ли не в каждого солдата.
– Ты, Гаврилюк? Ба, кого вижу! Здоров, Тахтамышев! – Генерал повернулся ко мне: – Откуда моих хлопцев набрали?
– Сами напросились.
– Уважили. А то обкатаешь солдата, обстреляешь, а как попадет в госпиталь – пиши пропало. А вы уважили – хлопцы на подбор!
В генеральской землянке уютно: ковры, кровать с периной, электричество. Генерал рассмеялся:
– Натаскали, сукины сыны! Как у солдата? Хоть день, да мой...
Вошел молоденький лейтенант:
– На проводе генерал Валович.
Епифанов взял трубку:
– Седьмой слушает... Получил. И, скажу тебе, порадовал... Не учи, не учи – сберегу. Передаю. – Он протянул мне трубку: – Требуют вашу милость.
Голос Валовича был деловым:
– Загляни ко мне. Жду в двенадцать ноль-ноль.
Штаб армии находился в старинном молдавском селе. Белые хаты, крыши под камышом, местами под дранкой, окна с наличниками, стены снаружи, как и внутри, пересиненные.
Генерал пожал руку и без церемоний заявил:
– Остаешься в полку. А теперь слушай повнимательнее. Простоим в обороне долго, сколько – не знаю, но долго. Армии нужны грамотные младшие командиры. Много нужно. Когда сможете дать?
– Через два месяца, товарищ генерал.
– За три месяца лейтенантов готовят. Полтора, не больше. Учти, сам командарм будет принимать!..
17
Я с ненавистью смотрел на трубу, торчавшую над поселком, на ряды бочек с выжимкой, тянувшиеся вдоль длинной стены винодельческого завода. Бочки убывали – их крали: из выжимки гнали самогон. Представитель Винтреста, которому принадлежал завод, старался встретиться со мной не менее двух раз в день: утром, когда просыпался полк, и вечером, когда над поселком лихо перекликались солдатские гармони. Он пытался доказывать очевидное: что сырье для производства винного спирта растаскивается, что из подвалов исчезают бочки с уксусом. Мне очень хотелось убрать из поселка батальон Краснова. Но куда? Где найдешь более удобное место для подразделения с таким громоздким хозяйством: банями, дезинфекционными камерами, вещевыми складами?
Я, Рыбаков и Сапрыгин подыскивали поле для тактических занятий. Молодой лесок, который раскинулся за толокой, от майского тепла забуйствовал, и под его кронами можно спрятать целый батальон. Чуть поодаль, за оврагом, еще лесок. Чем не лагерь?
– Ну что, товарищи офицеры, поднимем полк на летнюю стоянку?
Сапрыгин даже головой замотал:
– Никак нельзя. Ни воды, ни света...
– Сколько же вы, Александр Дементьевич, в армии прослужили?
– Двадцать с хвостиком, Константин Николаевич.
– И всегда над вами электрический свет полыхал и в кранах вода журчала?
– А разве это предосудительно?
– Я совсем о другом. – Посмотрел на кирпичную трубу, торчавшую над поселком. – Мой комполка в мирные дни поднимал полк по тревоге и после сорокакилометрового броска приказывал разбить лагерь. Строили его – ладони в кровавых мозолях. А потом жили – не тужили, из растяп солдат делали. И воздух был над нами чист. – Я посмотрел на часы. – К шестнадцати ноль-ноль прошу собрать офицерский состав полка. А пока, – я натянул повод, – на рекогносцировку!
Весна! Да неужто передо мной те же офицеры, что были на толоке? Белые подворотнички, отутюженные брюки, сапожки надраены – хоть смотрись в них, как в зеркало.
Расселись в учительской, ждут, что скажет начальство.
Не успел я и рта раскрыть, как вошел старший лейтенант Петуханов, посмотрел на часы.
– Прошу прощения, товарищ подполковник. Опоздал на четыре минуты, ровно на четыре...
Он стоял по всем правилам, только в глазах предательский блеск.
– Вы пьяны?
– Никак нет! У меня, так сказать, день ангела...
– Выйдите, старший лейтенант.
– А меня гнать не надо. Мне сам генерал Толбухин орден вручал...
– Дежурный по полку, попросите старшего лейтенанта Петуханова удалиться, – приказал я, сдерживая себя.
– Сам уйду, чего уж. – Поворот кругом, слегка наклон вправо – и с силой хлопнула дверь.
Нависла неловкая тишина.
– Комбат Шалагинов!
– Есть Шалагинов! – Шагнул ко мне, откинув непокорный чуб, который тут же улегся на прежнее место.
– Давно стриглись, капитан?
– Так растут же, товарищ подполковник...
Кто-то в зале хихикнул и тут же замолк.
– Старшего лейтенанта Петуханова от командования ротой отстранить и направить в армейский резерв.
– Лучший офицер батальона...
– Садитесь, комбат. Товарищи офицеры! С завтрашнего дня – лагерная жизнь...
* * *
Расходились молча. Кое-кто косо поглядывал на меня. Рыбаков шел рядом, угрюмо помалкивая.
– Перегнул, что ли?
– Ну выговор бы, а то бац – в резерв! Размахивать кнутом не самый лучший прием.
– Ну хорошо, хорошо, подумаю... А сейчас пойдем ко мне. У меня ефрейтор – чудо! Да пошли же, – потянул Рыбакова за собой.
Касим Байкеев с таким усердием взялся за службу, что я уж и не рад был, что вспомнил о нем. Хозяйничал, без зазрения совести командовал ефрейтором Клименко. Тот, бедолага, вытаращив глаза, выбегал из нашей хатенки и возвращался то с охапкой сушняка, то с двумя цибарками, доверху наполненными водой. В моей комнате навели такой порядок, что я боялся и шаг ступить. Нечаянно швырнешь окурок на пол, встретишься со взглядом Касима и скорей поднимать.
Нас ждал накрытый стол и Касим с полотенцем в руках. Мы с удовольствием умылись.
– Кури одна-другая минута, я сичас.
Мы сели на завалинку, подставив лица солнцу.
– Разбитной парнишка, – сказал Леонид.
– Да, хлопотливый.
– Вот у Стрижака был специальный повар, столичный.
– Из "Иртыша", что ли?
– Шнебель-клопсы делал – пальчики оближешь.
– Шнебель-клопсы, выезды, медички... Давай, замполит, разоружаться.
– Начать с меня хочешь?
– Сам начнешь.
Леонид Сергеевич замялся, что-то хотел сказать, но в это время появился Касим:
– Пожалуй, командир, пожалуй, комиссар, иди салма кушать.
Салма – лапша на густом курином бульоне, со свежим укропом – сама просилась в рот. Потом Касим подал еду под диковинным названием перемечь вроде беляши, но вкус, вкус! Сок по подбородку так и течет. Леонид Сергеевич, видать, едок отменный. Касим едва успевал подавать перемечи и откровенно радовался, что его кухня пришлась нам по вкусу.
Поели, покурили всласть. Леонид поднялся с места и посмотрел в окошко:
– Иди-ка полюбуйся.
Под тополем в выжидающей позе стоял капитан Шалагинов. Чуб укорочен, сам подтянут, собран.
Я распахнул окошко:
– Капитан, шагайте к нам!
Вошел, лихо щелкнул каблуками.
– Садись, комбат.
Он несмело опустился на краешек табуретки, продолжая держать руки по швам.
– Ты и у себя так сидишь? Командир батальона, черт возьми! Восемьсот подчиненных...
Умостился поплотнее, одним духом выпалил:
– Прошу старшего лейтенанта Петуханова оставить на роте!
– Как поступим, комиссар?
– Как решишь, ты командир.
– Пусть командует... пока. Приеду к нему в гости – решу окончательно.
– Есть! – Шалагинов козырнул и выскочил из хатенки.
– Дети, честное слово, – улыбался Рыбаков.
* * *
Сколько же в сутках минут? Двадцать четыре на шестьдесят. Десять на шестьдесят – шестьсот, а потом...
Клюю носом в седле, то и дело спотыкается мой дружок Нарзан, а бедолага Клименко свалил голову на шею коня и откровенно храпит.
Неделя – кошмар... Лица, лица, лица. Господи, со сколькими же я переговорил! Сколько солдатских судеб прошло. В полку восемь тысяч личного состава, а отобрать тысячу оказалось труднее, чем из одной необученной роты сформировать учебный взвод. За эту неделю офицеры мои сбросили вес, как сбрасывают после стакилометрового марша. За своей спиной я как-то услышал: "Бешеный"...
Еду инспектировать Петуханова, хотя тело просится в землянку, на лежак со свежим сеном. Блеснул родник. Я с коня – и голову под струю. Ух как обжигает!
– Старина, давай-ка под прохладу!
– Та вона щекоче...
Километровый аллюр окончательно сбил с меня сон, в роту Петуханова прибыл в форме.
– Смир-рно! Товарищ подполковнкк, вторая рота учебного батальона на пятиминутном раскуре! – громогласно докладывает Петуханов.
– Построить!
Слежу за бегом стрелки секундомера. Пятьдесят пять секунд. Молодцы! Иду вдоль строя, заглядываю каждому в глаза. Подтянуты, плечо к плечу. Спросил у ротного:
– Чем собирались заниматься?
– Штыковым боем.
Взводы рассыпались по отделениям. Раздаются команды: "Коли!", "С выпадом вправо, коли!" Голоса молодые, задорные. Двигаются споро, с жаром. Среди всех выделяется огромная и в то же время легкая, пружинистая фигура Петуханова. Вот он взял винтовку и прямо-таки атлетическим приемом показал, "как надо".
Обедал с курсантами, и надо сказать, что набившие оскомину американские консервы с гречневой кашей оказались вкусными.
Передохнули с часок, потом приказал выстроить роту в полном боевом; Ни шума, ни толкотни. Пятикилометровый марш за час, отставших не было. Подкачали позже – в стрельбе. Петуханов не отчаивался:
– Дайте неделю – гвоздить будем по черному кругу!
Вернувшись в лагерь, после чистки оружия пели строевые песни. Не очень ладно, но от души. Запевал сам Петуханов.
Остался до отбоя – хотелось поближе узнать его. Он не удивился, сказал как равный равному:
– Сварганю ужин – на сто богов!
Интересно: все у него как по писаному.
– Готовился к встрече, Петр Иванович? – Смотрю в глаза. – Знал, когда явлюсь?
– Никак нет.
На фанерном ящике появилась крохотная клеенка, консервы, вскоре писарь внес жареную картошку. Ротный аппетитно потер ладонь о ладонь, спросил:
– Ну как?
– Обойдется. – Я понял, что стояло за его вопросом.
– В гости со своим уставом не ходят, так, товарищ подполковник?
– Нажимай на еду.
Лицо моего хозяина стало обиженным, как у ребенка, которому неожиданно отказали в сладком. Мне было его жаль, и я томился симпатией к нему.
– Ну и повар у тебя – пальчики оближешь.
– Так сам подбирал.
– А ты все же хвастун.
– Я волжанин, у нас – размах. Стерляжью уху едали?
– Не приходилось.
– Жизнью обойдены, товарищ комполка. Бывало, под грозу сети закинешь есть рыбка! Уха тройная, Ее в деревянную посудину, с лучком, с чесночком, ну и водочки, конечно. А как же! Объедение! Вот кончим войну – к нам на Волгу, в Жигули. И женка у меня – во! А пацанки – волосы чистый лен. У нас народ веселый, озорной; фамилии: Грабановы, Аркановы, Разгуляевы, Петухановы. Иной как свистнет – оглохнешь. Живут у нас весело и рассеянно...
– А без водки можешь? – перебил его идиллические воспоминания.
– Все могу. Могу даже быть счастливым от самого себя!..
А что? Вообще-то, товарищ командир, я тут подзастыл...
– Потому и куражишься?
– Шут его знает – многие пьют, а я попадаюсь. Натура подводит. Мы жигулевские, у нас на пятиалтынный квасу – на рубль плясу. Просторные. От Волги, чать...
* * *
Не спится, думаю о Петуханове. Крепкий мужик, притягательный. "Живут у нас весело и рассеянно". Рисуется или вправду "подзастыл"? Четвертый год войны, краснознаменец, а вот дальше роты не пошел. Почему?.. Повернулся на бок, ладонь под подушку и незаметно уснул.
– Ой, начальник, беда!
Я вскочил от крика. Касим протягивал мне телефонную трубку.
– Что такое? В чем дело?
– Докладывает командир приемно-распределительного батальона старший лейтенант Краснов, На винном заводе на посту убит наш часовой.
– Убит? Кем? Как?..
Молчание.
– Кто убил часового?
– Старший лейтенант Петуханов...
– Что-о?!
18
Ночь темная, звезд нет. Нарзан тянет повод. Копыта зацокали по мостовой. Под черным силуэтом трубы мелькнул огонек, выхватил из ночи ряды бочек, часть заводской стены, упал на склонившегося человека.
– Сюда, товарищ подполковник, – позвал встревоженный голос.
Спешился. Медленно иду по каменистому настилу, освещенному узким пучком света, который тянул меня как на веревке.
Молча расступились, свет упал на молодое солдатское лицо. Оно смотрело в черное небо и было до удивления спокойным. Кто-то за спиной шепнул:
– Одним ударом, наповал...
– Где Петуханов? – спросил у Краснова.
– У меня в штабе.
Резко толкнув дверь, я вошел в полутемную комнату. Свет от шестилинейной керосиновой лампы косо ложился на сгорбившегося Петуханова. Он даже не поднял головы.
– Встать!
Покорность, с которой он стоял передо мной и которая была так несвойственна ему, сразу же меня обезоружила. В его осунувшемся, посеревшем лице, во всей как бы сразу уменьшившейся фигуре была полная отрешенность от всего, окружавшего его. Я физически ощутил, как на меня накатывает непрошеная жалость.
– Закури, – протянул ему пачку папирос.
Он отрицательно качнул головой.
Я вышел в ночь, все такую же беззвездную и тихую. Старший лейтенант Краснов подвел мне коня.
– Вызовите полкового врача и обеспечьте необходимую охрану.
Вдев ногу в стремя, я с трудом поднял отяжелевшее тело в седло. Отпустил повод. Нарзан сам привез меня в лагерь.
Клименко, набросив на плечи одеяло, ждал меня у порога землянки. Взяв повод, увел коня в стойло.
Светлели оконные проемы, под пробуждающимся ветерком качалась пышно расцветшая белая сирень...
Двое суток шло следствие, а на третьи в полк прибыл армейский военный трибунал.
Зал суда крошечный, но без толкотни вместились в него все офицеры полка. На возвышении, за столом, крытым красным полотнищем, сидел военный трибунал во главе с председателем – полковником. Он сказал:
– Введите подсудимого.
Петуханов внешне казался спокойным, но в его глазах было то, что бывает в глазах русского человека, когда он, смирившись со своей участью, приготовился принять все неминуемое. На вопросы отвечал ясно, коротко, ни в чем не выгораживая себя"?
– Я вас не понимаю, что значит "пропустил на радостях"?
– Выпил, значит.
– И что же это были за радости?
– Командир полка инспектировал роту, похвалил нас.
– И вы ему преподнесли подарочек?
В зале никто не улыбнулся.
– Что же дальше?
– Пошел к хозяйке, у которой жил до лагеря. Выпивки у нее не нашлось, а нутро жгло. Пошел к винзаводу...
– А что вас повело туда?
– Слышал, что там припрятан винный спирт...
...Окрик часового: "Стой, стрелять буду!" – остановил его. "Слушай, парень, я на минутку, я только..." – умолял его Петуханов. "Не подходи, выстрелю!" – щелкнул тот затвором.
"Ах ты, сопляк, в кого стрелять?! В меня?!" Слепая, неудержимая сила бросила его к постовому, стоявшему у стены. Он вырвал из его рук винтовку ее нашли метрах в двадцати, развернул плечо и пудовым кулаком ударил в висок... Часовой медленно ничком повалился на землю. Петуханов перевернул его на спину, лицом к небу – тело было тяжелым, неживым – и крикнул: "Эй, люди, люди!" Побежал к той части здания, где спал комбат Краснов, забарабанил в дверь: "Митя, Митя... Я убил человека"...
Читали приговор военного трибунала.
Расстрел!
Офицеры расходились. Многие шагали молча, угрюмо...
Утром меня и замполита вызвали к командующему. Генералы Гартнон, Бочкарев, полковник Линев молча смотрели на нас, стоявших навытяжку перед ними.
После долгого молчания Бочкарев с горечью сказал:
– Перед нами выбор: расстрел или штрафная рота.
Командир полусогнутым костлявым пальцем ударил по столу.
– Пусть и они думают! – кивнул на меня и Рыбакова. – Завтра в десять ноль-ноль быть здесь. Скажете свое мнение: расстрел или штрафная рота.
Тянусь к очередной папиросе.
Петуханов... Волгарь, красив как черт, не из робких. Кое-кто из офицеров уверен: не поднимется на него карающий меч, смягчат приговор пошлют в штрафное подразделение. А там он не пропадет – не из таких!
А из каких? Что я знаю о нем? Инициативный дежурный по полку, опытный ротный офицер... А под глазами мешки – пьет... И та ночь... Молоденький солдат, мертвым лицом уставившийся в небо. Молоко еще на губах не обсохло. В атаку таких с умом посылать надо – их часто убивают в первом бою...
Ничто не остановило Петуханова... "Меня гнать нельзя – мне сам генерал Толбухин орден вручал... Могу быть счастливым от самого себя!" Не это ли преувеличенное представление о значении собственной личности, о том, что ему все позволено, все доступно, и полное равнодушие к чьей бы то ни было судьбе, кроме своей, привело его к такому трагическому финалу? Ведь он не только человека убил, нет – он замахнулся на полк, на своих товарищей офицеров-фронтовиков, многие из которых пролили кровь на поле боя, а теперь учат солдат военному мастерству...
Думаю, думаю... На руке тикают часы. Снял их, сунул под подушку. Затихли все звуки, лишь где-то далеко за балкой ухает сова... Не спится. Сел, обняв колени, смотрю в черный угол землянки. Сижу так долго-долго, в смутном состоянии между явью и сном.
Торопливо накидываю на плечи шинель и выскакиваю на полковую линейку. Метрах в пятистах – землянка майора Астахова. По годам он старше меня, опытнее. Тогда, на толоке, показался мне человеком независимым, мыслящим самостоятельно. Как он решает судьбу Петуханова? Его он наверняка знает лучше меня.
– Разрешите, Амвросий Петрович.
– Одну минуту, оденусь.
– Ненадолго загляну. – Откидываю плащ-палатку, закрывающую вход в землянку.
Астахов зажег свечу. Он в гимнастерке, которую наспех натянул на себя, в кальсонах; тощие ноги свисают с высокого лежака.
– Позвольте одеться, я так не могу.
– Извините. – Я отвернулся.
Он быстро оделся.
– Все в порядке, Константин Николаевич.
– Трудно, Амвросий Петрович... Завтра ждут, что я скажу о Петуханове. Вот побеспокоил среди ночи, не обессудьте...
– Я закурю, пожалуй.
Он пальцем вытер запекшиеся уголки губ, потянулся к кисету, скрутил козью ножку. Докурил ее до конца, смял окурок. Молчит...
– Я, конечно, понимаю, – начал я, – то, что совершил Петуханов...
– А если понимаете, товарищ подполковник, так в чем же тогда сомневаетесь?
– Боюсь высказать поспешное, неправильное мнение...
– Считаете, что трибунал допустил ошибку?
– Но тогда почему некоторые офицеры сочувствуют Петуханову?
– Их не так уж много. Одни за себя стоят – за право застольного приятельства. Другие жалеют. У нас любят жалеть. Жалеть куда легче, чем понять, что стоит за таким трагическим случаем, и принять правильное решение... Прошу прощения, товарищ подполковник, но уже далеко за полночь...
На рассвете услышал голос замполита:
– К тебе можно?
– Заходи.
Лицо у Рыбакова серое, под глазами черные круги.
– Что сегодня скажем, командир?
– А вот так: у командарма каждый выложит свое. Ты – свое, я – свое.
– Разве так можно? Мы же в одной упряжке...
– В одной, верно. Только ты к своему хомуту давно притерся, а на моей шее кровавые ссадины...
Рыбаков взял со стола стакан с водой, отхлебнул глоток и поперхнулся. На глазах выступили слезы.
– Я со всей ответственностью заявляю: мы обязаны дать Петуханову возможность кровью искупить свою вину. Главное в жизни каждого человека не совершить ошибку, исправить которую невозможно! – Замполит со страстью, которой я в нем не подозревал, наступал на меня. – Ты же знаешь Петуханова. На нем нельзя ставить крест!
– А поймут нас те, кому завтра шагать в бой, простят нам того, убитого? Штрафной – это ведь все-таки помилование...
– Я лучше тебя знаю полк!
– Знал бы – человека в полку не убили бы.
– Вали все на меня, давай! Только настанет час, когда ты пожалеешь, что пошел на такой шаг. Сам себе не простишь.
– Запугиваешь? Все ходишь кругами, кругами... Иди к себе! – Я выскочил из душной землянки.
Шагаю по росистому полю. На северо-востоке натужно выползает мутный солнечный диск. На окраине линейки т – у палатки дежурного по полку – на скамейке сидел лейтенант Платонов. Вскочил, пытается отдать рапорт.
– Не надо. Садись, лейтенант, покурим лучше.
По-разному сидят офицеры перед начальниками. Одни на краешке стула, готовые тотчас вскочить; другие умащиваются поплотнее, довольные тем, что их усадили. Платонов сидел с достоинством. Серые, чуть навыкате глаза смотрели серьезно, умно.
Он докурил. Молчание затягивалось.
– Раны у тебя тяжелые?
– Разные...
– Водку пьешь?
– Бывает...
– Петуханов говорил: "Многие пьют, а я попадаюсь".
– Попадается тот, кто глаза мозолит... – Посмотрел на часы. – Через десять минут побудка. Разрешите выполнять обязанности?
Я спешу в свою землянку – скоро нам с замполитом подадут лошадей.
Ясно одно: личные симпатии и антипатии к Петуханову оставь при себе.
Мы молча ехали вдоль лесной полосы, цвирикали какие-то птички. Далеко за Днестром ворочался фронт.
В кабинете командарма были Бочкарев, Линев и Валович, который, опершись локтями на приставной столик, что-то вычерчивал на карте.
Гартнов, рассматривая меня и замполита, кашлянул в кулак.
– Думали? Говорите! Ты, командир?
– Расстрел!
Валович удивленно поднял голову.
– А ты?
Рыбаков, вобрав воздух, выдохнул:
– В штрафной! Так думают многие офицеры полка.
Гартнов ладонью ударил по столу:
– Митинговал!.. Расстрел! В присутствии офицеров полка расстрел! Всё, идите!
У меня не было сил тронуться с места.
– Еще что, подполковник?
– Прошу привести приговор в исполнение не в зоне части.
– Выполнять приказ! – Командующий надел очки, по-стариковски уселся, посмотрел на Валовича. – Прошу оперативную сводку...
...Солнце – кубачинский медный таз – плыло в небе, исподволь подсвечивая акации, молодо пляшущие вокруг огромной травянистой поляны.
Офицеры полка собирались под деревьями. Молчали. Не курили.
Приглушенный сапрыгинский голос:
– Товарищи офицеры... Ста-а-а-нови-и-ись! – Он вытянул вперед правую подрагивающую руку.
Выстраивались бесшумно.
Над поляной птичий гомон. Строй до колен утопал в высокотравье.
Головы всех без команды повернулись влево: на излучину полевой дороги выползала плоская телега. На ней на клоке сена сидел Петуханов. Длинные ноги его качались в такт ходу упряжки. Телега остановилась метрах в ста от строя. Комендант штаба полка с автоматом навскидку подошел к Петуханову. Тот соскочил, заложил руки за спину, не спеша оглянулся вокруг.
Его поставили перед строем – выбритого, с порезом на верхней губе, аккуратно залепленным бумажечкой.
Майор из военного трибунала четко и громко прочитал утвержденный командармом приговор...
...На рассвете Нарзан нес меня степной дорогой. Невольно взгляд мой остановился на свежей могиле. Сопровождавший меня Клименко украдкой перекрестился.
19
Подъем, зарядка, завтрак. Все минута в минуту, как и положено по распорядку дня. По полковым сигналам часы сверяй.
Усердные команды взводных и старшин раскатывались по полям, на солдатских спинах выбеливались гимнастерки. В двадцать два ноль-ноль батальоны засыпали. От мощного храпа, казалось, шевелились листья на деревьях. Меж землянками и лагерными палатками тихо шагали дневальные стерегли покой.
Порой мне казалось, что здесь работает хорошо смазанная и налаженная машина и я будто знаю, как действует каждая ее часть. Но было и такое ощущение, что этот мощный механизм вертится-крутится независимо от того, нахожусь я при нем или нет.
Знаю: под лежачий камень вода не течет. Дело делать – главное. Замполиту – свое, Сапрыгину – маршевые роты, а мне – поле, стрельбище, строевой плац. В боевых полках ждут грамотных младших командиров. Ты помнишь, кем был для тебя, солдата-первогодка, отделенный? На всю полковую жизнь ты смотрел его глазами до тех пор, пока он, твой самый непосредственный начальник, не научил поле переходить, окоп вырыть в полный рост, все три пули положить в черный круг мишени. Только тогда ты увидел и понял, как по фронту разворачивается взвод, как шагает рота на встречный бой.
Светает, на кленовых листьях роса. Спят солдаты молодым сном, в землянках свежо, пахнет цветущей акацией. Дежурный по батальону, придерживая кобуру нагана, останавливается в трех шагах, тихо рапортует:
– Товарищ подполковник, второй батальон спит, дежурный – лейтенант Карпенко.
– Здравствуйте, лейтенант.
– Разбудить комбата?
– Я здесь! – кричит капитан Чернов, на ходу застегивая ремень. – Через пять минут подъем, товарищ подполковник.
– Здравствуйте, капитан.
Ответное рукопожатие крепкое; улыбается, обнажая редкие зубы:
– Вот и к нам пожаловали, а то все мимо да мимо.
Вдали – на левом фланге лагеря – полковой сигналист затрубил побудку. Раздались команды:
– Выходи на зарядку! Быстрей, быстрей! Отделение, за мной бегом!..
Я не вмешиваюсь, но мое присутствие сказывается: младшие командиры надрывают голоса, много суеты. В первой роте кто-то задевает пирамиду падают винтовки.
– Растяпы, запорют мушки! Только-только пристреляли! – Комбат срывается с места.
А по всей поляне уже несется:
– Вдох! Выдох!.. Выше ногу!.. Бегом к умывальнику!
Возле умывальника – узкого корыта из оцинкованного железа, вытянувшегося под молоденькими кленами, толпятся солдаты. Кому удается холодной водой облиться до пояса, напором выбирается из толчеи, вафельным полотенцем докрасна растирает молодое, еще не задетое войной тело.
Минут через десять выстраиваются во взводные колонны, старшины рот требуют: "Выправочку! Разгладить гимнастерки!" Дежурный офицер, отдав команду: "Смирно! Нале-оп!" – докладывает:
– Товарищ подполковник, второй стрелковый батальон выстроен. Разрешите вести на завтрак.
– Ведите.
– Поротно, с песнями, шаг-гом ар-рш!
Запевалы без азарта размыкают голоса, роты подхватывают недружно, сбивается строй.
– Песни отставить, шире шаг! – приказывает комбат громко и, повернувшись ко мне, как бы оправдываясь: – Всему, в том числе и песне, есть время и место...
Роты скрываются за леском, шагая к низине, где стелется дымок полевых кухонь.
– А мы в мою землянку, подкрепимся чем бог послал, – приглашает Чернов по-хозяйски.
– Пойдем лучше посмотрим, что бог послал в солдатский котел.
Каша пшенная жиденькая, кружок заморской колбасы невелик, чай пахнет веником.
– Капитан, подкормить бы солдат, а? Неплохо бы зелень и еще что-нибудь. – Смотрю в неподвижные рыжие зрачки Чернова.
– Личного капитала нет, а менять кильку на тюльку, – приподнимает острые плечи, – можно угодить, куда – сами знаете...
Сейчас в его глазах множество оттенков, при желании можно прочитать и такое: уж вы, дорогой товарищ, оставили бы нас, сами справимся.
– Так что там у вас по распорядку учебного дня? – спрашиваю.
– Десятикилометровый бросок с полной выкладкой, затем боевая стрельба по первой задаче.
– Действуйте, считайте, что меня здесь нет.
– Зрение и слух не обманешь. – Он улыбнулся.
– Работайте, капитан.
Строятся роты на вытоптанной пустоши. На солдатах вещевые мешки, скатанные шинели, саперные лопаты, по два подсумка и по три гранаты без запалов. Тут собираются совершать; тяжелый марш. Солнце еще невысоко, но припекает. День будет знойным. Колонны рота за ротой потянулись к дороге.
Батальон быстро удалялся, поднимая пыль, которая тут же оседала. Клименко спешит ко мне, ведя на поводках коней.
– Обождем, старина, пусть возьмут разгон.
Медленно двигалось к зениту раскаленное солнце. Небо без птиц, без голубизны; в мглистом чреве его гудит одинокий самолет.
Нарзан просит повод. Идем по стерне, на подъем, под копытами, шныряют юркие темно-зеленые ящерицы. Батальон, окутанный пылью, стремительно движется на юго-запад, туда, где в колышущемся мареве проглядывается узкая лесная полоска. Вот и хвост колонны... Кто-то, прихрамывая, тащится по обочине; отстающие, заметив меня, рывком догоняют замыкающих. Лица красные, в глазах усталое напряжение, на гимнастерках черные пятна пота. Солдат сидит на стерне и разматывает портянку. Рядом конь с седоком, с головы до пят покрытым пылью.
– Говорю, в строй, немедленно!
– Та не могу я, рана у меня распарилась. Глядите, – солдат поднимает оголенную ступню.
– Подошлю фельдшера, но смотри, ежели волынишь, к самому комбату представлю! – Верховой стременами горячит коня.
Вот те и на, да здесь целая кавалерия! Взводные и ротные без походной выкладки носятся на лошадях, с боков сжимая строй.
Я спешиваюсь, приказываю Клименко вести лошадей, а сам обгоняю взвод за взводом, пока не добираюсь до головы колонны. Командую:
– Реже шаг! Держать дистанцию!
Ко мне пристраивается комбат, молча идет нога в ногу. Минут двадцать я сдерживаю марш, а потом набираю привычные сто двадцать шагов в минуту.
– Привал!
Останавливаю колонну возле большой лужайки со старой ветлой посередине, защищающей от солнца степной колодец с воротом.
– Капитан, пошлите за фельдшером.
Чернов отдал распоряжение, вернулся и, спокойно выдержав мой взгляд, ответил на не заданный ему вопрос:
– За всех отставших наказание понесут кому положено.
– Ваши офицеры уже спешились?
– Многие фронтовики, после госпиталей...
– А солдат в батальоне после госпиталей разве нет? Или одним поблажка, другим поклажка?
– В том, что офицеры в седлах, прямой расчет. На одном деле поблажка, на другом – сто потов.
Подошел пожилой старшина с санитарной сумкой через плечо.
– Чепе есть? – спросил я.
– Откуда они у нас, товарищ начальник... Трое потревожили раны, а два дурня пилотки поснимали, вот солнышком их и прихватило...
Комбат слушал фельдшера спокойно, без смущения.
Четвертый час в батальоне, а ощущение такое, что я здесь лишний довесок. Комбат и офицеры его поступают и живут так, как жили и поступали день за днем, месяц за месяцем. Это хорошо или плохо? Не излишне ли требователен комбат?..
Раздался сигнал "внимание!".
– Разрешите начать стрельбы?
– Начинайте, капитан, если время.
В самый зной, под едва доносящиеся издали раскаты грома захлопали винтовки. Слышны отрывистые команды, бегут старшины, чтобы поправить сбившиеся мишени; стрелковые отделения на линию огня ползут по-пластунски; по сигналу "отбой!" офицеры спешат к мишеням и, возвращаясь к комбату, докладывают о результатах стрельб. Кто-то не попал в мишень – его ведут к комбату.
– Из чего отлита пуля? – спрашивает Чернов.
– Из свинца, товарищ капитан.
– Ее вес?
– Девять граммов.
– Как же ты двадцать семь граммов дорогого металла послал в никуда? Еще промажешь – штрафная...
Стрельбы завершились под сильным ливнем, роты уходили в лагерь. Мы с Черновым, обогнав колонны, доскакали до штаба батальона.
– Обсушимся, товарищ подполковник? – Он позвал ординарца. – Вынеси наши плащи и... сообрази.
– Мне бы чайку погорячее, – попросил я.
Мелкими глотками отхлебывая из кружки, я посматривал на комбата. Сидит увесисто, независимо, широко расставив ноги, курит.
– Давно в запасном, Аркадий Васильевич?








