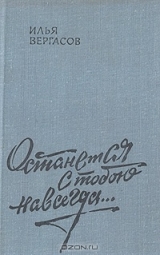
Текст книги "Останется с тобою навсегда"
Автор книги: Илья Вергасов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Я шел по лесу. Трупы немцев в офицерских и унтер-офицерских погонах. Оружие уже подобрано: успели хлопцы.
Ашот сидел на немецком пулемете "МГ-42", прищурившись смотрел на лес и молчал. Его левый пустой рукав начисто оторван, швы старой раны оголены.
– Надо же, второй раз по одному месту...
– Так повезло же, Ашот-джаным!
Он снял пилотку, вытер лоб.
– Ах, сколько надо похоронок!..
* * *
Наш трофейный "кнехт", машина двухосная, легко проскочил болотце. Мы с Ашотом сразу же увидели – на носилках несут Рыбакова.
Солдаты опустили носилки.
– Убит?
– Тяжело ранен, – ответила сестра.
– Глотни, – Ашот протянул флягу.
Я сполоснул рот и выплюнул спирт – вернулось дыхание; наклонился над Рыбаковым:
– Леонид, ты меня слышишь?
Сестра отстранила меня:
– Не надо тревожить, товарищ подполковник.
Еще подержал руку на плече замполита и пошел к машине.
Подошел Шалагинов.
– Большие потери? – спросил у него.
– Шесть убитых, четырнадцать раненых вместе с товарищем Рыбаковым.
– Много раз шли на вас?
– Перли валом. Пьяные, очумелые, вон сколько их лежит. А жарко, повздуваются...
– Всех немцев, независимо от звания, похоронить в одной яме и засыпать хлоркой.
* * *
Рвется "кнехт" на большую дорогу. Она, поблескивая асфальтом, бежит вдоль леса за бугор, за которым длинный и покатый спуск к Днестру. Еще одна колдобина – и мы на асфальте.
Встречные грузовики – "студебеккеры" – ревмя ревут, катят на запад; за ними на прицепах подпрыгивают новенькие пушки. Еще одна артбригада РГК? Сколь же их!..
Обгоняем колонны пленных. Скучны, как ржавое железо. Их обходят юркие "виллисы" с важными полковниками, за спинами которых молоденькие адъютанты.
Все во мне словно бы расковалось, расслабло.
Странная штука – чувство выигранного боя. Знаешь, какой ценой досталось, и все-таки не об этом думаешь, не то переживаешь. Невольно подсчитываешь в уме, сколько потерял противник, какое количество взято пленных, сколько немецкой техники попало в наши руки...
Крепкий орешек раскусили. Кордон был забит машинами, пушками, танками, а всякого трофейного барахла не счесть. Только сейчас становится понятно, почему немцы так безумно жали на Астахова. Молодцы хлопцы, хорошо держались, да и сами немцы помогли: желая во что бы то ни стало вырваться из окружения, шли скученно, вал за валом, почти впритык. Под ударом откатывался вал ведущий, напирал на тот, что следовал за ним, и так далее... Одновременно грянули наши – штурмовая авиация, гаубицы и танки, на кордоне поднялась страшенная паника. Бомбы, снаряды находили двойные, а то и тройные цели. Все взрывалось, горело, плавилось, корчилось в огне. Немцы метались, бросались кто куда; большая часть их двинулась через болотце на запад, под автоматы Шалагинова.
Знойный августовский ветер бьет в лицо. Над головой с грохотом и треском проносятся наши штурмовики "ИЛы". "Кнехт" выскочил на бугор. Навстречу огромная мышастая колонна. Она, заняв дорогу, наползала, пошатываясь. Небритые лица с унылыми глазами. Впереди медленно катился "виллис", за смотровым окном я заметил фигуру самого командующего.
Остановил "кнехт" на обочине.
За спиной Гартнова сидели немецкие генералы. Три генерала, не шевелясь, не касаясь друг друга, козырьки фуражек опущены на глаза. На закрылышке маленькой машины каким-то чудом удерживался адъютант командарма, направив ствол автомата в сторону колонны пленных, плетущейся сзади, безвольной, с кривыми шеренгами жмущихся друг к другу оберстов, обер-лейтенантов, майоров, гауптманов...
Эту необычную процессию замыкал маленький броневик с вращающейся башенкой, из которой выглядывал ствол "максима".
– Подполковник! – Генерал узнал меня. – Пересади этих субчиков на свой драндулет. – Не повернув головы, ткнул пальцем в застывших немецких генералов. – Черти, нажрались гороху без удержу. Терпеть не могу этого духу!
– Разрешите послать за ротой автоматчиков?
– Будет жирно, обойдемся. – Командарм повернулся к пленным: – Господа генералы, прошу встать и пересесть в "кнехт".
Переводчик нагнулся к генералам.
Немцы, обеспокоенно морщась, выходили из "виллиса", каждый отдал честь Гартнову. Они выстроились перед ним, обреченно поглядывая в мою сторону. Командующий усмехнулся.
– Мы соблюдаем законы войны, – сказал он, – признаем право пленного на защиту, медицинское обслуживание. Идите спокойно.
Генералы внимательно слушали перевод.
Я усадил "трофеи" в лампасах в "кнехт". Касим угрожающе поднял автомат.
– Оружие к ноге! – скомандовал я.
– Они удирать будут!
– От себя не удерешь.
– Тимаков, – позвал командарм, – садись к нам, а твоя машина пусть следует сзади.
Вскочил на заднее сиденье.
Ехали тихо-тихо, следя за тем, чтобы шеренги пленных офицеров не отставали от нас. Я успел заметить – им сохранили личное холодное оружие.
Генерал, обернувшись ко мне, улыбнулся:
– Еду, смотрю в оба, чем черт не шутит. Лес, на опушке пни, много старых пней. И за каждым мелькает белое: махали платочками и лоскутками марли... Остановил машину, вышел из нее, стал таким манером, чтобы меня видели, как говорится, во весь рост. Крикнул: "Внимание! Я командующий Степной армией. Вы желаете сдаться в плен? Тогда ко мне парламентеров прошу!" Появились три фрукта, пригляделся: батюшки, генералы! Спрашивают: "Мы имеем честь видеть господина командующего Степной армией?" – "Не ошиблись, говорю, я командующий". Приосанились: "Нас три генерала, шесть полковников, три подполковника, майоры, гауптманы, обер-лейтенанты и лейтенанты разных войск. Всего триста три единицы, и мы добровольно желаем сдаться в плен лично вам". – "Такая честь!" – говорю им. А они свое: "Мы вручаем свою судьбу в ваши руки". Тут уж я уточнил: "Вы сдаетесь генералу Советской Армии. Приказываю сложить оружие! Вы пленные. А чтобы был порядок, прошу господ генералов в машину". У них, у немцев, даже при беде полный аккурат: выстроились, пересчитали друг друга и начали марш, как говорится, в далекие края...
Генерал уставился на дорогу и замолчал. Не то дремал, не то думал о чем-то своем. Я видел его незагоревший затылок, изрезанный морщинами. Чего-то я ждал от него. Похвалы, что ли? Не знаю, но медленный ход "виллиса" и молчание как-то угнетали.
Три крытые брезентом машины затормозили впереди нас. Из них выпрыгнули солдаты, построились за кюветом; молоденький капитан подскочил к нам:
– Товарищ генерал-полковник, рота охраны по вашему радиовызову прибыла в полном составе!
– Бери всю эту шатию и марш с ней на переправу. Только смотри мне, капитан, чтобы никаких штучек. Они отвоевались. Теперь жить им до поры до времени под русским небом.
"Виллис" командующего набирал скорость, за ним, ревя мотором, шел "кнехт" с тремя немецкими генералами. На маленьком полустанке, у чистого домика с часовым возле калитки, Гартнов остановил машину и приказал адъютанту:
– Их, – кивнул на немецких генералов, – накормить, дать время поспать, чтобы свеженькими были. С ними будет длинный разговор.
Я молча ждал, пока высадятся пленные генералы. Адъютант увел их.
– Разрешите вернуться в полк?
Гартнов уставился на меня, будто только что увидел.
– Вернешься, а иначе куда же тебе! Значит, повоевал?
– Так точно, повоевали, товарищ генерал.
– Почему твои роты оказались за болотцем?
– Надеялся, что отметку девяносто пять и шесть десятых удержим.
– Крепко надеялся? – Генерал свел брови. – Говорят, победителей не судят. Говорят, а?
– Да, товарищ генерал-полковник, так говорят.
– И считаешь себя победителем? – Я промолчал. – А вот я, твой командующий, не считаю. Как думаешь, почему? Не спеши, обмозгуй.
– Была опасность прорыва на отметке девяносто пять и шесть десятых, ответил, не слыша самого себя.
Гартнов оживился:
– Наугад ответил? Или рисковал тогда сознательно?
– На свое чутье полагался, товарищ командующий. Я думал...
– Ишь какой – думал! За всю армию думал... За нее мне положено думать, а тебе лишь за порученный участок. Твое счастье, что немцы были оглушены до тебя. Прорвались бы, к чертовой матери, тогда... Что было бы тогда?.. Впереди Балканы – поведешь полк. Всех отличившихся – живых и павших – к боевой награде. Полк подтянуть, пополнить офицерским составом и готовиться на марш. И чтобы никаких партизанских маневров. У меня кадровая армия! Понимаете, молодой человек, кадровая!
28
Полк стягивался к станции Злоть. За переездом длинная улочка, низенькие заборчики, палисадники с поржавевшими георгинами. Скулят собаки, посипывают, вытянув шеи, сердитые гусаки. На иссушенных солнцем верандах щурятся пожилые молдаванки.
Мы затормозили у плетня, за которым поскрипывал колодезный ворот. Призывно заржал Нарзан. Я размялся, сбросив с себя пропотевшую гимнастерку, крикнул коноводу:
– Старина, плесни-ка из ведра!
– Та дюже холодна.
– Лей давай, лей!
Обожгло.
Из-за сарайчика показался пожилой мужчина с темным, как земля, лицом, в латаной-перелатаной рубашке. Вытянулся передо мною во фрунт: ладони липко к штанам, корпус смешновато откинут назад.
– Хозяин, да? – спрашиваю у него.
Быстро-быстро закивал головой, подбежал к Клименко и похлопал его по спине.
– За что ж тебе, старина, такая милость?
– Та я купував гуся. Даю червонец – не бере, два – не бере, лопоче: "Рупа, рупа".
Передо мной стоял обездоленный крестьянин, оказавшийся со своим двориком на перепутье большой истории. Каково же ему?
– Здравствуй, товарищ, – протянул ему руку.
Он вытер ладонь о рваную штанину, крепко пожал мне руку, что-то быстро-быстро сказал на звучном языке, улыбнулся и ткнул пальцем в свою тощую грудь:
– Туарыш!
Прискакал ликующий Ашот, молодцевато сбросил себя с коня.
– Нам салютовала Москва! Из трехсот двадцати четырех орудий.
– Кому это – нам? Фронту?
– Ва, что он спрашивает? И фронту, и армии, и полку нашему. Понимаешь, нашему!
Я посмотрел на часы, излишне строго приказал:
– Обеспечьте положенную охрану и, кроме того, потребуйте от комбатов наградные листы на живых и павших. Майора Астахова к ордену Ленина посмертно, комбатов Чернова, Шалагинова и старшего лейтенанта Платонова к орденам Красного Знамени.
– Почему такой сердитый? – Начштаба смотрел на меня, ничего не понимая.
Но не мог же я исповедоваться перед ним, рассказать, что меня высек командующий, что до сих пор вижу сердитые генеральские глаза, слышу его голос. Все было сказано только мне...
Спал долго, не знаю сколько, но казалось, что очень долго. Проснулся и не мог понять, то ли поздний вечер, то ли ранний рассвет. Вышел из душной хатенки и столкнулся лицом к лицу с майором Вишняковским, Он как-то уж очень странно смотрел на меня.
– Ну что еще там случилось?
Он неловко подался вперед и шепнул мне в ухо:
– Конфиденциально. – Вытащил из планшета конверт. – Просили вручить лично в руки.
Я зашел в хатенку, зажег карманный фонарик. Обыкновенный довоенный конверт, на нем ученически аккуратно выведено: "Константину Николаевичу Тимакову. Лично".
Галина! Она всего в одном маршевом броске от меня, а если на машине меньше часа.
Поднять шофера? К ней, к ней... Я заметался по комнате. Господи, на мне же грязная, пропотевшая гимнастерка! К черту ее! К черту все эти беспрерывные тревоги! К черту это холодное одиночество! Я надел еще не ношенный китель, ощупал подбородок – жесткая, колючая щетина. Сел, тяжело дыша.
Куда это я? За каким счастьем? Что стоит за ее скупыми словами: "Константин Николаевич, я – рядом, с эвакогоспиталем 2126 в Комрате. Галина".
На следующий день пришел приказ на марш через Комрат к Дунаю.
Последние августовские дни еще пуще раскалились. В степи на дороге, лежавшей среди пожухлой стерни, двигались машины. За кузовами тянулся пыльный хвост. Скрылось солнце, приглушились звуки, воздух тяжелел.
Полк шагал на Комрат. Интервалы между батальонами километровые. Над головами пролетали штурмовики: их угадывали по шуму моторов, похожему на треск рвущегося, туго натянутого полотна.
Мы, запыленные с головы до ног, не узнавали друг друга, разве лишь по голосам. Да и они будто сдавленные – глухие.
Ашот шагает, сердито рассуждает вслух:
– Еще километр, еще... Придем в Комрат? Каков Комрат, ай-ай! Один пар останется.
– Ничего, дошагаем.
Ашот сердится с того самого момента, когда полк выстроился рано утром под бледно-лимонным небом. Вишняковский собрал восемьсот каруц, подогнал к батальонам: "Садись, пехота, хватит ногами топать!" Начштаба, как всякий победитель, считающий возможным поступать так, как поступать не положено, готов был от затеи Вишняковского пуститься в пляс. А я разрушил мечту не только его, но и комбатов, мысленно уже рассадивших солдат на трофейные румынские повозки. "Это жестоко, Константин Николаевич!" – Начштаба рубанул рукой воздух с такой силой, будто хотел вырвать ее из плеча.
Жестоко, жестоко... Напоремся на Гартнова, и услышу: "Не полк, а банда батьки Кныша на каруцах".
Второй час марша, пора на привал. Остановил полк в выгоревшей лощине с водой в трехстах метрах. Солдаты плюхнулись на землю там, где их застала команда "отдыхать!". Смотрю на них, и трудно узнать, кто есть кто, – одна серо-пепельная масса. А до Комрата тридцать километров.
Подуло с запада, развеялась пыльная пелена, медленно открывались дали: горелая степь, а где-то за ней призывно зеленели виноградные делянки. На нас наползала туча, вдали погромыхивало; потянуло свежестью и укропным духом. Туча грозно росла, брызнули крупные капли, и пыль на глазах чернела.
– Вишняковского ко мне!
– Я тут, товарищ подполковник! – Его голос за моей спиной.
– Где твой табор?
– За горкой.
– Давай его сюда. Туча прикроет наши грехи.
– Хорошая туча, замечательная туча! – Ашот послал небу воздушный поцелуй и разослал связных за комбатами.
По сбитой щедрым дождем дороге, обгоняя мелкие подразделения, мы катили на Комрат. За версту от него спешились, привели себя в божеский вид, построились рота за ротой. Оркестр грянул марш. Ноги сами пошли, строй выравнивался и по фронту, и в глубину, будто удары барабана и рев медных труб выбивали из нас второе дыхание.
Во всю прыть, поддерживая учкурики, мчалась со всех комратских улочек босоногая ребятня. У плетней показались девчата, успевшие накинуть на плечи цветастые платки, и молодицы-молдаванки, унимавшие мальцов, жмущихся к их юбкам.
Замаячили полевые палатки с красными крестами – армейский госпиталь.
– Ашот, веди полк!
Меня словно что-то вытолкнуло из строя. Я прошел мимо одной палатки, другой. В глубине лагеря увидел женщину: скрестив на груди руки, она смотрела куда-то в сторону.
– Извините. – Остановился за ее спиной.
– Вам кого? – Женщина обернулась, с любопытством рассматривала меня.
– Сестру милосердия Талину Кравцову из госпиталя двадцать один двадцать шесть.
– У нас нет сестер милосердия, у нас медицинские сестры... А интересующая вас Галина Кравцова – за Дунаем. Догоняем армию, слава богу, налегке – боев нет. Мы будем в румынском городе Исакча. Что-нибудь передать Кравцовой?
– Спасибо, я сам ее найду.
Снова, как и вчера и позавчера, машины обгоняют наши растянутые колонны. Машины, машины... Откуда столько? Как у немцев после падения Севастополя. Все дороги тогда были заняты ими. Они шли и шли туда, на Керчь, за которой была переправа, а дальше – Тамань, Краснодар... Сидишь под кустом, глядишь на это нахальное движение, бесишься: нет у тебя сил, чтобы бабахнуть по ним...
Теперь наша махина неудержимо движется к самой границе: "ЗИСы", "студебеккеры", трофейные "бенцы"... И пылят, и дымят, и все одним курсом на Дунай. И мы на Дунай. Миновали пустынную, с одними лишь дымарями деревушку, пошли на подъем. Воздух повлажнел, запахло водой.
Ашот нетерпелив:
– Махну на Дунай, а? – Вскочил на коня и пошел аллюром.
Нарзан мой всхрапнул и рывком вынес меня на самую верхушку косогора.
– Дунай! – ору во все горло.
Могучая река, стелясь в широком ложе, стремительно неслась, обдирая свои берега. Не "голубая", – подсвечиваемая солнцем, укладывающимся за горизонт, она была как жидкая сукровица, а там, в темнеющей дали, разрезая безлюдную степь, река багровела.
На том берегу – чужая земля. Присматриваюсь к ней, чего-то ищу. Вижу старые ветлы, их ветки низко-низко кланяются воде; чуть дальше горят окнами дома, кучащиеся вокруг островерхой церкви.
Я е удивлением и скорбным чувством оглядываюсь. И на моем берегу ветлы так же спокойно и величаво кланяются реке, и там и тут степь, выжженная солнцем. Так что же отделяет один мир от другого? Почему одно слово "граница" способно вывернуть наизнанку душу?!.
29
Где с хитростью, где с руганью рассовали роты на окраине захолустного румынского городка Исакча, до отказа забитого машинами, повозками, полевыми кухнями, солдатами, захватившими даже чердаки.
Утром, наспех побрившись, надев новый китель, глотаю парное молоко, поглядывая на своих ребят. Клименко скалит зубы. У него два желтых клыка, вероятно ни разу в жизни не чищенных. Когда он их обнажает, то становится похожим на добродушного старого волка из детской книжки. Касим откровенно пялит на меня глаза, желая сейчас же узнать, для кого это я с самого утра принарядился.
– Чи вы на Нарзани, чи на машини, га? – Клименко старается удержать рвущуюся улыбку.
– Куда это вы меня провожаете?
– На палатка, палатка сюда приехал! – Касим все понимает, все знает. Зачем на Комрате из строя бежал?
По улице с марширующими взводами, дымящими кухнями мы с Клименко подъезжаем поближе к Дунаю – туда, где еще вчера вечером я видел госпитальные палатки.
Завернули за угол, в узкий переулок. Впереди усталой рысцой трусил конь, запряженный в бидарку. Пожилой солдат покрикивал:
– Пошел, ур-рю, ур-рю!
Я приглядывался к одинокой пассажирке, умостившейся на заднем сиденье бидарки. Волосы ее в мелких завитушках, на выгоревшей гимнастерке дорожная пыль. Показалось, что я ее знаю. Не одна ли из наших связисток догоняет полк?..
– Солдат, возьми-ка вправо, слышишь? – крикнул я.
Женщина, вздрогнув, повернулась ко мне, глаза ее испуганно расширились.
– Костя! – закричала и рванулась с бидарки.
Соскочив с седла, я успел подхватить ее. Вера?.. Стал смахивать с ее гимнастерки пыль.
Вера зажмурилась, затрясла кудряшками, крепко прильнула ко мне.
– Костенька, я тебя нашла, нашла!..
* * *
Долго и беспокойно смотрю в черноту. Из темной мути выступает потолок чужой хаты. В окошке – подрагивающий краешек луны. За стеной все еще не убывающий гул моторов – идут танки, идет мотопехота.
Вечер... Не сговариваясь, наши роли распределили так: Вера рассказывала, а я слушал. О родах в Армавире, о дороге на Моздок и немецких танках, навалившихся нежданно-негаданно, о скитаниях по неуютному и чужому Тбилиси, где не было ни угла, ни молока для ребенка. О девятиметровой комнатушке в бараке, стоявшем на краю торфяного болота, в трех верстах от Орехово-Зуева.
– Жили втроем: я, дочурка и мама, У меня перегорело молоко, а девчонка здоровуха!
– Есть же там военкомат, черт бы их побрал, – говорю сердито.
– Все есть. А где аттестат, где документы, что я жена офицера? Мать воровала торф. Чего смотришь, будто судишь? Поменяла я золотые часики на мешок муки, три мерки картошки и литр хлопкового масла. Пекла пирожки да на базар. В один миг сбывала... Тесто катала тонюсенькое, а картошки клала поболе. Взял меня дядька-инвалид за шиворот и отвел в комендатуру. Отбрехалась, а уж как – не спрашивай...
Помолчала, всплакнула, стала рассказывать о дороге ко мне.
– Мужичья кругом полно, пруд пруди, а ты-то где? В партизанском штабе в Москве узнала, что здоров и находишься в кубанских краях. Наташку оставила на бабушку, пальто на базаре сбыла, кое-какие деньги собрала и айда в дорогу. Была в Краснодаре. – Подняла глаза на меня, помолчала, а потом тихо и не обиженно: – Заглядывала на окраину, в домик; дед там такой вреднющий... Не забыл? Или трепло? Да бог с ним!.. Обрадовалась, что ты живой. И покатилась моя дорога по разным краям. Чего только не повидала!.. В Одессе совсем загоревала было, сердце за Наташку изболелось, домой уж надумала податься, да нечаянно про тебя услышала от сержанта одного. До самого твоего Просулова чуть не бежала, а там никого нет. Двое суток слезами заливалась, а потом о отчаяния побрела к переправе. Про тебя у всех выспрашивала, в кустах ночевала; и на правый берег махнула – втихаря, конечно. – Подсела ближе, слегка стукнула меня кулаком в плечо: – Держусь вот за тебя сейчас, гляжу в твои глаза – и не пойму, кто я тебе, кто ты мне... – Опять помолчала, потом сказала уверенно: – Только мы же связаны дочерью. Что молчишь?
– Ты здесь, чего же еще...
– Нежданная, выходит? Я знаю... Мы, бабы, все знаем. Целовал-то, как чужую!..
– Отвык, наверное...
– Ничего, привыкнешь!
– Ты лучше о дочери расскажи...
– Вот аттестат пошлем на бабушку, в военкомат напишем, что ты командир полка. А дочь – что? Хорошенькая, глаза твои и тут, на подбородке, симпатичная ямочка. Не капризная, только едок, я тебе скажу... Тут уж свое не упустит. Фото ее было у меня, да в Ростове вместе с кошельком пропало. Уж горевала, горевала... – Она сладко потянулась и стала снимать комбинацию. – Чего-то жарко...
Странно ощущать ее рядом с собой. Она спала, ее обнаженное плечо, умостившееся у меня под боком, было теплым, подпаленные ветром губы почмокивали. Временами вздрагивала, приподнимала ногу с глубоким и грубым продольным рубцом на смуглой плотной икре и осторожно опускала на край постели. Я вспомнил Армавир, старуху: "Крутая баба, дюжая...
Сама у гипсу, а дите идет себе на свет..." Мне стало жаль ее. Прикрыл обнаженное плечо, подвинулся ближе, обнял.
Исподволь светлел потолок. За стеной поутихло движение, доносился плеск воды и шум ветел над Дунаем.
– Спишь? – спросила Вера.
– Спал.
Она помолчала, думая о чем-то, потом поднялась, откинула назад волосы.
– Она красивая?
– Ты о ком?
– Костя, ты же лгать не умеешь!
– Вера, зачем ты все... Приехала – и хорошо сделала.
– Нет у тебя радости, а одна только жалость. Та, краснодарская, стоит на моей дороге. Но я тебя никому не отдам. Нас соединил голод, холод, бои, моя рана. Ты спросил, как я рожала? Как я рожала?! Хочешь любви... иди к своей, которая с немцами...
– Замолчи!
– Иди, и чтобы она так рожала, как я! Тогда уступлю тебя ей, ребенком своим клянусь, уступлю...
Я вышел из хатенки и пошел к Дунаю. Свет падал на воду, ее серебристая тяжесть казалась недвижной. Начиналась новая жизнь, к которой не подготовлен я ни умом, ни сердцем.
Вчера после ужина, когда Касим унес посуду и захлопнул за собой дверь, Вера бросилась мне на шею, вздохнула и, прижавшись, сказала:
– Крепко-крепко поцелуй! Ну?
Сейчас лежит, думает, наверное... Она мне кажется горой, которая выросла на дороге и ее невозможно обойти. А собственно, почему надо обходить? Мы связаны кровно – у нас ребенок. Где-то, должно быть, рядом Галина. Нетрудно ее разыскать – госпиталь наш, армейский. Только зачем?.. Те часы, что мы пережили в Краснодаре, не повторятся: теперь между нами такое, что запросто не переступишь.
Заглянул в сарайчик. Касим и Клименко растянулись на свежей соломе. В стойле поднял голову Нарзан, заржал.
– Ась? – схватился Клименко.
– Спи, спи...
И Касим и Клименко вчера смотрели на меня как на человека, который взял и рубанул под корень уложенную в какой-то порядок их армейскую жизнь. Уже вечером Вера пошатнула их уверенность в том, что они мне нужны, всем видом, всем поведением своим показывая, что забота обо мне – ее главное дело, что у нее на это есть право. И впредь она сама будет решать, что нужно их командиру, а что нет.
Побывал в батальонах. Офицеры поздравляли меня с тем, что нашлась моя жена. Эта весть каким-то образом моментально распространилась по всему полку.
– Константин Николаевич, с прибавлением семейства! – улыбался Ашот.
– Ладно уж... Кстати, она неплохо печатает на машинке. Нужна?
– Позарез, командир! – обрадовался начштаба.
Вернулся в хатенку к обеду. Боже мой, какой у меня порядок! Даже полевые цветы на окнах. У Веры волосы пушатся после мытья, губы чуть-чуть подкрашены.
– Молодцом ты. Я от всего этого отвык, вернее, и не привыкал...
– Ты у меня будешь с иголочки, вот увидишь!
Касим подавал обед. Он был в белом фартуке, важный. Мы с Верой сидели друг против друга, и она то хлеб мне проворно протягивает, то нож подает. Я улыбнулся:
– Совсем избалуешь. Разве что у тебя времени не будет.
– Это почему же? – Глаза ее выжидающе остановились на мне.
– Хочешь поработать машинисткой? Вот завтра пойдешь, разыщешь Татевосова, зовут его Ашот Богданович.
– Больно спешишь...
– Мы все спешим...
* * *
Солнце стоит над сусличной иссушенной степью. Серые зверьки, попискивая, перебегают из норки в норку. Пыль висит над ухабистой дорогой, в ней тонут солдаты, повозки, танки и самоходки, что на скоростях идут параллельно полку.
Бесконечное движение рот, батальонов, полков. Авангард уже упирается в Констанцу, а тылы еще где-то у Аккермана.
Поначалу мы удалялись от Дуная, а потом он догнал нас, замаячил по правую руку, обдавая прохладой, но через сутки с нами расстался, круто вильнув на запад.
Земля вокруг скудная, у горизонта пустынно-серые, опаленные тяжелым зноем бугры. Села редкие, дома в них под соломенными крышами, высокими, как папахи румынских солдат. За покосившимися заборчиками сникшие шляпки подсолнухов, покрытые белой дорожной пылью.
Безлюдье, лишь у примарий с обязательным флагштоком стоят старики с такими же морщинистыми лицами, как и земля вокруг. В глазах ни удивления, ни страха, а лишь покорность: Вышла молодая женщина в выцветшей сатиновой кофте, глянула на ребятишек, облепивших забор, что-то крикнула. Они юркнули в хатенку. Я подошел к молодайке, поздоровался и через переводчика спросил:
– Вы что, нас боитесь?
– Стыжусь. Мальчишки без штанишек...
Чужая земля, чужая беда.
Дома бедные, но попадались и такие, в которых мебель, ковры, посуда, даже детские игрушки... Все эти вещи еще недавно имели прописку: одесскую, николаевскую, симферопольскую. Хозяева смотрят на нас с робостью, – может быть, ждут возмездия?
Вскоре небо над нами стало принимать зеленоватый оттенок, в рассеивающемся полумраке парили чайки – вестники моря. А утром фольгой блеснул горизонт, острый йодистый запах ударил в ноздри.
Море, здравствуй! Как давно я тебя не видел, с той самой поры, когда, притаившись меж иссохшими бочками, смотрел на генерала Петрова, прощавшегося с фронтом.
В Констанцу вошли ротными колоннами, под оркестр. Город ослепил яркостью красок, оглушил звонкостью голосов. Мы втискивались в тесноту улиц, дыша воздухом, в котором запахи застоялой воды смешивались с винным кабацким духом. Толпа, кричащая, хлопотливая, размахивающая руками, ломала строй. В кишмя кишащую уличную суету вливался медный голос военного оркестра.
За оркестром в колоннах по четыре шагал морской полк, первым ворвавшийся в Констанцу. Шли черноморцы в бескозырках, булыжная мостовая подрагивала от их поступи.
* * *
Мы идем по Добрудже, которая началась за древним Траяновым валом. Тут степь застлана чернобыльником, пленена ужасающей нищетой: на дробных, огороженных друг от друга делянках – чахлые виноградные кустики.
И вдруг... Левады, тополя, хаты со стенами, расписанными охрой и киноварью, палисадники с высокими мальвами, сухими маковками и белыми астрами. Где мы? На Полтавщине? Или под Белой Церковью? А дядьки, что встречают нас хлебом-солью и поклоном до самой земли! Усы как у Карася из "Запорожца за Дунаем". Рядом с ними жинки в домотканых вышитых кофтах, в монистах, густо обвивших шеи, повязаны платками, как в старинных украинских селах. Боже мой, мы – в XVIII столетии!..
Моя пышная хозяйка стоит у порога, трижды кланяется:
– Заходьте, козакы.
Вхожу в прохладную горницу, и на меня надвигается иконостас. Снимаю пилотку, присаживаюсь к столу. Хозяйка перекрестилась раз, другой.
– Чи вы православии, чи бившовыки?
– Русские, мать.
– Москали, га?
– Москали, киевляне, сибиряки...
– И креста не маете?
– Чего нет, того нет.
– – Ой, боженьки! – Перекрестилась, перекрестила меня и начала хлопотать. Из древнего сундука, может быть свидетеля переселения ее предков за Дунай, достала рушник и с поклоном подала мне.
Я ел борщ и вспоминал Марию Степановну из кубанской станицы, думал о том, что и ее предки ушли на Дикое поле в то самое время, когда прапрадед моей хозяйки бежал за Дунай, покидая Запорожскую Сечь. И тот кубанский борщ и этот задунайский были как родные братья.
В горницу вошел Клименко.
– Товарищ подполковник, чи сидлать Нарзана, чи ще не треба?
Хозяйка вздрогнула:
– Из яких же ты краив?
Я вышел на крыльцо, сел на ступеньки, закурил. В горнице громко говорила хозяйка, плакала, снова говорила, может быть стараясь выговорить вековую тоску. Какую надо иметь живучесть, чтобы за два столетия не растерять того, что было вынесено на чужбину ее предками с родной земли! Мы будто прикоснулись к островку, каким-то чудом сохранившемуся в бурном океане жизни на чужой стороне.
Еще один бросок – и Болгария.
Чистили оружие, латались, налаживали строй. Взводы с явной неохотой маршировали на ипподроме, сердито поглядывая на командиров. Марш по Румынии измотал. Наверно, долго будем помнить эту неуютную землю, горбящуюся голыми хребтинами, на которых местами не растет даже полынь.
В ночь на 9 сентября пересекли границу.
Под ветром трепыхалось белое полотнище, на котором аршинными буквами написано: "Добре дошли, наши другари!"
Первое чувство – будто попал в прошлое России, в год 1917-й. Тут тебе и стихийные митинги, и яркие лозунги на кумаче, патрульные с повязками на рукавах и звездами на мерлушковых шапках, и вооруженные отряды, спустившиеся с планины. И тут же царские гербы со львом и короной, офицеры в форме, напоминавшей форму старой русской армии: аксельбанты, кокарды, кресты. Гимназистки с премилыми книксенами, скорбные лица монашек, женщины в длинных платьях, в шляпах с плюмажами, юнкера, скульптурно выпячивающие грудь, фаэтоны на мягких рессорах, церковный звон и запах ладана.
Полк под развернутым знаменем входил в город Шумен. Играл оркестр, южный ветер бросал в лицо запахи ранней осени, острее всего – далматской ромашки.
Нас встречали: на тротуарах стояли толпы нарядных женщин и осыпали солдат лепестками роз; визжали мальчишки, путавшиеся под ногами.
Нарзан, мой старый конь, словно чуя, какая торжественная минута выпала на его нелегкую долю, высоко держал голову и совсем не прядал ушами.
Улица вывела на большую площадь. На ней выстроился болгарский пехотный полк. Его командир – холеный полковник, увешанный орденами, – ехал мне навстречу на белом коне. Он приложил два пальца к козырьку и приподнялся на стременах:
– Господин стрелецкий подполковник!








