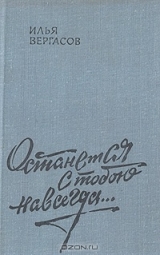
Текст книги "Останется с тобою навсегда"
Автор книги: Илья Вергасов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 18 страниц)
Я улыбнулся.
– Да, это любимое мотяшкинское изречение. А дальше пошло у нас так: Мотяшкин распорядится, мы как положено: "Есть, будет исполнено", сами же воюем по-епифановски. Как-то, восточнее Надьбайома, мой полк трое суток отбивался от немецких ударов. Дошли до ручки. Бывает, что солдату надо во что бы то ни стало дать отдых. А тут его приказ: штурмовать кирпичный завод. Умоляю: "Возьму его на рассвете, а сейчас дайте поспать, люди с ног валятся. Подниму в атаку – последних потеряю". А он: выполняйте приказ, и баста. Выругался я и приказал ротам спать. Для отвода глаз палили из пулеметов и пушек. Только Мотяшкина вокруг пальца не обведешь – явился на мой командный пункт собственной персоной. И начался разнос... От полка отстранил. Ну и я ему дал... Он грозил военным трибуналом, да не успел кровь горлом у меня пошла. В бою, Тимаков, сразу видно, кто есть кто. Все короли – голые. Вот и Мотяшкин стал просматриваться насквозь...
– Остался на дивизии?
– Убрали. Был слух, что где-то в штабах преуспевает. Война кончилась. Когда на земле тихо, слышно даже, как на болотах лопаются пузырьки...
– Павел Николаевич, а кто такой Мотяшкин?
– Да как тебе сказать... Вот в старой русской армии от немцев было тесновато. Они насаждали свой образ военного мышления. Но не приторачивались друг к другу немецкая военная школа и русский характер, думается, от этого немало голов полегло. А вначале наша рабоче-крестьянская власть без старых военспецов не могла обойтись. К такого склада наставнику, может быть, и попал Мотяшкин и сам стал сколком с него – он ведь службу-то начал сразу же после гражданской войны. В характере его слишком развита черта пунктуальности. Вот ведь он честный, не обманет, но его философия все стороны квадрата равны. И чтобы никаких неожиданностей! На правом фланге – этакий высокий прямоугольник, а потом, пониже за ним, идут квадраты, квадратики. Его самого можно вычертить и вычислить. – Васильев лег и натянул одеяло до подбородка. – Что-то знобит... И язык стал заплетаться...
Как я уснул, не помню. Вскочил в каком-то беспамятстве, дико озираясь по сторонам.
– Воюешь? – услышал голос Васильева.
Я подошел к окну. За ним зеленел раскидистый клен. В медленно наступающих сумерках его листья темнели и казались неправдоподобно большими. За оградой прошли два сцепленных трамвайных вагона. Залился звонок, колеса с визгом брали поворот... "В чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый... В чистом поле под ракитой богатырь..."
– Чего ты там бормочешь? Давай покурим.
– Влипнем, как вчера.
– А, с нас взятки гладки!.. Только свет не будем включать.
– Покурим так покурим. – Я с силой распахнул окно. – Все вылазит, вылазит из тебя война! Захлебываешься. Как переключиться на тишину?
– А ты не форсируй. Не спеши. В том галопом мчавшемся времени... и сплеча рубили и ошибались, нанося раны, которые и сейчас кровоточат. Четыре года! А ты хочешь так сразу и высвободиться от всего. Нет, друг, это останется с тобой навсегда. С тобой, со всеми нами. Теперь не меньше чем на столетие вперед вопросы и мира и войны никому нельзя решать без оглядки на первую половину сороковых годов двадцатого столетия. Это ты обязан понять. И еще... если не осмыслишь всего, что пережил, не оценишь, а может быть, и не переоценишь иные поступки, будешь балластом жизни, издержкой войны!..
Все меньше звуков доносилось к нам в открытое окно. Умолкли трамвайные звонки. Где-то недалеко поскуливала собачонка. Васильев задышал часто, натужно – уснул? Ночная прохлада выстудила палату. Я тихо прикрыл окно.
– Ты чего не спишь? – спросил Васильев.
– Не получается...
– Ночь теперь для сна. Тебе жизнь отмерила время – еще не раз собственное сердце руками ощупаешь! – Он повернулся лицом к стене и вскоре уснул.
А меня память увела в далекую маленькую комнатенку на окраине Краснодара, к женщине в длинном шелковом халате, с высоко поднятой керосиновой лампой в руке: "Вы кричали... Может, какая помощь нужна?.."
* * *
...Шли дни. Они были то солнечными, то дождливыми. Мы с Васильевым больше молчали, но иногда, под настроение, он рассказывал что-нибудь о своей жизни, и эти рассказы немолодого опытного человека – ему уже под пятьдесят – были так необходимы мне!..
Только что прошел грозовой дождь. Стою у окна, смотрю на дерево с подрагивающими еще глянцевыми листочками сердцевидной формы – молодая липка. Говорят, такой формы листья излечивают сердечные заболевания, а почкообразные – почечные. Интересно, какими лечат наши легкие? Только все это сказки...
Солнечный луч заглянул в палату.
– Павел Николаевич, лето!
Васильев открыл глаза:
– Да. Как я ждал его – и вот опоздал...
– Ну что вы?
Он сел, опустив отекшие ноги, потер бледной рукой горло.
– Задыхаюсь. У меня в легких четыре дырки, да и возраст... Ты посмотри на окна – бойницы. Выходи скорей из этих стен, Тимаков. Там началась другая жизнь. Иди скорей. А я тебе, по-хорошему позавидую. Ты молод: одолеешь, поживешь, повидаешь, поборешься еще!..
Откуда-то издалека доносилась музыка. Духовой оркестр играл военный марш.
Поживу ли? Чувствую себя таким изношенным... В партизанском лесу любил оставаться один на один с ночью, слушать шум говорливой горной реки, смотреть на звездный небосвод, на смутные очертания гор. Мечтал: кончится война, дотяну я до седин и приду сюда, к верховью Донги, к подножию Басман-горы. Там, где под ветром шумит молодая роща, поднимутся папаши-дубы, а где сейчас стоят молодые сосенки, устилая землю смолистыми иглами, вырастет большой лес. Только древний Басман по-прежнему никому не уступит высоты своей, своего величия. И я побреду по тропе, охватывающей с юга его могучую каменную грудь...
– А я думала, вы спите. Стучу – не отвечаете. – Вера прошла прямо к тумбочке, положила на нижнюю полку сверток, встала за спинкой кровати.
– Что там, в городе?
– К параду Победы готовятся.
– Наших не встречала?
– Не пришлось...
– Как дома?
– Как обычно. Наташка здорова. Все стены комнаты разрисовала красным карандашом. А как ты?
– Все в порядке.
– Знаешь, Костя, Наташка покоя не дает, рвется к тебе. Уж и не знаю...
– Чего же ты не знаешь – к нам опасно...
– Так я про это и толкую матери, а они обе к тебе хотят – что малая, что старая.
– Ты иди, а то на поезд опоздаешь.
– Да, они сейчас редко ходят.
Дверь за Верой закрылась. В палате тихо-тихо. Васильев, наверное, уснул...
– Кто она тебе?
Я вздрогнул от неожиданности.
– Ну, жена...
– Почему "ну"?
– Сам не знаю...
– Вот те раз! Не любишь? А любил кого? Где она?
– Не надо, Павел Николаевич...
– Как знаешь. Только это не жизнь, а одна проволочка:
– У меня дочь.
– Что же это у вас так получается?
– Так сложились обстоятельства...
– Ну, милый мой, война – вот это обстоятельства. А в любви человек властен над ними. И не дай бог, если обстоятельства становятся сильнее тебя. Тогда ты и сам не обретешь и другим не дашь, может быть, самого главного в жизни!..
Музыка гремела где-то рядом, наверное на площади Коммуны; слышны строевые команды. А мелкий дождик все сыпал и сыпал. Влажные кумачовые флажки нависали над трамвайными линиями Божедомки – они виднелись за гранитной спиной Достоевского.
В день парада нас угостили роскошным завтраком, потом мы собрались в Ленинском уголке, слушали по радио голос Левитана, бой часов на Спасской башне, цокот копыт по мостовой, встречный марш и рапорт командующего парадом маршалу Жукову.
После обеда в палату вбежал санитар:
– Кто будет полковник товарищ Тимаков?
– Я.
– К вам пришли жена с дочуркой. Ждут в Ленинском уголке.
– Пустили сюда ребенка?
– Да они за окном. Вы халат, халат накиньте, окно там открою.
Прижавшись к матери, худенькая, росленькая девчушка, задрав белую головку, смущенно смотрела на меня. Моя, моя, моя... Все-все мое – даже чуть заметная ямочка на подбородке...
– Здравствуй, Наташенька!
– А ты мой папа?
– Твой, твой, а чей же?
– Войны нет, а ты домой к бабушке не приходишь!
– Я рану лечу.
– Тебя – автоматом?
– Полковник, немедленно в палату! – Дежурный по госпиталю решительно закрывает окно.
– Там моя дочурка!
– Все понимаю, но в палату, в палату. – Он чуть ли не силой выталкивает меня из комнаты.
В коридоре никого не было. Я бросился бегом к входной двери. Дежурный санитар, пожилой солдат в белом халате, остановил меня:
– Далече, товарищ больной?
– На свет божий!
– Никак нельзя! Наше медицинское дело только начинается. Главный сказал: шла война – на нервах держались, пришла тишина – с ног валятся. Человек не железный, подковать его заново надо, жизнь требует!
– Философ ты, однако. На каком фронте воевал?
– Ты лучше в палату ступай, а то и тебе и мне – под микитки.
– Так меня уже подковали – домой скоро. Я ненадолго, а?
Вышел. Моих не видно. Неужели успели уйти? Спустился к памятнику Достоевскому. Вокруг него ухоженная земля, растут канны, молоденькие, на развернутых листьях – радужные капли дождя. Земля слегка парит. Под кленом скамья. Сел в тени, потянулся, осторожно попробовал поглубже вдохнуть. Хорошо! Увидел на тапочке муравья. Загадал: поползет по ноге вверх – буду жить долго. Он никуда не пополз, спокойненько сидел себе. Шевельнул ногой свалился.
Кто-то подходил ко мне. Поднял голову – Вера.
– Костя, я ищу тебя, оставила Наташку вон в той пристройке, у няни, добрая такая... Ведь не успела сказать самого главного. В Крыму нам дают квартиру – друзья партизаны постарались.
– Вот и хорошо. Наташа будет жить у моря.
– Да, еще: тебя скоро выпишут, я была у главного врача.
– Догадываюсь...
Вера села рядом.
– Костя, не обижайся, но я обязана тебя предупредить: будь осторожен, не подпускай к себе Наташку. Что ты так смотришь на меня? Я же ничего такого не сказала. Спроси у любого врача...
Я отвернулся, чтобы она не видела моих глаз.
* * *
...Наш пассажирский, натужно одолев подъем, вырвался на простор. Мелькают разрушенные разъезды, полустанки, деревни, в которых вместо изб торчат одни дымари. Но рядом уже поднимаются стены, растут новые стропила. За переездом, у каменного сарая без крыши, – колесный трактор, возле него суетятся мужики в военных засаленных гимнастерках.
Сверкнула полоса цветущей гречихи, и началось пшеничное поле с овсюгом и васильками. Внезапно оно оборвалось, и потянулась пустошь с полуразвалившимися окопами, ходами сообщений, капонирами, бывшими артиллерийскими позициями – все это зарастало сорными травами. За путевой будкой, под старыми вязами, огороженная кустарником – большая братская могила...
И в этом огромном пространстве под высоким летним небом, в этой нескончаемой тишине я услышал землю с ее полями и дорогами, лесами и садами, селами и городами, встающими из пепла. В них вместе с домами на площадях поднимутся обелиски и из братских могил шагнут на пьедесталы павшие солдаты.
А поезд набирает и набирает скорость, колеса стучат: жить-жить-жить! И еще быстрей, быстрей: жить-жить-жить! жить-жить-жить!..
Москва
1970-1976
Примечания
{1}Истребительно-противотанковый артиллерийский полк.
{2}Я солдат первой войны.
{3}Наблюдатели.
{4}Имеется пять батарей и одна рота.
{5}Здесь первые жертвы фашистского террора в Тимокском крае: шестого сентября сорок первого года в центре поляны повещены мои товарищи секретарь окружного комитета коммунистов Миленко Бркович и сотрудник комитета Георгий Семенович. Мои солдаты жаждут мести!
{6}Мальчика.
{7}Учеников.
{8}Ворон гор оберегает Красную Армию.
{9}А сейчас наша дорога на Белград!
{10}Да здравствует Сербия – солнечный дом!
{11}Это фашисты-каратели!
{12}Одна дорога – один памятник.
{13}Горы! Не вещайте горьким голосом, что умер Бранко! Нет, нет! Ты, друг Бранко, в моем сердце...








