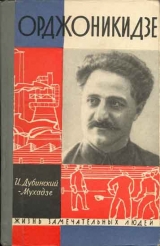
Текст книги "Орджоникидзе"
Автор книги: Илья Дубинский-Мухадзе
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
12
Сохранилась толстая тетрадь [41]41
Тетрадь хранилась в личном архиве Зинаиды Гавриловны Орджоникидзе. До конца своих дней она продолжала поиски Другой тюремной тетради Серго – за № 1. Возможно, ее и не было, и № 1 относится к чему-то другому из тюремного «имущества» Орджоникидзе.
[Закрыть]в одну линейку, в черном клеенчатом переплете. Сто девяносто четыре желтых листочка, пронумерованных и прошитых цветным шнуром, – на концах большая сургучная печать с двуглавым орлом. Несколько овальных штампов: «Проверена 13/ХП 1913 г.», «Проверена 23/1У» (год не проставлен) и т. д. Шлиссельбургская тюремная тетрадь не самое лучшее место для доверительных записей. И все-таки как много сокровенных мыслей Серго может поведать она! Вслед за самодельным календарем – стихотворение (Федор Николаевич Петров твердо стоит на том, что даже в карцере Серго писал стихи и читал, – товарищам):
Тут… тук… тук…
Миновал обход докучный. Лязгнул ключ, гремит засов.
Льется с башни многозвучный, перепевный бой часов,
Скоро полночь – миг свободы;
Жаркой искрой сквозь гранит к мысли мысль перебежит,
Тихий зов, тоску, невзгодье
Сердце сердцу простучит:
Тук… тук… тук!..
Условный звук,
Звук приветный,
Стук ответный,
Говор азбуки заветной,
Голос камня: гук-тук-тук!
Голос друга: "Здравствуй, друг!
Я томлюсь вю мраке ночи,
Ноет грудь, не видят очи,
Одолел меня недуг…
Слышу смерти приближенье…
О, как жажду я забвенья!
Как зову успокоенье,
Наслажденье мертвым сном!.."
"Друг, ответь мне, что с тобою?
Ты сильней меня душою,
Спишь ли ты ночной порою
В этом склепе гробовом?"
Стук приветный, тихий стук,
Звук ответный: тук… тук… тук.
"Я бы спал, и сон приходит —
Дух усталый вдаль уводит, —
Но не долог чуткий сон.
Вдруг проснусь я, содрогнусь я, —
И так больно в душу входит
Голос пленницы безумный,
Одинокий, страшный стон…
Часто ночью многодумной
Рядом, рядом за стеной
Слышу смех ее безумный,
Слышу крик души больной…
Жутко… Страшно… Но, бывает,
Сердце тьму позабывает —
Просветленный, чудный миг…
Мысль далеко улетит…
В книге звезд душа читает
Откровенье древних книг…"
"Друг, мужайся! День настанет!
В алом блеске солнце встанет!
Синей бурей море грянет,
Волны песни загудят!
Будет весел многоводный
Пир широкий, пир свободный.
Он сметет грозой народной
Наш гранитный каземат.
Мы расскажем миру тайны
Долгих лет и долгих мук,
И в садах родной Украины
Вспомнишь ты, сосед случайный,
Наш условный, тихий стук —
Стук приветный, стук ответный,
Голос азбуки заветной,
Голос камня: тук… тук… тук!..
Голос друга: «Здравствуй, друг!»
…Тихий стук, печальный стук:
Тут… тук… тук…
"Нет, не мне в саду зеленом
Встретить песней и поклоном
Луч багряный – вспышку дня!
Слышишь: льется нежным стоном,
Бьет последним перезвоном
Час желанный для меня.
Друг, прощаюсь я с тобою:
Смерть склонилась надо мною
И рукою ледяною
Уж моих коснулась губ…
Завтра утром два солдата
Унесут из каземата
Безыменный, бедный труп…
Душно, дурно… Умираю…
Месть тебе я завещаю:
Расскажи родному краю
Этот ужас долгих мук.
Ближе, ближе холод ночи…
Давит грудь… не видят очи…"
Слабый стук, последний стук.
«Милый друг, спокойной ночи!..»
Тут… тук… тук…
Других стихотворений Серго в тетради нет. Зато много внимания он уделил строкам Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Из книги поэта Михайлова выписал:
Да, сеял доброе ты семя,
Вещал ты слово правды нам.
Верь, плод взойдет, и наше время
Отмстит сторицею врагам
И разорвет позора цепи,
Сорвет с чела ярмо раба,
И призовет из снежной степи
Сынов народа и тебя.
Часто Серго обращался к Байрону. Известному четверостишию:
И если ты о юности жалеешь,
Зачем беречь напрасно жизнь свою?
Смерть пред тобой, и ты ли не сумеешь
Со славой пасть в бою?
– сопутствует полный сочувствия рассказ Орджоникидзе о последних часах поэта-борца, о его смерти в походной палатке на земле Эллады…
По своей ли доброй воле или чтобы не лишать себя права пользоваться тюремной библиотекой, Серго всякий раз заносил в тетрадь название прочитанной книги и фамилию автора. Из русских писателей чаще всего: Достоевский, Лев Толстой, Тургенев, Герцен, Чернышевский, Гончаров, Короленко, Горький, Куприн, Леонид Андреев, Бунин, Гарин-Михайловский, Мельников-Печерский, Вересаев, Борис зайцев, Помяловский, Сергеев-Ценский, Муйжель, Телешов, Серафимович. Из иностранных авторов: Шекспир, Гёте, Мольер, Мирбо, Бурже, Гудков, Шиллер, Франс, Бомарше, Бальзак, Ибсен, Стендаль, Золя, Стринберг, Гауптман, Бичер Стоу, Уэллс, Лондон.
Из многих книг сделаны выписки. Почти всегда Серго высказывал свое мнение о прочитанном, полемизировал с авторами или подкреплял их мысли своими наблюдениями, доводами.
Теперь уже более обстоятельно и продуманно, чем во время последнего разговора с Лениным в Париже, Серго высказал свое мнение о взглядах с детства любимого Герцена.
"…Три ошибки Герцена. 1. Он не понял и не оценил того великого движения русской общественной мысли, которое зачиналось в конце50-х гг., в самый разгар политической жизни Герцена, и было связано с великими именами Чернышевского и Добролюбова;
2. Он не понял и не оценил зачинавшегося в 60 годах величайшего в новейшей истории Западной Европы движения рабочего класса,руководимого тогда К– Марксом, как не понял значения научно-философских идей великого экономиста.
3. Менее важная, но очень любопытная третья ошибка Герцена – его сентиментальное или романтическое воззрение на Россию, на русский народ, противопоставляемое Западной Европе, будто бы уже дряхлеющей, воззрение, которое можно назвать "социалистическим славянофильством" или "русским мессионизмом Герцена".
Несколько страниц посвящены судьбам русской общины.
"В письме к Энгельсу от 7/Х1 1868 года, – отмечает Серго, – Маркс вполне определенно подтвердил, что не придает русской общине никакого серьезного значения в смысле социализации общественного строя. Маркс пишет: «Все тут абсолютно, до малейших деталей, тождественно с первобытной германской общиной. Что является специфически русским (но это встречается также в части индийских общин, – не в Пенджабе, но на юге), так это, во-первых, не демократический, а патриархальный характер управления общиною и, во-вторых, круговая порука при уплате государственных податей и т. д. Из второго пункта следует, что чем прилежнее русский мужик, тем больше эксплуатирует его государство, не только в форме податей, но и в форме натуральных повинностей, поставки лошадей при постоянных передвижениях войск, казенных курьеров и т. д. Но вся эта штука осуждена на гибель».
И снова о судьбах русской общины. Между конспектами книг «Евреи и хозяйственная жизнь» и «Развитие современной техники» Серго поместил несколько статистических выкладок: «По данным главного управления землеустройства и земледелия за 5 лет четыре миллиона домохозяев возбудили ходатайство о выходе из общины… Выходят как в земледельческих центрах, так и в промышленных… В России полное разложение общин. Быстрая пауперизация крестьянства».
Заново перечитав "Горе от ума", Серго с удовольствием занес в тетрадь:
"Грибоедов не сказал обществу ничего совсем нового, и тем не менее пьеса была принята, как нечто небывалое, как редкостная новинка, не имевшая прецедентов. Такою, без всякого сомнения, и была она.Это кажущееся противоречие в высокой степени характерно для произведений реального искусства. Взятые из живой действительности, они говорят о том, что все знают; они являются только дальнейшим развитием художественных образов и художественно-моральных суждений, принадлежащих обществу, или по крайней мере его мыслящей части. Сатирические стрелы поэта направлены на самое больное место:на тех, которые являлись и тогда и потом основою самой гибельной из всех реакций – реакции общественной.Для общественного блага нет ничего пагубнее той умственной тьмы и светобоязни, той нравственной слепоты и того душевного уродства, которые воплощены в образах Фамусова, Молчалина, Скалозуба и всех этих
Старух зловещих, стариков,
Дряхлеющих над выдумками, вздором…
Чацкий – воплощение сложившегося передового деятеля 20 г. и представитель новых идей".
…На третий месяц заточения в Шлиссельбурге Серго получил немного денег от брата Папулия и мачехи Деспине. Сразу проснулась страсть, к «приобретательству». Все до последней копейки переотправил в книжный магазин. И в будущем, как получит пять или десять рублей (более крупных сумм набрать не удавалось) от родственников, немедля закупает книги. Так что к концу пребывания в каторжной тюрьме Серго располагал солидной «собственностью», книгами Чернышевского, Меринга, Плеханова, Луначарского, Туган-Барановского, Адама Смита, Рикардо, историков Виппера, Ключевского, Костомарова, Тейлора, Зегера.
К трудам историков Серго был особенно неравнодушен. Он законспектировал: "Первобытную культуру" Тейлора, древнюю историю в толкованиях таких разных авторов, как Зегер и Беккер, "Древний мир" "Древний Восток и эгейская культура" Виппера, "Лекции по истории Греции", "Очерки истории Римской империи", "Средние века", "Историю Европпы" Кареева, "Историю Соединенных Штатов" Чапнинга, двадцать три книги по русской истории.
Немалой симпатией Орджоникидзе, возможно как дань времени – 1914–1915 годы! – пользовались книги военных историков, полководцев, стратегов.
Все получало свою оценку. Иногда Серго вовсе не считался с тем, что тетрадь возьмут на просмотр и крамольные мысли приведут в карцер.
Такая книга, как "Сказание иностранцев о русской армии в войну 1904–1905 гг.", в руках Серго получает взрывчатую силу. "Книга рисует всю беспомощность и ничтожество как общей организации, так и руководителей, а так же, несмотря на храбрость русск. солдата, его неподготовленность и невежество. Если хоть 50 доля той безалаберности сохранилась до сего дня, то поражение неизбежно. 4/1II 1915 г.".
Мнение Серго о войне категорическое:
"Европейская и всемирная война имеет ярко определенный характер буржуазно-империалистическо-династической войны. Борьба за рынки и за грабежи стран, стремление одурачить, разъединить, перебить пролетариат всех стран, направить наемных рабов одной страны против наемных рабов другой на пользу буржуазии – таково единственно реальное значение войны…
Когда немецкие буржуа ссылаются на защиту родины, на борьбу с царизмом, на отстаивание свободы, культуры и национального развития, они лгут, ибо изменническое юнкерство с Вильгельмом Вторым во главе и крупная буржуазия Герм[ании] всегда вели политику защиты царской монархии и не преминут при всяком исходе войны направить усилия на ее поддержку. Они лгут, ибо австр[ийская] буржуазия предприняла грабительский поход против Сербии, немецкая угнетает датчан, поляков, французов в Эльзас-Лотарингии, ведя наступательную войну против Бельгии и Франции ради грабежа более богатых и более свободных стран… Когда французские буржуа ссылаются точно так же на защиту и проч. – они также лгут, ибо на деле они защищают свой капитал – свое божество".
Иногда Серго спохватывался, прибегал к маскировке. Под невинным заголовком «Взгляды протестантов и реформистов» среди совершенно безобидного текста приговор Второму Интернационалу и защитникам буржуазного отечества:
«Оппортунисты давно подготовляли крах 2-го Интернационала, отрицая социальную революцию и подменяя ее буржуазным реформизмом, отрицая классовую борьбу с превращением ее в известные моменты в гражданскую войну и проповедуя сотрудничество классов. Проповедуя буржуазный шовинизм под видом патриотизма и защиты отечества».
В свое время Ленин и другие лекторы партийной школы в Лонжюмо «не успели» проэкзаменовать Серго. Прочитай Владимир Ильич эту тюремную тетрадь, он наверняка поставил бы Серго высший балл.
13
Начальник каторги готовился подписать «Статейный список» № 209. Барон Зимберг настолько сосредоточился, что не заметил, как писарь расправился с фамилией каторжанина: из первого слога выбросил букву "д", во втором вместо "о" поставил "а".
Орджоникидзе или Оржаникидзе – пустяк, конечно. Белесые глаза впились в статью за номером три:
«К каким категориям преступников относится? – Из беглых. Лишенный всех прав состояния ссыльнопоселенец деревни Потоскуй, Пинчугской волости, Енисейского уезда и губернии. Трижды осужден за государственные преступления».
Статья за номером пять (барон по важности поместил бы ее самой первой!):
«Следует ли в оковах или без оков? – В нижних кандалах. Может ли следовать пешком? – Обязан. Послабления не могут быть допущены».
Три года бунтовал в «заразном» отделении, не смирился в карцере, теперь попробуй пошагай закованный в кандалы десять тысяч верст зимой, через всю Сибирь!
Еще при первом столкновении остзейский барон обнадежил Серго – в Шлиссельбурге ничто не остается без наказания. Сейчас на прощание титулованному тюремщику захотелось напомнить о своем могуществе. Партию колодников, с которой шел Орджоникидзе на вечную ссылку в Якутию, отправили из Шлиссельбурга в самую непогоду – восьмого октября 1915 года.
Не вина барона Зимберга, что его бессмысленная жестокость вопреки всем расчетам обернулась на пользу Серго. (Это уже потом, в Иркутске.)
Покуда колодники, звеня цепями, взметая снежную пыль, дотащились до Иркутска, в Восточной Сибири установилась крепкая зима. Даже по инструкциям Главной тюремной инспекции запрещено было гнать каторжан дальше на север. Знакомство Серго с Якутией отодвигалось на полгода. Ущерб для государственных интересов, разумеется, громадный, да и очень нежелательно, чтобы склонный к побегам опасный преступник находился так долго в губернском центре. Губернатор запросил указаний из Петрограда. Министр внутренних дел ответил депешей – поместить в Александровский централ, содержать в строгом режиме.
Через два месяца в каторжный централ, предусмотрительно поставленный на отшибе в тайге, вдали от всего живого, ворвалась эпидемия горячки. Серго напомнил, что он фельдшер, предложил свои услуги. После недолгих колебаний – болезнь слишком свирепствовала – начальник тюрьмы назначил Орджоникидзе санитаром. Вскоре повысил до помощника фельдшера. О строгом режиме уже не было речи.
В мае Серго затребовали обратно в Иркутск. Первая весенняя партия ссыльных уходила к угрюмым, почти безлюдным берегам Лены. Порядок тот же – пешком, от этапа к этапу.
Миновали тайгу, углубились в бескрайние просторы бурятских степей. Открытые всем ветрам, они казались нескончаемыми и первозданно дикими. Лишь сейчас Орджоникидзе по-настоящему понял, какую участь ему готовил барон Зимберг. Зима 1915 года легко могла стать последней в жизни Серго. Горько усмехнулся: Александровский каторжный Централ в роли счастливого прибежища!..
"Я совсем отдохнул, – как-то вспоминал Серго, – когда наша пестрая и довольно многолюдная команда погрузилась на паузок. [42]42
Паузок – речная плоскодонная баржа.
[Закрыть]Трюм превратился в огромную, плывущую вниз по течению Лены камеру. Удобств – никаких. Сплошные нары в два яруса. Вповалку здоровые и больные, теснота, закрытые наглухо ночью двери, вонь грязного белья и немытого человеческого тела. Все искупалось с наступлением утра. Едва открывали трюм, мы бросались на палубу. Кто садился за удочки по бортам паузка, кто принимался за самодельные шашки, шахматы. Большинство просто отводило душу – долгие часы мы жадно всматривались в цвет неба, в игру воды, во все, что после долгой разлуки дарила природа. Ближе к Якутску паузок проплывал под нависшими над рекой островерхими скалами. Вспоминал Кавказ…"
Четырнадцатого июня паузок причалил к якутской пристани. По тем временам Якутск был довольно большой город, с крепко срубленными деревянными домами. Главную улицу с особняками губернатора, полицеймейстера и бог знает как разбогатевших купцов освещали электрические фонари. Случалось, притом довольно часто, что не в меру расшалившиеся белки принимали столбы за обыкновенные деревья, носились по ним, прыгали на провода – устраивали короткое замыкание. Тогда областной центр погружался в темноту.
Дальнейшая участь Орджоникидзе зависела от губернатора. Он должен был назначить "место пожизненного водворения". Все предопределял "Статейный список" – плод верноподданнических усилий барона Зимберга.
Должность губернатора исполнял опять же прибалтийский барон фон Тизенгаузен.
Его превосходительство испытывал острую потребность упрятать опасного и неисправимого смутьяна в особенно далекий закуток Фон Тизенгаузен бросил взгляд на карту опекаемой им области. Затем размашисто вписал в "Статейный список": "Распределен в Нюрбинское сельское общество Вилюйского округа".
Семьсот с лишним верст от Якутска на север, в глубь тундры. Вилюйск, по характеристике Чернышевского, "…это даже не село, не деревня в русском смысле слова. Вилюйск – это нечто такое пустынное и мелкое, чему подобного в России вовсе лет". Нюрба и того страшнее – крохотная, забытая богом и людьми заимка. Полное одиночество, безнадежная оторванность от близких по духу и мало-мальски интеллигентных людей, надзор жандармов.
Личной аудиенции у губернатора Серго не имел права просить. Можно было только заочно прибегнуть к самому крепкому и презрительному грузинскому ругательству: "Отец твой собака!" – и от души пожелать его превосходительству самому убраться в Нюрбу или в преисподнюю, что, в сущности, одно и то же…
Отбывавшие свой "срок" в Якутске большевики Андрей Агеев, Емельян Ярославский, его жена Клавдия Кирсанова обратились к врачам, адвокатам, педагогам, взбудоражили всех "политических". На губернатора нажали с разных сторон.
– Все средства были пущены в ход, – вспоминала Кирсанова, – для того, чтобы помешать новой репрессии, не дать отправить Серго в Нюрбу – эту каторгу в ссылке. Организация политических ссыльных в то время представляла довольно внушительную силу, и фон Тизенгаузену пришлось отступить.
Сочувствовавшие большевикам врачи И. Бик и Н. Юдин предложили Серго подать прошение о предоставлении места фельдшера.
Серго написал:
"Господину старшему врачу Якутской гражданской больницы. Медицинского фельдшера ссыльнопоселенца сел. Нюрба, Вилюйского округа, Григория Константиновича Орджоникидзе
Прошение
В 1905 году я окончил Тифлисскую фельдшерскую школу при Михайловской больнице, – что и указано в моем «Статейном списке». Служил в Гудаутской сельской больнице, на нефтяных промыслах Ш. Асадуллаева, в холерном бараке при Бакинской городской больнице, а в последнее время, сидя в Александровском остроге, фактически в продолжение четырех месяцев исполнял обязанности фельдшера.
Ввиду того, что по указу Правительствующего Сената от 27 октября 1914 года и циркуляра министра внутренних дел от 16 сентября 1915 года за № 960 политическим ссыльным разрешается заниматься медицинской практикой, убедительнейше прошу вас предоставить мне место фельдшера во вверенной вам гражданской больнице.
Фельдшер Григорий Орджоникидзе.
20 июня 1916 г., гор. Якутск".
Замещавший областного врачебного инспектора доктор Бик от себя добавил:
«Ввиду крайнего недостатка врачей и фельдшеров в настоящее время Врачебное отделение полагает возможным принять политического ссыльного Орджоникидзе по вольному найму на должность фельдшера, о чем предоставляет на разрешение Вашего Превосходительства».
Фон Тизенгаузен любил при случае продемонстрировать свою интеллигентность и широту взглядов. Тем более что из России, из действующей армии особенно, приходили тревожные вести. Обстановка накалялась.
– Я, собственно, ничего против этого помощника эскулапа не имею, – сказал барон Бику и Юдину.
Нового фельдшера городской больницы приютили у себя Клавдия Кирсанова и Емельян Ярославский. Они жили в бревенчатом домике при городском музее (Ярославский заведовал музеем). На долю Серго досталась маленькая каморка, но с редчайшим для Якутска электричеством!
Заботами правительства в Якутске были представлены все оттенки политической мысли. От большевиков до "аграрников", очень смутно разбиравшихся в партийных программах. Были меньшевики, анархисты, террористы-эсеры вроде Петра Куликовского, которому мятежным генералом Пепеляевым после революции предназначался пост губернатора Якутии. Были матросы и солдаты – участники военных восстаний. Попадались и самые заурядные либералы, кадеты. Они группировались вокруг доктора Сабунаева, будущего министра у Колчака.
Оказался в Якутске и брат Ладо Кецховели – Сандро. Не просто грузин – земляк. В юности близкий товарищ, почти побратим Серго. При встрече бросились в объятия, неуклюже, по-мужски расцеловались. А едва беспорядочный разговор коснулся партийных дел, войны, попыток оторвать Грузию от России, оба с ужасом почувствовали, что вместо былой близости – вражда. Все, что раньше связывало, в прах распалось.
По характеру Кецхозели-младший – истый горец, с его силой и слабостью – прямой, чистый, непоколебимо преданный, и очень наивный, и очень упрямый. До конца своей трудной жизни Сандро искренне верил, что непогрешимо служит революции, жертвует ради большого счастья на земле,
И тогда в Якутске и позднее он мучительно переживал вынужденный разрыв с Орджоникидзе. Серго в таких делах непримирим. Поняв, что Сандро никаким доводам не поддастся, так и останется слепым поклонником– Плеханова и Жордания, попросил его больше не приходить.
– Так будет лучше нам обоим, – печально заключил Серго.
Через год – через два кое с кем из бывших друзей придется расстаться еще более трагически. Борьба потребует всего, вплоть до смертных приговоров.
Колонию ссыльных – около пятисот человек – беспощадно разъединяло отношение к войне, длившейся уже без малого два года. Даже среди тех, кто всегда причислял себя к революционной социал-демократии, не было полного единства. Возникли как бы Два полюса. На одном Серго, на другом Михаил Томский, влиятельный и упрямый профсоюзный вожак.
В дружеском кружке за чаем у Ярославского или на тайных от полиции дискуссиях Серго держался твердо: война неизбежно кончится поражением Российской империи. Затем – революция, новая жизнь!
Томский отстаивал противоположное: свою страну надо защищать такой, как она есть. Революция – это удар в спину. В пику Серго он адресовал всем политическим призыв относиться к России "вот так, как Фирс чеховский любит вишневый сад".
У Серго нашелся анонимный доброжелатель. Известил фон Тизенгаузена, что "придерживающийся опасно крайних взглядов ссыльнопоселенец Орджоникидзе пагубно влияет на окружающую среду". Барон приказал:
– Выдворить немедленно!
Опять поспешили на помощь врачи Бик и Юдин. Они отыскали для Серго вакансию фельдшера в больнице села Покровского. В девяноста верстах от Якутска, на правом, гористом берегу Лены.
Село небольшое, всего на пятнадцать дымов, как говорили в старину. Дым над крышей домика под ледяным панцирем – единственное и верное свидетельство того, что тут кто-то живет. А ледяной панцирь это в самом буквальном смысле. При первом морозе деревянный дом старательно обливают водой. Несколько раз подряд. Толстый слой льда держит тепло. Попозже, когда зима окончательно вступает в свои безграничные права и в тридцатиградусный мороз облегченно говорят: "сегодня-то как тепло!", якуты еще приклеивают к окнам большие зеленые льдины. Тоже для тепла.
И все-таки большего села, чем Покровское, в Первой волости Якутской области не было. На всей территории в пятьсот верст! В Покровском – волостное правление, телеграф, почтовая контора, летом и пристань на Лене, больница, церковноприходская школа, три церкви, лавка купца Кушнарева. За околицей тайга. Кое-где деревья нехотя потеснились, дали место якутам поставить свои наслеги – деревеньки из нескольких юрт.
Серго поселился в больнице. Заведующая и единственный врач Варвара Петровна Широкова-Диваева отвела новому фельдшеру одну из комнат приемного покоя. Выделила из больничных запасов железную койку, стол, два стула, жестяной умывальник.
Принимайся, фельдшер, за работу! В "стране систематического голодания, – как писали либеральные статистики, – одна больница обслуживала в среднем площадь около 200 тысяч квадратных верст".
Варвара Петровна тоже из ссыльных, пострадала за участие в первомайской демонстрации. Поначалу она молча приглядывалась к Серго. Потом не выдержала – прочла мораль:
– Григорий Константинович, почему вы начинаете прием с шести утра? Денег с больных вы все равно не берете. Довольствуетесь своим более чем скромным жалованьем… И почему вы так решительно отказываетесь от всех приглашений богача Барашкова? Купец превосходно платит. Другой бы на вашем месте сам напросился. Посмотрите в зеркало, какой вы худой, бледный!.. Плюньте на свои высокие принципы. У вас ссылка-то бессрочная!
– Богатого купца я посещать не стану, – твердо отвечал Серго. – Ничем он не болен. А якуты, те действительно нуждаются в помощи. Надеюсь, вам, Варвара Петровна, знакомы слова Чернышевского: "якуты живут хуже негров Центральной Африки".
– Одно из двух, Григорий Константинович, или вы не в меру наивны, или у меня душа слишком заскорузла. Неужели вы верите, что есть сила, способная досыта накормить якутов, одолеть их страшные болезни – волчанку, трахому, сифилис?
– Верю, дорогой мой доктор, очень верю! Пообещайте угостить меня самосахарными ягодами – и я вам объясню, откуда моя твердая вера.
– Самосахарные ягоды! – Варвара Петровна рассмеялась. Ей нравилось это слово, придуманное Серго. Так он называл мороженую бруснику, покрывшуюся инеем в теплой комнате… – Тогда так, сначала вы получите от меня выговор, а потом ягоды.
– За какую провину, Варвара Петровна?
– Я слышала, что вы ответили больной старухе в стационаре. Она причитала: "Прибрал бы бог меня поскорее", вы поспешили обнадежить: "Голубушка, ты не беспокойся, на это доброты у твоего бога хватит"… Будьте осторожнее!
В Покровском Серго… влюбился. Ничего удивительного, если не знать драматического финала первой любви.
Далеко-далеко, чуть ли не на противоположном конце земли, в веселых горах родной Имеретии жила девушка с удивительно точным именем Мзия. [43]43
Мзе – солнышко (груз.).
[Закрыть]В годы детских игр озорной мальчишка Серго запросто кричал ей: «Эй ты, солнышко, беги скорее, смотри, какую я форель поймал!» В юности, в часы редких свиданий на берегах той же Квадауры или на горе Клдисдзири, застенчивый, как все влюбленные, Серго одним дыханием произносил: «Солнышко, свети мне всю жизнь».
Девушка с необычными для грузинки зелеными глазами и косами цвета хорошо начищенной меди нравилась не одному Серго. Особенно упорно ее добивался сын старшины села Гореша. Втайне от Мзии ее родители обнадежили богатого и влиятельного жениха: потерпи, мы уломаем дочку.
Осенью 1906 года уверенность Мзии в том, что Серго без нее долго оставаться не сможет, обязательно приедет за ней, сильно поколебалась. Сама тетушка Деспине подтвердила, старшина сказал правду, ее пасынок в Горешу не собирается. Через двоюродного брата Тарасия просит выхлопотать какую-то казенную бумагу для того, чтобы ему лучше жилось в главном немецком городе.
До рождества Мзия еще ждала. Потом уступила родителям. Священник объявил о помолвке. Подготовка к свадьбе была в разгаре, когда из Германии вернулся Серго. Старшина сделал все, что было в силах любящего отца. Написал донос приставу, съездил в Кутаис к прокурору. Не его вина, что крестьяне предупредили Серго, укрыли от нагрянувших среди ночи стражников.
За день до свадьбы Мзии Серго, не обращая внимания на уговоры друзей, на прямой запрет тифлисского подпольного центра, попытался пробраться в Горешу. В плотной темноте зимней ночи погнал он коня на Сурамский перевал – навстречу беде во многом непоправимой. Серго ли, отдавшись мечтам о Мзии, слишком натянул поводья? Или плохо обученная крестьянская лошадь очень уж круто метнулась, близко почуяв зверя? Сорвавшись с тропы, конь рухнул вниз. Деревья подставили ветви, не дали Серго разбиться на камнях пропасти.
Утром Серго подобрали лесные объездчики. Мзию он больше никогда не видал и не позволял сообщать себе о ее судьбе.
В следующие десять лет всякое, конечно, бывало. Серго не терпел лицемерия, ханжества. Позволяло время – веселился, танцевал, ухаживал. Не скрывал, если женщина нравилась ему. И далеко не в самый подходящий момент рассказывал ей о Мзии. Сравнения с Мзией не выдерживал еще никто.
То, что казалось совсем невозможным в России, в Иране, во Франции, нагрянуло, кто бы мог подумать, в Покровском.
Серго уверял, что виной всему самосахарные ягоды доктора Варвары Петровны. Он приходил полакомиться и… заставал Зину, учительницу Зинаиду Павлуцкую. Тоже большую любительницу ягод.
Возвращались вдвоем просто потому, что девушке слишком опасно одной в темноте – из тайги часто наведываются волки. Зинаида Гавриловна запомнила и первую еще совсем случайную встречу.
"Впервые я встретила Серго в пасмурный сентябрьский день 1916 года. Вместе с подругой мы шли по широкой улице села. Нам повстречался худой и стройный кавказец. Он был одет в поношенное осеннее пальто. Шел он без шапки, и ветер развевал его вьющиеся длинные волосы.
– Кто это? – обратилась я к подруге.
– Новый фельдшер… – подруга помолчала. – Не то черкес, не то грузин.
Мы прошли мимо.
– Откуда он? – вновь спросила я. Подруга пожала плечами.
Не знаю…
Через несколько дней я встретила нового фельдшера на пристани у парохода.
В наших глухих местах приход парохода был единственным развлечением…
…Накрапывал мелкий дождик. Он навевал грусть. Я думала о том, что скоро наступит зима и солнце почти совсем перестанет показываться из-за горизонта. Зимний день в Якутии равен четырем часам…
Вскоре я познакомилась с новым фельдшером. Моим ученикам нужно было привить оспу, и он пришел к нам. Затем я стала встречаться с фельдшером в семье одного местного жителя. У молодой женщины Кати было много детей. Однажды у нее заболел десятилетний сын. Пригласили фельдшера. Когда он вошел в комнату, трое детей играли возле стола. Они с испугом взглянули на фельдшера…
– Цыган! – закричали они и спрятались под стол. – Это цыган!
Фельдшер прошел в глубь комнаты, где лежал больной мальчик. Он заботливо осмотрел ребенка и прописал лекарство. Ничего страшного с ребенком не было – обычная инфлуэнца.
Дети по-прежнему со страхом поглядывали на "цыгана". Он подошел к ним и с шутками стал вытаскивать их из-под стола.
Сначала ребятишки отбивались и пищали, но веселая, добрая улыбка фельдшера успокоила и ободрила малышей. Уже через пять минут фельдшер и дети были друзьями. Ребята сидели у него на коленях, а он щекотал их своими пушистыми усами и обучал грузинской скороговорке: "ква, ква, кванча-ла; кванчала да кванчала; гогона да гогона".
– Дядя, а это что значит? – спрашивали у него дети, со смехом повторяя непонятные слова.
– Секрет.
– Ну, дяденька, миленький…
– Нет, не скажу.
Фельдшер очень любил детей, и дети платили ему тем же. Он стал самым дорогим гостем у Кати, и всегда с его приходом в доме начиналось общее оживление.
Часто бывало, что он привозил из далекого якутского селения больных ребятишек. С каким вниманием, с какой заботой лечил он их! Он сам обмывал их грязные тела, сам делал перевязки, сам кормил.








