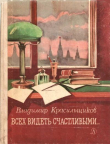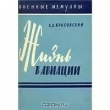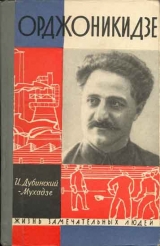
Текст книги "Орджоникидзе"
Автор книги: Илья Дубинский-Мухадзе
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
"МОСКВА, КРЕМЛЬ, ЛЕНИНУ, ЧИЧЕРИНУ
Владикавказ, 19 октября 1918 года
Обыск английской миссии дал неопровержимые документы о связи с контрреволюцией. Миссия под домашним арестом. Прошу о дальнейшем. Можно выслать только через Тифлис.
Орджоникидзе".
На Тереке входила в свои права солнечная, прозрачная осень. Особенно удался ноябрь. Вместо нудных обложных дождей, туманов, слякоти и дурного настроения простуженных горожан – высокое голубое небо, теплынь и сердца, переполненные радостью, большими надеждами.
Торжественный парад во Владикавказе в честь первой годовщины революции. Серго на золотистом кабардинском скакуне объезжал войска. Пехотный рабочий полк. Китайские и грузинские добровольцы. Казаки. Ингушские, кабардинские и осетинские всадники. Конная артиллерия. Броневики. Настоящая боевая армия. Только еще очень пестро одетая. Старенькие шинели, истрепавшиеся пальто, горские бурки, трофейные немецкие и английские френчи, пиджаки, черкески.
После стодневных боев полная победа в Грозном. Сто дней и сто ночей рушились от артиллерийского огня нефтяные вышки. Город окутывал горький, едкий дым. Липкая жижа текла по улицам, лужами стояла в окопах. Черные пятна въедались в лица и одежду.
– Что с тобой, на кого ты похож? – вскричал Серго, вглядываясь в неузнаваемо изменившееся лицо Асланбека Шерипова.
Молодой командующий чеченской конницей, разделившей с грозненскими рабочими тяжесть обороны и радость победы, заразительно расхохотался. Ничего не говоря, Асланбек подал Орджоникидзе зеркало. Сырая нефть и копоть быстро обработали чрезвычайного комиссара, придали ему вполне грозненский вид.
"Старые промысла в Грозном нами заняты, – делился своей радостью с Лениным Серго. – Приступаем к тушению нефтяных пожаров и к организации добычи нефти.
В связи с победами во Владикавказе были митинги и манифестации. Настроение Красной Армии великолепное. Казаки массами записываются в Красную Армию".
Снят фронт у Прохладной. Терек и Кубань соединили свои силы. У обгорелого железнодорожного моста кавалеристы молодого кубанского казака Григория Мироненко встретились со всадниками такого же молодого и смелого кабардинца Бетала Калмыкова.
– Объединились! Наконец-то вместе! – кричали казаки, горцы, иногородние.
Почти никто из этих ликующих людей не обратил внимания на выстрел, прозвучавший в красном кирпичном доме станичного атамана. Покончил с собой генерал Мистулов, командовавший белоказачьими войсками в районе Прохладной.
Моздок – советский! Под ударами объединенных сил кубанцев и терцев бичераховцы быстро откатывались в степи. Ближние к Моздоку станицы оборонялись нехотя, особенно после того, как узнали, что одну из наступающих колонн ведет многим знакомый, "свой терец" Кочура. "Косоротая лисица" учуяла близкую опасность. Выбрав ночь потемнее, Георгий Бичерахов бежал из своей "столицы" под крылышко старшего брата – в Порт-Петровск. [70]70
Порт-Петровек – сейчас Махачкала, главный город Дагестана,
[Закрыть]
Съезд назывался очередным – Пятым. Заседал в тех же кадетских корпусах. Делегаты, как и раньше, приходили с кинжалами, револьверами и гранатами. В угодные аллаху часы по просьбе мусульман объявляли перерывы для совершения намаза, и место председательствующего занимал кадий. На этом сходство с предыдущими съездами кончалось.
А разница была огромной. Впервые народы буйного Терека протягивали друг другу руки.
Мир, мир и мир! – стремление всех. Казаков и ингушей, чеченцев и осетин, кабардинцев и балкар, грозненских нефтяников и кумыкских табунщиков, кизлярских виноградарей и рыбаков из Аграханского залива, священников и мулл.
Большевики были единственной политической партией, за которой шли делегаты.
На заседании бюро горских фракций слова попросил Серго:
– Когда меня спросили, не смогу ли я прийти на заседание горцев, я ответил, что пойду с удовольствием…
Я хотел прийти приветствовать горские фракции и уйти, но когда я услышал речи этих седобородых кабардинских стариков, увидел ту резолюцию, которая вынесена сейчас о контрреволюционерах, я сказал себе, что уйти я не могу, ибо тут сидят революционеры, ибо среди горских масс произошла Октябрьская революция!
Разве я не понимаю, какой переворот произошел в умах горцев!
Если бы мне сказали несколько лет тому назад, что горцы могут выдать своих гостей какой бы то ни было власти и отказать им в гостеприимстве, [71]71
Орджоникидзе имел в виду случай, взбудораживший весь Кавказ. Ингуши и чеченцы, нарушив все обычаи и законы предков, отказались приютить в своих саклях эмиссара султанской Турции Щукуби и его спутников. В ауле Сурхохи Шукуби вместо кунацкой угодил под замок.
[Закрыть]я не поверил бы этому, ибо я знаю, как священна особа гостя для каждого горца.
Если бы мне сказали несколько лет тому назад, что седобородые старики кабардинцы, взявшись за оружие, заявят мне, что они не пустят на свою территорию ни одного из своих князей и помещиков и объявят им беспощадную войну, я бы усомнился в этом…
Об одном я прошу вас в этот ответственный момент, когда мы побеждаем: не поддаваться провокации… Ведь я знаю, какой воспламеняющийся материал чеченцы и ингуши, и принимаю все меры к тому, чтобы красноармейцы не подались на удочку… Я помню, как грозненская Красная Армия требовала разгрома аула Алды как контрреволюционного, где спасались казачьи генералы, откуда снабжались патронами и продовольствием контрреволюционные казачьи банды. Несмотря на то, что это было так, что документально было установлено… я категорически приказал не принимать никаких репрессивных мер против Алды, дабы избежать вовлечения трудовбго чеченского народа в невыгодную для него войну. И здесь и повсюду я предупреждал товарищей красноармейцев, чтобы они были осторожны в отношении горцев, дабы не создавать почвы для провокации…
И я знаю, что горские народы не изменят Советской власти до тех пор, пока они не изменят себе. Но ведь известно, что люди себе никогда не изменяют, а следовательно, и горцы не изменят Советской власти никогда. Я хочу уверить товарищей горцев, что Советская власть – это их власть, а не власть, насажденная извне русскими штыками, ибо смешно говорить об этом, когда мы знаем, что эта маленькая группа штыков была изгнана в августовские дни казачьими бандами из Владикавказа в течение двух дней. И я никогда не скрываю, что Советская власть вновь была утверждена волей трудового ингушского народа.
…И я ухожу с этой трибуны с уверенностью, что трудовые горские народы не изменят Советской власти, которая является их собственной властью, ими же утвержденной в Терской республике…
Владикавказский политехнический! Как только приумолкли пушки, Серго и Яков Бутырин, избранный на последнем съезде народов Терека председателем Совета Народных Комиссаров, подписали декрет о немедленном открытии во Владикавказе политехнического института. Первого высшего учебного заведения на Кавказе!
В тот же день Серго торжественно прибил к фасаду одного из лучших зданий города эмалевую табличку: "Народная гимназия имени Буачидзе". Всех – тысячу восемьдесят семь маленьких гимназистов – мальчиков и девочек, потерявших отцов в августовских боях во Владикавказе или при осаде белоказаками Грозного, – Терская республика взяла на свое полное попечение.
На стенах домов, заборах и рекламных будках появилось взволновавшее умы обращение:
"Комиссариат народного просвещения, ознакомившись со стоящими перед ним сложными задачами, считает необходимым обратиться к тт. учителям и всем гражданам Терской республики со следующим заявлением. Страна, в которой царят безграмотность и невежество, не может быть надежной опорой власти трудового народа.
Дореволюционный государственный порядок преступно оставлял горские народы даже без тон элементарной школы, которая была у русского и казачьего населения.
Необходимо в кратчайший срок добиться всеобщей грамотности путем расширения сети школ, отвечающих требованиям современной педагогики, а затем введения всеобщего обязательного и бесплатного обучения.
Школа для взрослых должна занять почетное место в общем плане постановки образования на Тереке. Повсюду поднялась могучая волна культурно-просветительного движения, множатся организации трудовых масс этого рода – идти им навстречу, всемерно поддерживать их и расчищать перед ними путь будет обязанностью для революционного народного правительства".
Впервые за много месяцев Серго ехал на север – к большому сожалению, еще не в Москву, всего только в Пятигорск. Многострадальный Пятигорск, совсем недавно переживший чудовищный по садизму и бессмысленности погром. Уже ни с чем не считавшийся, постоянно пьяный, обреченный на бесчестье Сорокин расстрелял у подножья Машука руководителей Северокавказского краевого комитета партии, ЦИКа и Таманской армии. Озверевшие от спирта и крови, ватаги сорокинцев врывались в дома, убивали коммунистов, грабили, насиловали.
Экстренный съезд Советов в станице Невинномысской объявил Сорокина вне закона. Авантюриста несколькими выстрелами из револьвера убил командир одного из таманских полков, мстя за своих погибших товарищей.
Пятигорской трагедией сразу воспользовались белые. Деникинцы взяли Армавир, вскоре Невинномысскую. В Ставрополь ворвалась конница Шкуро. Добровольческая армия спешила в предгорья Кавказа.
Несколько часов Серго не отходил от окна вагона. Навстречу все тянулись печальные эшелоны с ранеными и больными тифом красноармейцами. Крыши теплушек, подножки были облеплены беженцами с Кубани и Ставрополья.
Ночной Пятигорск встретил кромешной тьмой и едким, невыносимым запахом дезинфекции. На привокзальной площади и всех прилегающих улицах теснились палатки, дымили костры беженцев. Дети, женщины, старики – здоровые и уже метавшиеся в тифозном бреду – покорно ждали спасительных поездов на Терек.
Особенно въедливый запах смешанных вместе лизола, йодоформа и карболки ударил в нос из "Цветника", где Серго так поздно задержался в свой прошлый приезд. Красноармеец-шофер, присланный за чрезвычайным комиссаром из штаба XI армии, [72]72
Так с конца лета 1918 года назывались Северокавказские войска.
[Закрыть]объяснил:
– В городском саду лазарет для тифозных.
Остаток ночи и большую часть следующего дня Орджоникидзе провел в госпиталях. Боль сжимала сердце. Охватывало противное чувство собственной беспомощности. Плохо, совсем плохо. Ни банды Бичерахова, ни надвигающийся Деникин, ни турецкие наемники, грозящие ударом в спину, – ничто, не представляло такой неотвратимой опасности, как тиф. Глупо скрывать от себя. При нынешнем положении катастрофа неизбежна. Жалкие запасы военного снаряжения и медикаментов на Северном Кавказе и Тереке давно исчерпаны.
На фронте, получив приказ не пропускать дальше противника, контратаковать, красноармейцы вытряхивают пустые подсумки, выворачивают карманы, кричат: "Патронов, патронов!" Патроны давно приходилось покупать в аулах, и станицах по пяти рублей за штуку. Артиллерийские снаряды в зависимости от калибра ценились от четырехсот до семисот рублей каждый… Нет лекарств, нет врачей. Вот-вот ударят морозы. Некуда перевести тифозных из садов и палаток. Не во что одеть здоровых. Нечем кормить беженцев… На этот раз самим без помощи России не выстоять.
Почти полгода назад Терская областная партийная конференция командировала в Москву Сергея Мироновича Кирова. Владимир Ильич Ленин и Яков Михайлович Свердлов признали, что Северному Кавказу надо помочь из последнего – дать деньги, оружие, боеприпасы, обмундирование.
Все оказалось напрасным. Неожиданно возникшие фронты на Дону, Кубани и Ставрополье, вторжение немецких и турецких войск в Закавказье, мятеж Георгия Бичерахова, захват его братом Лазарем Дагестана и каспийского побережья обрубили все связи Терека.
"Долго мы не знали, что делается в России, – писал как-то позднее Орджоникидзе. – Порой даже не знали, есть Советская власть или нет, а черносотенная печать в каждом номере газеты сообщала о падении Москвы и Питера".
Осенью после побед в Грозном, Прохладной и Моздоке появилась связь через Астрахань. Ненадежная, трудная – четыреста километров через безводную и почти пустынную степь, – но все-таки дорога в Россию! Тотчас же из Москвы в Астрахань пошел маршрутный поезд с обмундированием для сорока тысяч воинов XI армии. Второй транспорт – с пулеметами, автомобилями и мотоциклами. Затем третий, четвертый и пятый… Киров действовал сверхэнергично.
Все благополучно доходило до Астрахани, но здесь… почти полностью застревало, попадало совсем в другие руки.
Серго, чтобы не разжигать страстей, вначале ограничился довольно скромным упреком: "Я должен указать, что Кавказско-Каспийский реввоенсовет не сделал всего того, что можно было сделать".
Потом пришлось посылать телеграммы более резкие:
«Высланное вами постепенно получается, но это очень мало. Для того, чтобы сделать что-нибудь, необходимо одеть армию и дать ей в большом количестве патроны и снаряды. Мы все кормим ее обещаниями от Троцкого и Шляпникова, но этим, конечно, Деникина не побьем».
Горечи большого поражения еще предшествовала радость маленьких побед. Откликаясь на клич Орджоникидзе, все горские народы прислали добровольцев, из своих тайных запасов вооружили их, снабдили патронами для первого боя. Рабочие Грозного, Владикавказа и прифронтового города Георгиевска поставили на большегрузные платформы пушки; сверху и с боков прикрыли их броневыми листами. На худой конец и это бронепоезда!
И от Ленина пришла весточка. Наконец за много месяцев!
"Астрахань.
Штаб фронта
для передачи по радио во Владикавказ Орджоникидзе
Получил впервые телеграмму от Вас. Благодарю, шлю привет. Прошу информировать чаще.
Предсовнаркома Ленин".
В начале января 1919 года – в самую страшную вспышку тифа, когда в лазаретах Пятигорска лежало свыше пятидесяти тысяч больных, – революционные войска перешли в контрнаступление на обоих сильно загнутых флангах. В районе Ессентуки – Кисловодск конница Шкуро не выдержала удара. За два дня откатилась до Баталпашинска. [73]73
Баталпашинск после 1937 года Черкесск. Центр автономной Карачаево-Черкесской области.
[Закрыть]
В разгар сражения кончились боеприпасы. У Серго у самого давно опустел патронташ, лишь несколько патронов оставалось в обойме маузера. Орджоникидзе попросил пехотинцев продержаться на окраинах Баталпашинска хотя бы несколько часов. Он надеялся, что Шакро привезет немного патронов и снарядов из Чечни – купит на остатки денег Терского банка. Шакро вернулся почти что с пустыми руками. Очередной разговор по прямому проводу с Кизляром.
– Есть что-нибудь из Астрахани? Прибыли врачи?
– Нет ничего, никто не приехал, – в который раз услышал Серго.
Девятнадцатого января XI армия оставила Пятигорск. Днем позже, под завывание метели, стоны тифозных и крики замерзающих, голодных беженцев, на станции Прохладной Серго обсуждал со штабом армии и руководителями Терской республики, как быть дальше. В описании Орджоникидзе:
"Часть товарищей… указывала, что нет другого выхода, как отойти на Астрахань, спасти технические средства и людей, переформировать их в Астрахани и снова двинуться на Северный Кавказ. Я и другие товарищи заявили, что, каково бы ни было положение, отход на Астрахань недопустим, ибо тогда мы целую Терскую область бросим на произвол судьбы, даже не предприняв боя с противником, что горским населением подобный отход будет квалифицирован как предательство их нами, и мы политически умрем навсегда для Северного Кавказа. При этом же указывалось, что при отсутствии железной дороги отступление едва ли будет возможно. Едва ли мы спасем кого-либо, и все равно и солдаты и технические средства погибнут в астраханских степях от холода и голода. Товарищи согласились с этим, и решено было отойти на правый берег Терека и вместе с горцами защищаться до того момента, пока мы не получим поддержки из Астрахани".
Полки XI армии собрали последние силы. Утром двадцать первого они окружили и наголову разбили у Георгиевска кавалерийскую дивизию белых. Взяли более девятисот пленных, орудия, пулеметы. Серго тут же уехал в Осетию – там поднял мятеж полковник Угалык Цаликов. С помощью почетных стариков эту очередную авантюру удалось подавить почти без крови за одну ночь.
В приподнятом настроении Серго поспешил во Владикавказ. Хотел повидать Зину, работавшую в тифозном госпитале. Он чувствовал себя очень виноватым перед женой. Она не имела зимней одежды – ходила в стареньком демисезонном пальто, платочке, прохудившихся туфлях. Рисковала заразиться тифом. На все уговоры отвечала:
– Посмотри лучше на себя. На кого ты, Серго, стал похож, одни кости и волосы. Глаз не видно. Щеки ввалились. За такое страшилище я бы никогда замуж не пошла!..
На улице Серго перехватил Гегечкори:
– Кацо, тебя всюду ищут. Левандовский передал из Прохладной: армия ушла на Астрахань.
Двадцать четвертого января Орджоникидзе обратился по радио к Ленину:
"XI армии нет. [74]74
В докладе Совету Народных Комиссаров России «Год гражданской войны на Северном Кавказе», написанном в июле 1919 года, Орджоникидзе с обычной прямотой высказал все, что думал:
"XI армии в России не знают. Не знают ее наши партийные товарищи, и, что печальнее всего, не знают даже руководители военного ведомства нашей XI армии. Принято вообще ругать XI армию как сброд всевозможных партизан и бандитов. Лично я никогда не был поклонником ее, я видел все ее недостатки и недостаточную организованность. Но Советская Россия должна знать, что XI армия в продолжение целого года… приковывала к себе внимание Добровольческой армии и вела с ней смертельный бой. По заявлению самого Деникина на заседании Кубанской рады 1 ноября прошлого года, в борьбе с XI армией он потерял только убитыми 30 тысяч человек. По его же словам, офицерские полки имени Корнилова и Маркова, имевшие по 5 тыс. человек, вышли из боя при наличии от 200 до 500 человек. Если XI армия разложилась, если она погибла, то прежде всего виновата в том не XI армия, а те, которые имели возможность кое-чем помочь, но, к сожалению, этой помощи не дали.
…С начала зимы раздетые солдаты начали болеть. Тиф стал свирепствовать. Все вокзалы, все дома были переполнены тифозными. Нет белья. Больных заедают насекомые. Нет медицинского персонала. Весь медицинский персонал, мобилизованный на местах, благодаря непосильной работе стал гибнуть. Не проходило ни одного дня, чтобы в каждом городе не хоронили по 2–3 врача. Все наши просьбы, обращенные к заведующему медицинско-санитарной частью Кавказско-Каспийского фронта доктору Нойсу, решительно ни к чему не приводили".
[Закрыть]Она окончательно разложилась. Противник занимает города и станицы почти без сопротивления. Ночью вопрос стоял покинуть всю Терскую область и уйти на Астрахань. Мы считаем это политическим дезертирством….Владимир Ильич… будьте уверены, что мы все погибнем в неравном бою, но честь своей партии не опозорим бегством. Тогда положение может быть спасено, если вами будет переброшено сюда 15 или 20 тысяч свежих войск. Дайте патронов, снарядов, денег. Без Северного Кавказа взятие Баку и укрепление его – абсурд. Среди рабочих Грозного и Владикавказа непоколебимое решение сражаться, но не уходить. Симпатии горских народов на нашей стороне.
Дорогой Владимир Ильич, в момент смертельной опасности шлем Вам привет и ждем Вашей помощи".
Сердце не обманывало Серго. В Москве не забыли о защитниках Терека. Ленин и Свердлов сделали все для того, чтобы Киров во главе большой экспедиции немедленно выехал на юг и через астраханские степи добрался до Владикавказа.
Морозы и метели неожиданно в одну ночь сменились оттепелью. Астраханские старожилы предупреждали, что при такой погоде переправляться по льду на другой берег Волги слишком рискованно. Сергей Миронович махнул рукой – дорог был каждый час. В грузовой полуторатонный автомобиль уложили три ящика с деньгами, сверху поставили пулеметы. Киров сел в кабину рядом с шофером. Машина двинулась. В нескольких метрах от берега лед треснул, по воде пошли широкие разводья. Передние колеса провалились, потащили за собой грузовик.
Люди спаслись, вернулись назад в Астрахань. Прошло несколько дней, покуда водолазы подо льдом нашли машину, унесенную течением далеко в сторону. Ящики вытащили, занялись просушкой денег.
Киров снова отправился за Волгу. В первом от Астрахани селе Яндыковка Сергей Миронович наткнулся на обмороженных, изможденных, похожих на скелеты людей в лохмотьях. Чуть передвигая ноги, брели остатки XI армии.
Седьмого февраля, за несколько часов до того, как артиллерийским обстрелом с ближних дистанций была вконец разрушена радиостанция, Серго в последний раз обратился к Ленину:
«Бои вокруг Владикавказа и в Ингушетии продолжаются 7-й день. Все ингуши, как один человек, встали на защиту Советской власти. Красная армия, Курская и Молоканская слободки героически отражают натиск контрреволюционных казачьих банд… Ждем вашей помощи для окончательного сокрушения контрреволюции на Северном Кавказе».
Белые окружали Владикавказ четырьмя колоннами под командованием генералов Шкуро, Улагая, Геймана и Покровского. В общей сложности около восьмидесяти тысяч штыков и сабель. Деникин ничего не жалел – ни подкреплений, ни боеприпасов. Заботами Англии и Франции добровольческая армия давно ни в чем не нуждалась.
У красных на всех участках фронта, протянувшегося длинной изломанной линией по ближним подступам к городу, было не больше двух тысяч бойцов. Кончились снаряды, опустели пулеметные ленты. Почти ничего не осталось и от патронов, подаренных Серго почетными стариками Ингушетии и Чечни.
В ночь с десятого на одиннадцатое февраля к белым подошли две свежие дивизии и эшелон с английскими броневиками. Около полудня, под прикрытием густого тумана, броневики и конница Улагая прорвались к центру Владикавказа. У защитников города остался последний шанс – уйти по Военно-Грузинской дороге.
Члену Кавказского краевого комитета партии Сергею Кавтарадзе после долгих, трудных переговоров удалось получить согласие главы грузинского правительства Жордания пропустить владикавказцев через Дарьяльское ущелье и Крестовый перевал.
Грузинские меньшевики, смертельно боявшиеся своих новых опекунов – англичан и Деникина, потребовали разыграть церемонию. Голодные, раненые, больные, чуть передвигавшие ноги владикавказцы должны были "напасть" на пограничные войска. В ответ гвардейцы полковника Церетели переходили в "контратаку" и доблестно забирали в плен красных. Меньшевики всегда любили театральные эффекты…
Для себя Серго выбрал другой путь – через занятое белоказачьими разъездами селение Базоркино в старинную крепость Шамиля Назрань. Вблизи полуобвалившихся крепостных стен, на высоких холмах Эрджкинеза ждали сотни всадников. Предстоял большой совет.
Серго слез с коня, прислонился спиной к старой липе – он не спал несколько ночей, давно не ел. Горцы не отрывали горящих глаз, молча спрашивали: "Друг, с чем приехал?" Орджоникидзе собрался с силами, рассказал всю горькую правду:
– Город сдан. Долины Северного Кавказа под властью белых генералов. Они торопятся в горы. Деникинский генерал Шатилов четвертый день расстреливает из пушек чеченский аул Гойты… Вы знаете, я вас никогда не обманывал. Поверьте, Советская власть вас не оставит в беде. Не далеко время, когда вам на помощь придет непобедимая армия революционной России.
После короткой паузы Орджоникидзе добавил:
–. Я останусь с вами в горах, сколько будет нужно!
– Вурро! Эрджкинез с нами! – закричали было – горцы. Тут же осеклись. К вершине холма бешено скакал молодой ингуш. Издали возвестил:
– Белая конница!
Сверкнули над головами обнаженные клинки.
Дрогнула земля от топота копыт. Горяча лошадей, горцы бросились навстречу белым. Серго вмиг оказался на коне. Понесся галопом. Шашки у него не было. Он выхватил маузер…
Вечером по пути в горы Асланбек Шерипов наклонился к Серго:
– Эрджкинез! Помнишь, в Грозном ты меня ругал, запретил мне скакать под пулеметным огнем? А сам?
Серго бросил поводья, обнял Асланбека:
– Я тоже человек!
Тиф и зима (деникинцы пока остановились у входа в ущелье Ассы, искали, кто бы за шесть миллионов "царских денег" доставил живым или мертвым чрезвычайного комиссара) слали новые испытания, как будто всего пережитого еще мало. В дальнем, в труднодоступном ауле Гули на руках у Серго умер Яков Бутырин. В другом ауле слег Филипп Махарадзе, в третьем пришлось оставить тяжело больного, потерявшего ногу Сашу Гегечкори.
Ничего не дали отчаянные попытки перевести через Хевсурский перевал Зину и сестру Камо Арусяк с трехмесячным ребенком. Понурив головы, вернулись и Дьяков с Калмыковым, потерпевшие неудачу у Кистинского перевала. В довершение лед и снег наглухо завалили тропы в Верхнюю Чечню, где должны были основать подпольный центр Николай Гикало и Асланбек Шерипов. Все вместе это очень походило на мышеловку.
Ночью Зина с Арусяк о чем-то долго шептались. Они решились на самое крайнее – сравнительно доступными горами пройти до грузинского селения Казбека, а там что бог даст… Надеялись, что крошечная дочь Арусяк умилостивит сердца пограничников. В первые минуты мужчины категорически отказались вести разговор на эту тему. Только напомнили, что жену Гегечкори, семьи Бутырина и нескольких других терских комиссаров полковник Церетели выдал белым.
Зина настаивала:
– Меня здесь никто не знает. У меня есть старый документ на имя учительницы Павлуцкой. Я пойду!
Арусяк плакала, вновь и вновь повторяла:
– Ради ребенка я обязана попробовать все… Женщин неожиданно поддержал хозяин сакли и неизменный спутник Серго во всех его скитаниях по Ингушетии и Чечне Хизир Орцханов:
– Осто-перла! [75]75
Осто-перла! – возглас почтительного удивления (ингуш.).
[Закрыть]Какой умный марушка! – вскричал Хизир. – Эрджкинез, будем так делать. У одного старого муллы Джабагиев спрятал печать ингушского национального совета. Я мулле скажу, что Деника ищет эту печать. У кого найдет – повесит. Мулла ответит: «Сын мой, аллаху угодно, чтобы ты взял печать и берег свою голову». Мне придется согласиться. Мы напишем казенную бумагу – марушка Арусяк приезжала на свадьбу к родственникам Вассан-Гирея, сейчас домой хочет, надо пускать. Зина – маленькой марушки нянька.
Пришлось уступить. Никакой другой возможности связаться с подпольным краевым комитетом партии Серго не представлял. Без связи, оружия и денег пребывание в горах теряло всякий смысл.
– Несмотря на запрещение Серго, я взяла с собой его фотографии и маленький револьвер, – признавалась впоследствии Зинаида Гавриловна. – Вскоре дорога сделалась очень трудной. Пришлось оставить арбу и по узкой горной тропе идти пешком. Стоял густой туман. Снег подтаял, и ноги скользили. Время от времени слышалась далекая стрельба. Мужчины поочередно несли ребенка, укутанного в шкуру барашка…В Тифлис добрались ночью. Мы были очень утомлены. Отдохнуть не пришлось. Меньшевики узнали, что из гор приехали жены комиссаров, и утром в нашей квартире устроили обыск. К счастью, нас не было дома.
О дальнейшем позаботился Камо.
В родном Тифлисе Камо снова жил нелегально. Для него это не так уж трудно, опыта предостаточно. Но слишком оскорбительно скрываться от меньшевиков и социал-федералистов, которых он ни во что не ставил.
Неунывающий, веселый Камо никогда не был баловнем судьбы. После лета 1911 года, проведенного вместе с Серго в Париже, Камо пришлось многое пережить.
В августе 1912 года Камо вернулся на Кавказ. – Немного побыл в Баку, затем направился в Тифлис. Вопреки всем предостережениям начал готовить новую экспроприацию. Большой и давний друг Камо Красин сообщил упрямцу, что партия категорически против каких бы то ни было экспроприации. "Ты действительно сумасшедший, – воскликнул рассерженный Красин, – если берешься сейчас за экс!"
Камо не послушался. В конце сентября вблизи Тифлиса, на Каджорском шоссе, он попытался отобрать деньги у почтовой экспедиции. Все закончилось плохо. Не удалось избежать и ареста. Второго марта 1913 года Кавказский военно-окружной суд вынес Камо смертный приговор. От виселицы спасло… трехсотлетие царствования дома Романовых. В России была объявлена амнистия. Повешение заменили двадцатью годами каторги.
На свободу Камо вышел лишь в марте 1917 года. Баку и Тифлис его душевно встретили. Вскоре после Октябрьской революции краевой комитет партии направил Камо к Ленину с докладом о положении на Кавказе. Добраться до Петрограда было трудно. Зато уж "Ильичи" постарались вознаградить дорогого им кавказца за все перенесенное.
От Надежды Константиновны Камо узнал о женитьбе Серго и не скрыл своего удивления. "Знаешь, революция, учиться надо, работать надо, враги кругом: драться надо!"
Сейчас – в начале 1919 года – Камо дрался с грузинскими меньшевиками и их компаньонами по дележу министерских постов – социал-федералистами. Через общих знакомых Жордания и Чхеидзе усиленно рекомендовали "в память прошлого не доводить дело до крайностей. Возможно Камо не в курсе, в Грузии есть военная полиция англичан…"
"Доброжелателей" Камо посылал подальше. За себя он не тревожился. Другое дело жена Серго. О ней следовало хорошенько позаботиться. Зинаиде Гавриловне Камо нашел уголок понадежнее и категорически запретил ей одной выходить на улицу.
Верный друг, он готов был взять на себя и все заботы о Серго. Но тут появился Шакро, не менее решительно заявивший о своих правах. У каждого были свои очень несхожие планы. Подпольный партийный центр принял предложения обоих.
Камо вспомнил, что по соседству с его сестрой Джаваир жил князь Чиковани, генерал, бывший командир Эриванского полка. Из всех слабостей князя самая большая – страсть к деньгам. За деньги князь готов на все, даже объявить Джаваир своей супругой и отправиться с ней в путешествие на Северный Кавказ. Молодую княгиню особенно привлекала экзотическая горная Ингушетия. Там "супруги" основательно поколесили.
"Мы с генералом Чиковани, – описывала Джаваир, – сделали несколько вояжей и вывезли много товарищей, застрявших в горах. В одну из поездок мы встретились со Шкуро и Мамонтовым. Мой князь пожелал показать им Казбек. Я сказалась нездоровой, пожалела, что не могу присоединиться к столь приятному обществу. Тогда генерал Шкуро попросил меня спрятать его портфель. "Княгиня, эти важные Документы я смею доверить только очаровательной супруге генерала Чиковани". После их ухода я открыла портфель, чтобы узнать, какие бумаги так дороги Шкуро. В портфеле находился оперативный план деникинской армии. Сейчас же я перерисовала на пергаментную бумагу этот план. Потом попросила Чиковани просмотреть и проверить, правильно ли обозначены масштабы. За услугу князь попросил дополнительной платы.
В заранее условленный день я встретилась с Камо в Пасанаури, приехав туда якобы на прогулку. Передала ему проверенный Чиковани план белых".
Совсем по-другому действовал Шакро, твердо уверенный, что Главный Кавказский хребет, ледники и вечные снега вовсе не преграда. Наоборот, это самый прямой и короткий путь к Серго. Шакро уговорил хевсуров, и они показали ему тайную тропу в Ингушетию. С небольшим транспортом оружия и деньгами он в самом прямом смысле свалился на голову Орджоникидзе.
Узнать Серго было трудно. Он густо оброс бородой, длинные волосы падали на лоб. Как все горды, носил черкеску из домотканого сукна, сапоги из сыромятной кожи, без каблуков.
– Кацо, пошли в Тифлис! – с места в карьер позвал Шакро.
– Нет, друг. Мне еще уходить нельзя, – ответил Серго.
– Ва! Зачем смеешься над Шакро? Я дал честное слово, что без Орджоникидзе не вернусь. Камо мне голову оторвет.
– Я понимаю, Шакро, ты шутишь. В горах еще много выздоравливающих после тифа и ранений красноармейцев, беженцев. От Гикало из Чечни привозят раненых и обмороженных партизан. Сначала ты переправишь всех их. А мне доставляй побольше оружия, патронов, динамита. Камо пусть тоже займется транспортом оружия – это его старая специальность.
Все, что доставляли из-за Хевсурского перевала, горцы быстро увозили в самые неприступные аулы Ингушетии, Чечни и Кабарды. В зажатый со всех сторон снежными горами Верхний Датых перебрался и Серго. Его рабочим кабинетом, кунацкой и спальней стала пещера в скале. Когда-то в этой пещере скрывался неуловимый Зелим-хан, гроза царских властей, надежда горцев.
Непосвященный мог сколько угодно крутиться у узкой, тщательно замаскированной дыры, заменявшей вход. Это, кажется, было единственное место, куда никак не мог войти Шакро, фигура не позволяла. Серго приходилось вползать в свою обитель. Зато в глубине пещеры открывалась настоящая комната с маленькими стульями и столом. Пол устлан сплетенными из камыша матами. На стенах войлочные коврики.
Но так как Серго всегда терпеть не мог укромных мест и тихих кабинетов, то встречу с почетными стариками он назначил в Галашкинском лесу, бывшем всего в двадцати верстах от Владикавказа. Все сто пятьдесят участников сходки расположились широким кругом на снежной поляне. Подстелили свои бурки. Коней привязали к стволам берез и осин. Восьмидесятилетний Сеид занял место в центре круга. Он и взял первое слово: