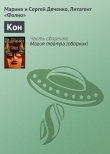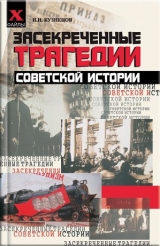
Текст книги "Засекреченные трагедии советской истории"
Автор книги: Игорь Кузнецов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
В первую очередь его интересуют, конечно, кадры как главный элемент осуществления любой политики. По той же схеме, как и в 1938–1939 гг., он стремится срочно расставить на ключевых постах своих ставленников, освободившись от неугодных ему, хотя и честных работников.
16 марта 1953 г. Берия направляет такой вот документ.
ЦК КПСС. Хрущеву Н. С.
В связи с объединением органов бывшего МГБ и МВД, прошу утвердить министрами внутренних дел республик, начальниками краевых и областных управлений МВД (далее следуют 82 фамилии генералов и полковников с указанием должностей, на которые они назначаются).
В дальнейшем может оказаться необходимым сделать некоторые изменения в этом составе, независимо от этого представляемых товарищей необходимо утвердить.
Л. Берия.
В этой короткой записке весь Берия налицо и по тону ее, и по представлению списком 82 человек, и по характерной приписке, что все это лишь для проформы.
Далее Берия предпринимает ряд мер по разгрузке нового МВД от суетной и грязной работы. И действительно, если он поставил такие крупные цели, то зачем ему теперь в МВД многочисленные стройки, заключенные?
Берия еще не назначен министром, но в его кабинете уже 6 марта 1953 г. министр внутренних дел С. Н. Круглов начал докладывать, какие в МВД СССР имеются главки и чем они занимаются. По мере доклада Берия давал указания С. Н. Круглову подготовить предложения о передаче всех строительных главков, находящихся в ведении МВД СССР, соответствующим министерствам, а ГУЛАГ передать в Министерство юстиции СССР, подчеркнув при этом, что в МВД СССР должен остаться только оперативный аппарат.
17 марта 1953 г. Берия подписывает записку по этим вопросам Председателю Совета Министров СССР с проектом постановления Совмина, а на следующий день с завидной быстротой постановления выходят в свет. В частности, была предусмотрена передача в Минюст СССР исправительно-трудовых лагерей и колоний со всеми входящими в их состав службами, подразделениями и местными органами.
Торопится Берия реализовать и идею об амнистии осужденных. 24 марта 1953 г. он пишет записку в Президиум ЦК КПСС Хрущеву Н. С. Одновременно записка была разослана членам Президиума ЦК КПСС Маленкову Г. М., Молотову В. М., Ворошилову К. Е., Булганину Н. А., Кагановичу Л. М., Микояну А. И., Сабурову М. З., Первухину Г. М. Записка была краткой, деловой, всего на трех страницах с предложением проекта постановления Президиума ЦК КПСС в один абзац.
В записке члены Президиума были проинформированы о том, что к указанному времени в исправительно-трудовых лагерях и колониях содержится 2 525 402 заключенных, из них осужденных на срок до 5 лет – 590 тысяч, от 5 до 10 лет – 1216 тысяч, от 10 до 20 – 573 тысячи и свыше 20 лет – 188 тысяч человек.
«Из общего числа заключенных, – указано в документе, – количество особо опасных государственных преступников (шпионы, диверсанты, террористы, троцкисты, эсеры, националисты и др.), содержащихся в особых лагерях МВД СССР, составляет всего 221 435 человек».
С учетом этого Берия предложил принять Указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии. Проектом этого указа предусматривается освободить из мест заключения около 1 миллиона человек. Категории заключенных, которых предлагалось освободить, вроде бы особой опасности для населения не могли представлять:
это осужденные на срок до 5 лет;
осужденные независимо от срока наказания за должностные, хозяйственные и некоторые воинские преступления;
женщины, имеющие детей до 10 лет, и беременные женщины; несовершеннолетние в возрасте до 18 лет;
пожилые мужчины и женщины, а также больные.
Указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии был принят 27 марта 1953 г. Подлежало освобождению из лагерей и колоний 1 181 264 человека.
Однако, когда пришло время реализации этого Указа и армада амнистированных ринулась на свободу, начав на своем пути ломать, бить, убивать, то простому человеку в который раз пришлось худо.
Чтобы и дальше сохранить видимость либерализации, в апреле 1953 г. Берия прекращает надуманное дело врачей, а в июне 1953 г. вносит предложение в Президиум ЦК КПСС об ограничении прав особого совещания при министре внутренних дел СССР. Однако это пятое колесо в телеге, позорное детище сталинского террора нужно было не улучшать, а упразднять, что и было сделано уже после Берии 1 сентября 1953 г.
С приходом вновь на пост министра внутренних дел, Берия стал активно вмешиваться в дела партийных органов. В печати можно прочитать, что тем самым он пытался поставить МГБ – МВД над партией.
На самом деле он давно уже это сделал, установив слежку за действиями работников партийных и советских органов, начиная с самых высоких инстанций. Так, при аресте у Берии изъяли папку, в которую он собирал компрометирующие материалы на руководителей партии и правительства. По некоторым неподтвержденным документами данным, начал эту работу еще Ежов, а затем ее продолжил Берия.
Расследование совершенных Берией преступлений продолжалось полгода, руководил этой работой Генеральный Прокурор СССР Р. А. Руденко. Вместе с Л. П. Берией судили В. Н. Меркулова, министра Госконтроля СССР; В. Г. Деканозова, министра внутренних дел Грузинской ССР; Б. З. Кобулова, заместителя министра внутренних дел СССР; П. Я. Мешика, министра внутренних дел Украины; С. А. Гоглидзе, начальника 3-го управления МВД СССР; Л. Е. Влодзимирского, начальника следственной части по особо важным делам МВД СССР. И по уровню должностных лиц, и по числу участников, и по тяжести предъявляемых обвинений это был, пожалуй, самый крупный процесс над сотрудниками органов внутренних дел и государственной безопасности за всю историю их существования.
17 декабря 1953 г. «Правда» поместила сообщение «В Прокуратуре СССР», где говорилось, что закончено следствие по делу Берии, а также группы других заговорщиков. Суд над ними проходил в период с 18 по 23 декабря 1953 г.
Рассматривало дело Специальное судебное присутствие Верховного Суда СССР в составе: председательствующего – Маршала Советского Союза И.С.Конева, членов: Председателя ВЦСПС Н.М.Шверника, первого заместителя Председателя Верховного суда СССР Е. Л. Зейдина, генерала армии К. С. Москаленко, секретаря Московского обкома КПСС Н. А. Михайлова, председателя Совета профсоюзов Грузии М. И. Кучавы, председателя Московского городского суда Л. А. Громова и первого заместителя министра внутренних дел СССР К. Ф. Лунева при секретарях А. С. Мазуре, М. В. Афанасьеве, В. И. Лапутине, В. М. Нартикове, М. А. Нащенкове.
Когда председательствующий на суде Маршал Советского Союза И. С. Конев задал Берии вопрос о том, признает ли он себя виновным в предъявленном ему обвинении, то Берия, в частности, сказал: «Я должен заявить суду, что врагом народа я не был и не могу быть… Но должен сказать, что за период моей работы в Закавказье и в Москве мною было сделано много такого, что граничит с вражеской деятельностью. Одним из самых тяжких для меня обвинений является мое участие в муссаватистской контрразведке. Это обвинение я признаю полностью. Кроме того, должен признать, что, работая в Бакинском Совете в общей канцелярии после ухода большевистской власти, я остался в Баку. Есть ряд и других моментов из бакинского периода, которые меня порочат. Самым тяжким позором для меня как гражданина, члена партии и руководителя является мое бытовое разложение, безобразия и неразборчивая связь с женщинами… Пал я мерзко и низко. Я имел много связей с женщинами, подозрительными по шпионажу. Период 1937–1938 гг. в Грузии… Я действительно как секретарь ЦК партии Грузии давал прямые указания арестовывать и избивать людей. Я должен сказать Вам, что изменником и заговорщиком я никогда не был и не мог им быть. У меня и в мыслях не было, и я не помышлял даже, чтобы ликвидировать советский строй и реставрировать капитализм. Я никогда ни с какими иностранными агентами и контрреволюционными грузинскими меньшевиками связей в контрреволюционно преступных целях не имел. Всякие связи, какие у меня были, шли по линии МВД СССР…»
В последнем слове Берия сказал: «Я уже показывал суду, в чем я признаю себя виновным. Я долго скрывал свою службу в муссаватистской контрреволюционной разведке. Однако я заявляю, что, даже находясь на службе там, не совершил ничего вредного. Полностью признаю свое морально-бытовое разложение. Многочисленные связи с женщинами, о которых здесь говорилось, позорят меня как гражданина и как бывшего члена партии. Признаю, что я ответственен за перегибы и извращения социалистической законности в 1937–1938 гг., но прошу суд учесть, что контрреволюционных антисоветских целей у меня при этом не было. Причина моих преступлений в обстановке того времени. Моя большая антипартийная ошибка заключается в том, что я дал указание собирать сведения о деятельности партийных организаций и составить докладные записки по Украине, Белоруссии и Прибалтике. Однако и при этом я не преследовал контрреволюционных целей. Не считаю себя виновным в попытке дезорганизовать оборону Кавказа в период Великой Отечественной войны. Прошу Вас при вынесении приговора тщательно проанализировать мои действия, не рассматривать меня как контрреволюционера, а применить ко мне те статьи Уголовного кодекса, которые я действительно заслуживаю».
В приговоре, объявленном 23 декабря 1953 г., Берия обвинялся в том, что он сколотил враждебную Советскому государству изменническую группу заговорщиков, которые ставили своей целью использовать органы внутренних дел против Коммунистической партии и Советского правительства, поставить МВД над партией и правительством для захвата власти, ликвидации советского строя, реставрации капитализма и восстановления господства буржуазии.
Став министром внутренних дел СССР в марте 1953 г, Берия начал усиленно продвигать участников заговорщической группы на руководящие посты. Заговорщики принуждали работников местных органов МВД тайно собирать клеветнические данные о деятельности и составе партийных организаций, пытаясь опорочить работу партийных органов. Были приняты меры к активизации буржуазно-националистических элементов в союзных республиках, разжиганию вражды и розни между народами СССР.
Был установлен шпионаж за руководством Коммунистической партии и Советского правительства.
Суд обвинил Берию и его соучастников и в том, что они совершали террористические расправы над людьми, со стороны которых боялись разоблачений.
На протяжении ряда лет они производили аресты невиновных людей, от которых затем путем применения избиений и пыток вымогались ложные показания о совершенных или готовящихся контрреволюционных преступлениях.
Подсудимые лично избивали и истязали арестованных невинных людей, а также отдавали приказы о применении массовых избиений и истязаний арестованных подчиненными им работниками НКВД-МВД.
Они вымогали от арестованных ложные показания о якобы готовящихся террористических актах против Берии и его сообщников. Затем сфальсифицированные уголовные дела передавались на рассмотрение «Особой тройки» или «Особого совещания», которые выносили решения о расстрелах или лишении свободы ложно обвиняемых людей.
В приговоре, в частности, содержалось обвинение в том, что Берия и его сообщники строили свои преступные расчеты на поддержку заговора реакционными силами из-за рубежа, установили связи с иностранными разведками. Берия такие связи завязал еще в 1919 г., когда находился в Баку, поступил на секретно-агентурную должность в контрразведку муссаватистского правительства Азербайджана. В 1920 г., находясь в Грузии, он установил тайную связь с охранкой грузинского меньшевистского правительства.
В ходе следствия Берии было предъявлено обвинение в попытке сближения с Гитлером. Берия показал, что по заданию Сталина осенью 1941 г. он действительно пытался через другие страны прозондировать почву о том, на каких бы условиях Гитлер мог прекратить войну. В связи с этим в приговоре было записано, что в 1941 г. Берия пытался установить связь с Гитлером, предлагал уступить ряд территорий СССР, в 1943 г. пытался открыть врагу Главный Кавказский хребет, чтобы оккупировать Закавказье иностранцами.
Суд обвинил Берию и в аморальном разложении, указав, что Берия сожительствовал с многочисленными женщинами, в том числе связанными с сотрудниками иностранных разведок. Берия совершал изнасилования женщин.
В связи со всеми тяжкими преступлениями суд приговорил всех подсудимых к расстрелу, указав, что приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
23 декабря 1953 г., когда приговор был объявлен, председатель специального судебного присутствия Маршал Советского Союза И. С. Конев отдал письменное распоряжение коменданту специального судебного присутствия генерал-полковнику П. Ф. Батицкому немедленно привести приговор в исполнение в отношении осужденного Л. П. Берии и представить акт.
На этом предписании, отпечатанном на машинке, сбоку чернилами написано: «Приговор приведен в исполнение в 19.50 23 декабря 1953 г. Батицкий». В деле представлен также рукописный акт, в котором сказано, что приговор приведен в исполнение П. Ф. Битицким в присутствии Генерального прокурора Р. А. Руденко и генерала армии К. С. Москаленко. Под актом подписи всех этих трех лиц.
Приговор в отношении других шести осужденных приведен в исполнение чуть позже – в 21.20 того же дня. Его привели в исполнение заместитель министра внутренних дел Лунев и заместитель Главного военного прокурора Китаев.
Так закончилась физическая жизнь одного из наиболее одиозных наркомов внутренних дел СССР.
ЛАВРЕНТИЙ – 2
Цанава (Джанжгава) Лаврентий Фомич (1900–12.10.1955). Народный комиссар внутренних дел БССР с 17 декабря 1938 г. по 9 марта 1941 г. Уроженец села Хут-Сопели Гегечкорского района Грузии. Грузин. Генерал-лейтенант. С 9 марта 1941 г. по июль 1941 г. – народный комиссар госбезопасности БССР. 20 июля 1941 г. в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР был назначен начальником особого отдела Западного фронта и руководителем оперативно-чекистской группы НКВД по БССР С июня 1943 г. по 18 марта 1946 г. – нарком госбезопасности БССР, с 18 марта 1946 г. по 3 ноября 1951 г. – министр госбезопасности БССР. Позднее откомандирован для работы в МГБ СССР. 4 апреля 1953 г. арестован и, находясь в заключении, умер (по другим сведениям, покончил жизнь самоубийством) 12 октября 1955 г.
В начале «славных дел»Называя имена рядовых палачей мы не имеем права не уделить внимание одиозной фигуре «Лаврентия II», хотя бы потому, что Цанава в отличие от своих предшественников, продержавшихся в кресле наркома НКВД от двух месяцев до года, восседал в нем с конца 1938 г. до начала войны и затем еще семь послевоенных лет.
На совести этого услужливого подручного Сталина и Берии – тысячи человеческих жизней. По подсчетам историков, в первый год пребывания Цанавы в Белоруссии по политическим обвинениям было арестовано 27 тысяч человек. Одного за другим убирал «Лаврентий II» руководителей республики. И не только контролировал, направлял следствие, но и не гнушался лично допрашивать арестованных, используя весь арсенал опробированных ранее методов и средств.
Из анкеты генерал-лейтенанта Л. Ф. Цанавы: 1900 г. рождения, отец – крестьянин-бедняк, образование – окончил сельское начальное училище, общеобразовательные курсы в Тифлисе. До назначения в Белоруссию – на чекистской, партийной и хозяйственной работе в Грузии, в том числе заместитель председателя лимонно-мандаринового треста, начальник «Колхид-строя». Награды: 3 ордена Ленина, 3 – Красного Знамени, орден Суворова 1 степени, 2 ордена Кутузова 1 степени, боевые ордена Монголии, Польши, медали – всего около 30 наград.
Сохранился в архиве список депутатов Верховного Совета БССР первого созыва. Напротив фамилии Цанавы карандашом помечено: «Друг Берии», который, добавим, был еще и «крестным отцом» «Лаврентия II» – однажды посоветовал Л. Ф. Джанджгаве поменять его труднопроизносимую фамилию на более благозвучную. А еще раньше он спас Цанаву от тяжкого позора.
В 1922 г. во время партийной регистрации тому не возвратили партийный билет, что фактически означало его исключение из партии. Позже Цанава сам напишет об этом эпизоде так: «В бытность начальника политбюро ЧК в Г. Телави в 1922 г., в период разгара борьбы с национал-уклонистами, последними было выдвинуто против меня обвинение якобы в незаконном уводе девушки. Дело было расследовано органами ЧК, и в 1923 г. я был оправдан вовсе».
Девушку он действительно «умыкнул», и несдобровать бы Цанаве, если бы не выручил выдвинутый в заместители начальника ЧК Грузии Л. Берия. Цанаву в партии восстановили, и с этого времени стал он верным слугой Лаврентия Павловича.
Поднимался вверх по ступеням политической карьеры патрон и тащил за собой единомышленника и холуя. Теперь понятно, почему всего через неделю после назначения Берии наркомом внутренних дел СССР в декабре 1938 г. такой же пост в Белоруссии получил Цанава. Правда, для этого ему самому пришлось арестовать, как мы уже говорили, своего предшественника – А. Наседкина, в хорошем темпе провести следствие и через месяц отправить на расстрел. В полном соответствии с выдвинутой великим вождем формулой об обострении классовой борьбы.
Этот лозунг, судя по всему, стал для Цанавы подлинным откровением, потому что наилучшим образом отражал понимание им действительности, которая делилась им на «своих» и «врагов». А врагов, естественно, надо уничтожать и бояться.
Наверное, этой логикой руководствовался Цанава, когда настойчиво вдохновлял своих подчиненных на выбивание «чистосердечных признаний», а затем подписывал смертные приговоры многочисленным «шпионам» и «террористам», и когда создавал вокруг своей персоны завесу секретности, подозрительной настороженности, а каждый выход «в люди», будь то футбольный матч или предвыборная встреча с избирателями, обставлял как боевой поход с привлечением множества переодетых и в форме сотрудников НКВД, готовых жизнь положить во здравие родного шефа, уберечь от любого посягательства.
В наркомате Цанава всех держал в «ежовых рукавицах», насаждал жесткую палочную дисциплину. Многие бывшие его коллеги, дававшие показания в последующие годы, охотно и подробно рассказывали о его грубости и жестокости, о том, что ему ничего не стоило прилюдно оскорбить, унизить человека, плюнуть ему в лицо и даже ударить. Малейшее ослушание расценивалось не иначе как «вредительство» и чревато было непредсказуемыми последствиями.
Свидетели привели такой факт: Цанава отдал под суд и «упек» на 10 лет сержанта из личной охраны, отказавшегося поливать деревья в его саду. Крутой, деспотичный нрав превращал работу с ним в настоящую пытку. За пять послевоенных лет у него сменилось 22 секретаря – угождать Цанаве было большим искусством. И в то же время он откровенно раболепствовал перед «сильными», «вышестоящими». Очевидцы вспоминают, что, отвечая на московский звонок, непременно вскакивал и стоял, вытянувшись «в струнку», в течение всего разговора.
Суммируя факты, анализируя детали поведения этого тирана и плебея, приходишь к выводу, что служил он не делу, а лицам, стараясь во всем подражать им, неукоснительно следовать их советам.
Как и Берия в Москве, Цанава «внедрял» в партийные органы и государственные учреждения своих соглядатаев. Осведомители, как правило, всю собранную информацию, весь компромат поставляли ему лично. Множились «досье» на руководителей республики, и хотя о 1937 г. некоторые втайне только вздыхали, процветали те же методы тотальной слежки, доносительства и оговоров. По-прежнему в ходу были откровенно сфабрикованные материалы, лжесвидетельства, инсинуации.
Подтвердим этот вывод на примере «Дела Саевича», получившего в республике широкий резонанс. Нарком просвещения БССР Платон Васильевич Саевич был арестован по приказу Цанавы как «ярый троцкист, имевший связи с белой эмиграцией». Возьмите том Белорусской Советской энциклопедии и вы прочтете, что П. В. Саевич – член партии с 1917 г., участник Октябрьской революции и гражданской войны, ректор сельскохозяйственной Академии и Коммунистического университета Белоруссии, член ЦК КП(б)Б и ЦИК БССР, известный ученый. И как же, оказывается, легко было сломать, уничтожить человека, абсолютно беззащитного перед необузданной силой бесконтрольной власти и беззакония.
Выбить из Саевича нужные показания оказалось делом техники, которую позднее в реабилитационных документах назовут «применением недозволенных методов следствия». Правда, наркома не расстреляли, не то было уже время, но надолго упекли в далекие лагеря. Вернулся он оттуда уже после смерти Сталина, больной, изможденный и вскоре умер.
Уже в 1940 г. заслуги наркома внутренних дел Беларуси были оценены первым орденом Ленина. После того как части Красной Армии вместе с гитлеровцами провели совместный военный парад в Бресте, Цанава занялся развертыванием аппарата НКВД и сети доносчиков в Западной Беларуси. Пленные офицеры польской армии под охраной конвоя войск НКВД отправлялись в места будущих расстрелов.
Цанаве выпала и неблагодарная работа по чистке самого НКВД – многие чекисты пошли по тому конвейеру смерти, который создали своими руками.
Когда началась война, сотрудники НКВД вывозили архивы, одних заключенных по политическим мотивам расстреливали на месте в тюрьмах, других сгоняли в колонны и гнали на Восток. Конвоиры имели приказ за подписями Пономаренко и Цанава: «в случае невозможности обеспечить охрану контингента» – расстреливать заключенных на месте. В июне 1941 г. дороги из Вилейки на Полоцк и из Минска на Червень были усеяны сотнями трупов «врагов народа».
Особые отделы, которыми командовал Цанава на Западном, а потом на Центральном фронтах, продолжали делать тоже самое, что творили энкаведисты в довоенные годы: воевали всеми силами и средствами со своим народом.
За свою деятельность Цанава был награжден еще двумя орденами и медалями и тридцатью другими орденами и медалями.
В характеристике, утвержденной бюро ЦК, говорилось, что Цанава «активно участвовал в работе ЦК КП(б) в деле развития партизанского движения». Спецгруппы, подготовленные НКВД, забрасывались в немецкий тыл для организации вооруженного сопротивления. Их отличали жестокое отношение к местному населению, взаимные подозрения, слежка одно за другим, доносы, необоснованные аресты и расстрелы на месте, издевательство над местным населением.
В официальной истории партизанского движения имя Цанавы не значится, несмотря на то, что именно под его «авторством» в 1949 г. вышло первое полное описание партизанского движения в Беларуси в двух томах под названием «Всенародная партизанская война в Белоруссии против фашистских захватчиков». Основными разделами книги в. частности, были: «Призыв товарища Сталина к всенародной Отечественной войне», «Партия большевиков – организатор всенародной борьбы и побед», «Колхозы – большевистская крепость» и др.
15 июля 1953 г. приказом Главлита БССР было предписано «конфисковать из библиотек общественного пользования и книготорговли первую часть книги Цанава Л. Ф. «Всенародная партизанская война в Белоруссии против фашистских захватчиков», Минск, 1950 г… 10 000 экземпляров, 342 страницы». Конфискации подлежали и 60 000 экземпляров двухтомника на русском языке.