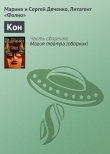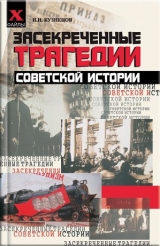
Текст книги "Засекреченные трагедии советской истории"
Автор книги: Игорь Кузнецов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ
Про оборону Брестской крепости написаны сотни книг, снято больше десяти художественных и документальных фильмов, крепости присвоено звание «Крепость-герой», на ее территории воздвигнут грандиозный мемориальный комплекс. На подвиге защитников Брестской крепости воспитаны целые поколения.
До сих пор нет внятного ответа на вопросы: почему Брестская крепость была так быстро сдана? Почему гарнизон не остановил противника, не задержал, не причинил серьезного вреда? Почему все об обороне крепости ясно только до тех пор, пока неизвестны детали?
Из историиКрепость была построена в XIX веке. Однако, и предыдущий, и последующий опыт доказывает: обыкновенные траншеи могут быть непреодолимым рубежом. Вся Первая мировая война – тому пример. К началу Второй мировой войны многое изменилось. Но, если дивизия находится в траншеях, то танки ей не страшны, и авиацией пехоту в траншеях не напугаешь.
А в Бресте – крепость! Внутренняя часть крепости – цитадель на острове. Перед фронтом цитадели – судоходная, то есть достаточно широкая, река Западный Буг. С тыла и флангов цитадель омывают протоки реки Мухавец. Итак, кругом вода. Уже одно это делает цитадель почти неприступной. Попробуйте прорваться через глубокие водные преграды, если по вам стреляют из сотен амбразур из-за непробиваемых стен. А стены цитадели были, действительно, непробиваемыми. Толщина стен – почти два метра.
В одном только центральном кольцевом здании – 500 казематов, в которых можно было разместить 12 000 солдат со всеми запасами, необходимыми для длительной обороны. Под казематами находился еще один подземный этаж, который мог служить хранилищем запасов и убежищем для личного состава.
Еще ниже, на втором глубинном этаже, были вырыты подземные ходы под цитаделью, под реками и прикрывающими укреплениями на соседних островах. Эти ходы позволяли проводить маневр резервами из любой части крепости в любую ее часть. Некоторые подземные тоннели выходили на несколько километров за пределы крепости.
Брестская крепость считалась шедевром инженерного искусства. Германские генералы называли ее «Восточным Верденом» или «Русским Карфагеном».
Центральный остров со всех сторон был прикрыт тремя другими островами: Пограничным (Западным), Госпитальным (Южным) и Северным. На каждом из этих островов было возведено укрепление, которое представляло собой цепь мощных бастионов высотой до 15 м.
Кроме всего этого, бастионы и валы на многих направлениях были прикрыты еще одним рядом десятиметровых земляных валов и глубоких рвов, заполненных водой. Брестская крепость справедливо считалась одной из сильнейших крепостей Европы. Ряд западных корифеев фортификации ставили ее на первое место.
В начале XX века на удалении 6–7 км от основной части крепости было возведено второе кольцо, на этот раз железобетонных фортов. Общий обвод оборонительной линии увеличился до 45 км. Брестская крепость была первоклассной для своего времени.
В том, что Брестская крепость была таковой, советские войска убедились в сентябре 1939 г. во время совместного советско-германского раздела Польши. Брестскую крепость оборонял героический польский гарнизон, а гитлеровцы и красноармейцы под командованием Гудериана и Кривошеева ее штурмовали. А в 1941 г. германская пехота ворвалась в цитадель утром первого дня войны.
Как это случилось?
«Тяжелое положение сложилось на левом крыле Западного фронта. На четыре стрелковые дивизии 4-й армии, предназначенные для обороны границы в районе Бреста, обрушилось десять дивизий правого крыла группы армий «Центр», в том числе четыре танковых»(История Великой Отечественной войны Советского Союза. М., 1961).
Казалось бы, враг сильнее: десять вражеских дивизий, в том числе четыре танковые, против четырех советских стрелковых дивизий. Однако, раньше в советских источниках не говорилось о наличии нашей 22-й танковой дивизии, которая находилась в Бресте, и про 62-й укрепленный район. И позади «четырех советских стрелковых дивизий» не пустота. Позади – 30-я танковая и 205-я моторизованная дивизии 14-го мехкорпуса, тяжелый гаубичный артиллерийский полк РГК и бригадный район ПВО с 85-мм зенитными пушками, которые пробивали немецкие танки того времени насквозь.
Через Западный Буг в полосе 4-й армии имелись два железнодорожных и четыре автомобильных моста. Эти мосты находились под охраной 89-го (Брестского) пограничного отряда, который никаких заданий по подготовке этих мостов к разрушению не получил. В результате, в первый же день войны все переправы и мосты противник захватил в исправном состоянии.
Даже если считать, что на Брестском направлении у германской стороны был некоторый перевес сил, то нужно помнить, что без мостов это преимущество было невозможно реализовать. Переправа одной только германской пехоты без танков, артиллерии, штабов, тыловых подразделений и прочего под огнем защитников Брестской крепости, укрепленного района, четырех стрелковых и одной танковой дивизий означала бы катастрофу для германских войск.
Причина разгрома советских войск в районе Бреста не в том, что германская сторона имела численное преимущество, а в том, что Красная Армия не взорвала мосты через Западный Буг.
В своей секретной (до 1988 г.) монографии Л. М. Сандалов (накануне войны – полковник, начальник штаба 4-й армии) отмечал: «…Брестская крепость оказалась ловушкой и сыграла в начале войны роковую роль для войск 28-го стрелкового корпуса и всей 4-й армии. Большое количество личного состава частей 6-й и 42-й стрелковых дивизий осталось в крепости не потому, что они имели задачу оборонять крепость, а потому, что не могли из нее выйти…».
Все абсолютно логично. Крепость так и строится, чтобы в нее было трудно войти. Как следствие, из любой крепости трудно вывести разом большую массу людей и техники. Сандалов пишет, что для выхода из Брестской крепости в восточном направлении имелись только одни (северные) ворота, далее надо было переправиться через опоясывающую крепость реку Мухавец. Страшно подумать, что там творилось, когда через эти ворота под градом вражеских снарядов пытались вырваться наружу две стрелковые дивизии – без малого 30 тысяч человек.
Чуть южнее Бреста, в военном городке в 3 км от линии пограничных столбов, дислоцировалась еще одна дивизия: 22-я танковая из состава 14-го МК.
«Этот городок, – пишет Л.М.Сандалов, – находился на ровной местности, хорошо просматриваемой со стороны противника… Расположение частей было скученным… Красноармейцы спали на 2–4 ярусных нарах, а офицеры с семьями жили в домах начсостава поблизости от казарм… По тревоге дивизия выходила в район Жабинки и севернее. При этом дивизии предстояло переправиться через р. Мухавец, пересечь Варшавское шоссе и две железнодорожные линии… Это означало, что на время прохождения дивизии прекращалось в районе Бреста всякое движение по шоссейным и железным дорогам…».
Разумеется, немцы оценили и полностью использовали предоставленные им возможности. Кроме «собственной» артиллерии 45-й пехотной дивизии вермахта, для обстрела Бреста была выдвинута артиллерия двух соседних (34-й и 31-й) пехотных дивизий, двенадцать отдельных батарей, дивизион тяжелых мортир.
Для большей эффективности огня немцы подняли в воздух привязные аэростаты с корректировщиками. Шквал огня буквально смел с лица земли тысячи людей, уничтожил автотранспорт и артиллерию, стоявшие тесными рядами под открытым небом.
98-й отдельный дивизион ПВО, разведбат и некоторые другие части 6-й и 42-й стрелковых дивизий были истреблены почти полностью. 22-я танковая дивизия потеряла до половины танков и автомашин, от вражеских снарядов загорелись, а затем и взорвались артсклад и склад ГСМ дивизии.
Вот после того, как три дивизии были расстреляны, подобно учебной мишени на полигоне, а немцы уже в 7 часов утра заняли пылающие развалины Бреста, и началась воспетая в стихах и прозе «героическая эпопея обороны Брестской крепости».
Здесь и возникает естественный вопрос – кто виноват?
Крепость, как предмет неодушевленный, никакой роли сыграть не могла. Роль «ловушки» сыграли решения, принятые людьми. Кто их принимал, когда и, главное, – зачем?
Традиционная советская историография привычно гласит: «Было допущено необдуманное размещение…».Это чем же надо было думать, чтобы разместить три дивизии там, где никого и ничего – кроме пограничных дозоров и минных полей – и быть не должно!
Госпиталь 4-й армии был расположен на острове посреди Буга, то есть даже не у границы, а уже за границей. Самое же главное в том, что дивизии легких танков (а вооружена «брестская» 22-я танковая девизия была одними только Т-26) на берегу пограничной реки делать совершенно нечего. Сначала артиллерия должна подавить систему огня противника, затем пехота должна навести переправы, захватить плацдарм на вражеском берегу, и только после этого из глубины оперативного построения в прорыв должна ворваться танковая армада.
Именно так докладывал высокому Совещанию (в декабре 1940 г.) главный танкист РККА генерал Д. Г. Павлов, именно поэтому в «красном пакете» районом сосредоточения для 22-й тд был указан отнюдь не восточный берег Буга, а деревня Жабинка в 25 км от Бреста!
Что же помешало рассредоточить 22-ю танковую девизию в лесах еще восточнее этой самой Жабинки? Уж чего-чего, а леса хватало. Кто и зачем загнал танковую дивизию в лагерь «на ровной местности, хорошо просматриваемой со стороны противника»? Кто и зачем запер две стрелковые дивизии в «мышеловку» крепости?
Е. М. Синковский, накануне войны – майор, начальник оперативного отдела штаба 28-го стрелкового корпуса 4-й армии: «…командование 28-го СК возбудило перед командованием 4-й армии ходатайство о разрешении вывести 6-ю и 42-ю дивизии из крепости. Разрешения не последовало…».
Ф. И. Шлыков, накануне войны – член Военного совета 4-й армии. Вам слово, товарищ комиссар: «…мы писали в округ, чтобы нам разрешили вывести из Бреста одну дивизию, некоторые склады и госпиталь. Нам разрешили перевести в другой район лишь часть госпиталя…».
Л. М. Сандалов, в своей монографии о боевых действиях армии пишет: «…настоятельно требовалось изменить дислокацию 22-й танковой дивизии, на что, однако, округ не дал своего согласия…».
Итак, подведем промежуточные итоги. Все осознают ошибочность размещения трех дивизий прямо на линии пограничных столбов. Но командованию корпуса запрещает вывести дивизии из Бреста командование армии, которому, в свою очередь, сделать это запрещает командование округа. Более того, вокруг вопроса о выводе войск из Бреста идет напряженная борьба. Корпус просит разрешения на вывод из крепости всех частей, командование армии просит у штаба округа разрешения на вывод хотя бы одной дивизии.
А что же командование округа?
Д. Г. Павлов, генерал армии, командующий Западным фронтом, дал на суде следующие показания: «…еще в начале июня я отдал приказ о выводе войск из Бреста в лагеря. Коробков же моего приказа не выполнил, в результате чего три дивизии при выходе из города были разгромлены противником…».
А. А. Коробков, генерал-майор, командующий 4-й армией, дал на суде следующие показания: «…виновным себя не признаю… показания Павлова я категорически отрицаю… Приказ о выводе частей из Бреста никем не отдавался. Я лично такого приказа не видел…
Оказавшись плечом к плечу с Коробковым (они сидели на одной скамье подсудимых), Павлов тут же меняет свои показания. Между двумя обреченными генералами происходит следующий диалог:
«Подсудимый Павлов:
– В июне по моему приказу был направлен командир 28-го стрелкового корпуса Попов с заданием к 15 июня все войска эвакуировать из Бреста в лагеря.
Подсудимый Коробков:
– Я об этом не знал. Значит, Попова надо привлекать к уголовной ответственности…».
Обратите внимание, что генералы спорят не о том, были ли приказы Павлова верными, своевременными, эффективными. Они не могут согласиться друг с другом в том, был ли отдан приказ о выводе войск из Бреста или нет. Как такое может быть предметом спора?
Приказ штаба Западного Особого военного округа был (или не был) отдан за три недели до начала войны. В абсолютно мирное время. Его что – немецкие диверсанты из сейфа выкрали? И почему это приказ командования округа отдается «через голову» командующего армии непосредственно командиру корпуса? Того самого 28-го СК, командование которого, по свидетельству майора Синковского, не то что приказа, а даже «разрешения на вывод двух дивизий из Брестской крепости не получило».
Миф о «линии Сталина»Коль скоро мы заговорили о Бресте, то самое время вспомнить историю обороны того, что по планам советского командования должно было выступить в роли «брестской крепости». Разумеется, речь пойдет не о подземельях старинного замка, а о Брестском укрепрайоне (УР № 62).
Доверчивый и наивный Сталин переломал все доты на старой (1939 г.) госгранице, а на новой ничего путного построить так и не успели. Это знают все. Об этом сказано в любой книжке про войну. В отстаивании этой «истины» объединились все, от Виктора Суворова до любого партийного «историка».
В № 4 за 1989 г. «Военно-исторический журнал» (печатный орган Министерства обороны СССР) поместил таблицу с цифрами, отражающими состояние укрепленных районов на новой границе к 1 июня 1941 г. Мелким шрифтом была набрана информация о том, что в Брестском УРе было построено 128 долговременных огневых сооружений, и еще 380 ДОСов находилось в стадии строительства. И ни слова о том, что сроком завершения строительства было установлено 1 июля 1941 г., и работа кипела с рассвета до заката.
25 мая 1941 г. вышло очередное постановление правительства о мерах по реконструкции и довооружению «старых» УРов. Срок готовности был установлен к 1 октября 1941 г. Некоторые доты Минского УРа целы и по сей день. Полутораметровый бетон выдержал все артобстрелы, а когда немцы, уже во время оккупации Белоруссии, попытались было взорвать ДОТы, то от этой идеи им пришлось вскоре отказаться из-за огромного расхода дефицитной на войне взрывчатки.
Вернемся, однако, в Брест. Как пишет Сандалов (в то время – начальник штаба 4-й армии, в полосе которой и строился Брестский УР), «на строительство Брестского укрепленного района были привлечены все саперные части 4-й армии и 33-й инженерный полк округа… В марте-апреле 1941 г. было дополнительно привлечено 10 тысяч человек местного населения с 4 тысяч подвод… С июня по приказу округа на оборонительные работы привлекалось уже по два батальона от каждого стрелкового полка дивизии…».16 июня строительный аврал был еще раз подстегнут постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об ускорении приведения в боевую готовность укрепленных районов».
К 22 июня большая часть из 380 недостроенных ДОСов Брестского УРа была уже готова или почти готова. Точных цифр не знает никто. Так, суммирование построенных ДОСов в четырех укрепрайонах Западного фронта дает число 332, но на соседней странице, в тексте статьи, сказано, что к июню 1941 г. было построено 505 ДОСов. Павлов и Климовских называют на суде еще большую цифру – 600.
Как бы то ни было, но на каждом километре фронта Брестского укрепрайона стояло по три врытые в землю бетонные коробки, стены которых выдерживали прямое попадание снаряда тяжелой полевой гаубицы. Одна из коробок была полностью построена и оборудована и еще две такие же коробки незавершены.
Даже если допустить, что ни в одном ДОСе не было установлено ни одной единицы специального вооружения, то и в этом случае, просто разместив в них пулеметные взводы стрелковых дивизий, вооруженные стандартными «дегтярями» и «максимами», можно было создать сплошную зону огневого поражения. Пулеметы были. По штату в апреле 1941 г. в стрелковой дивизии РККА было 392 ручных и 166 станковых пулеметов. По штату. Фактически к 22 июня 1941 г. на вооружении Красной Армии было 170 тысяч ручных и 76 тысяч станковых пулеметов.
Впрочем, все эти импровизации были излишними. Как следует из показаний командующего Западным фронтом Павлова, треть ДОСов была уже вооружена. Причем вооружена отнюдь не ветхими пушками, якобы снятыми с укрепрайонов на старой границе.
И. Н. Швейкин встретил войну лейтенантом в 8-м пулеметно-артиллерийском батальоне Брестского УРа. Он свидетельствует: «…качество и боевое снаряжение дотов по сравнению с дотами на старой границе было намного выше. Там на батальон было всего четыре орудия, а остальное вооружение составляли пулеметы. Здесь же многие доты имели по одному или несколько орудий, спаренных с пулеметами… Орудия действовали полуавтоматически. Стреляные гильзы падали в специальные колодцы вне дотов, что было очень удобно. Боевые сооружения оснащались очень хорошей оптикой…».
Приведем еще одно свидетельство:
«В конце мая участились боевые тревоги, во время которых мы занимали свои доты… Ночь проводили в дотах, а утром, после отбоя возвращались в свои землянки. В июне такие тревоги стали, чуть ли не ежедневными. В ночь на 21 июня – тоже. В субботу, 21 июня, как обычно, после ужина смотрели кино. Бросилось в глаза то, что, в отличие от прошлых суббот, на скамейках не было видно гражданских жителей из ближайших деревень. После фильма прозвучал отбой, но спать долго не пришлось: в 2 часа ночи мы были подняты по боевой тревоге и через полчаса были уже в своих дотах, куда вскоре прибыли повозки с боеприпасами…».
Это – строки из воспоминаний Л. В. Ирина, встретившего войну курсантом учебной роты 9-го артпульбата Гродненского УРа. Нет никаких оснований сомневаться в том, что и Брестский УР жил весной 1941 г. по тем же самым уставам и наставлениям.
Все познается в сравнении. «Линия Маннергейма», о которой историки Второй мировой вспоминали тысячу и один раз, имела всего 166 бетонных ДОТов на фронте в 135 км, причем большая часть дотов были пулеметными, и лишь только 8, так называемых, «дотов-миллионников» были вооружены пушками.
Как же все это было использовано? Красная Армия с огромными потерями прогрызала «линию Маннергейма» весь февраль 1940 г. Немцы же практически не заметили существования Брестского укрепрайона.
В донесении штаба группы армий «Центр» (22 июня 1941 г., 20 ч 30 мин) находим только краткую констатацию: «Пограничные укрепления прорваны на участках всех корпусов 4-й армии»(то есть как раз в полосе обороны Брестского УРа). И в мемуарах Гудериана мы не найдем ни единого упоминания о каких-то боях при прорыве линии обороны Брестского укрепрайона. Но. Некоторые ДОТы сражались до конца июня 1941 г. Немцы уже заняли Белосток и Минск, вышли к Бобруйску, начали форсирование Березины, а в это время 3-я рота 17-го пульбата Брестского УРа удерживала 4 ДОТа на берегу Буга у польского местечка Семятыче до 30 июня!
Бетонные перекрытия выдержали все артобстрелы, и, только получив возможность окружить ДОТы и проломить их стены тяжелыми фугасами, немцы смогли подавить сопротивление горстки героев.
А что же делали все остальные? «Большая часть личного состава 17-го пульбата отходила в направлении Высокого, где находился штаб 62-го укрепрайона… В этом же направлении отходила группа личного состава 18-го пульбата из района Бреста…».Вот так, спокойно и меланхолично, описывает Сандалов факт массового дезертирства, имевший место в первые часы войны.
На войне как на войне. В любой армии мира бывают и растерянность, и паника, и бегство. Для того и существуют в армии командиры, чтобы в подобной ситуации одних приободрить, других – заставить любой ценой выполнить боевую задачу. Что же сделал командир 62-го УРа, когда к его штабу в Высоком прибежали толпы бросивших свои огневые позиции красноармейцев?
«Командир Брестского укрепрайона генерал-майор Пузырев с частью подразделений, отошедших к нему в Высокое, в первый же день отошел на Вельск, а затем далее на восток…».
Как это – «отошел»? Авиаполки, как нам говорят, «перебазировались» в глубокий тыл для того, чтобы получить там новые самолеты. Взамен ранее брошенных на аэродромах. Допустим. Но что же собирался получить в тылу товарищ Пузырев? Новый передвижной ДОТ на колесиках?
Возможно, эти вопросы и были ему кем-то заданы. Ответы же по сей день неизвестны.
«1890 г.р. Комендант 62-го укрепрайона. Умер 18 ноября 1941 г… Данных о месте захоронения нет»– вот и все, что сообщил своим читателям «Военно-исторический журнал». Как, где, при каких обстоятельствах умер генерал Пузырев? Почему осенью 1941 г. он продолжал числиться «комендантом» несуществующего укрепрайона? Все это укрыто густым мраком государственной тайны.
Старший начальник генерала Пузырева, помощник командующего Западным фронтом по укрепрайонам генерал-майор И. П. Михайлин, погиб от шального осколка ранним утром 23 июня 1941 г.
В мемуарах Болдина обнаруживаются и некоторые подробности этого несчастного случая: «…отступая вместе с войсками, генерал-майор Михайлин случайно узнал, где я, и приехал на мой командный пункт…».Генерал Михайлин не отступал «вместе с войсками». Он их явно обогнал.
Командный пункт Болдина находился в 15 км северо-восточнее Белостока, то есть более чем в 100 км от границы. Солдат за сутки столько ногами не протопает.
Сегодня никто не в праве ставить под сомнение мужество и героизм военнослужащих Красной Армии до конца выполнивших воинский долг. Но мы обязаны вновь и вновь искать ответ на вопрос: кто, и в какой степени несет ответственность за трагедию в 1941 г.?