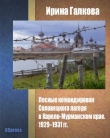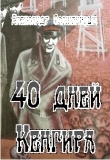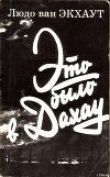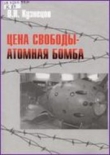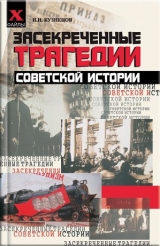
Текст книги "Засекреченные трагедии советской истории"
Автор книги: Игорь Кузнецов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
СЛЕДСТВИЕ ЗАКОНЧЕНО. ЗАБУДЬТЕ?
В апреле 1999 г. было завершено четвертое следствие, проведенное по факту обнаружения массовых захоронений под Минском в лесном массиве Куропаты. Но до сих пор его результаты так и не обнародованы. Тем не менее «немецкий след», ради обнаружения которого белорусской военной прокуратурой по требованию «общественности» в очередной раз было проведено новое следствие по старому делу, найден так и не был.
Как это было3 июня 1988 г. в газете «Лiтаратура i мастацтва» была опубликована статья научных сотрудников Института истории АН БССР Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева «Курапаты – дорога смерцi». В статье утверждалось, что в лесном массиве Куропаты захоронены жертвы политических репрессий 1937–1941 гг. Обобщив все имевшиеся материалы, авторы статьи сделали вывод, что на этом месте в предвоенные годы органы НКВД проводили массовые расстрелы людей. Статья имела большой резонанс и послужила основанием для возбуждения прокуратурой БССР 14 июня 1988 г. уголовного дела. Это было первое в СССР уголовное дело против тоталитарного государства за преступления против своего народа в 30-е гг.
Первое следствие по Куропатам проводилось с июня по ноябрь 1988 г., потом было прекращено и возобновлено в январе 1989 г.
«Это дело было совершенно уникальным, – вспоминает Язеп Бролишс, который в то время был следователем по особо важным делам прокуратуры БССР. – Следствие по уголовному делу обычно имеет свои цели – установить событие преступления, того, кто его совершил, определить, под какую статью УК это преступление подпадает, найти потерпевших, и т. д. Здесь же, несмотря на то, что событие преступления налицо, было неясно, кого и что искать… Более того, не существовало прецедентов таких расследований, не было ни технологий, ни методик. Это первое такое дело в Советском Союзе. Тем не менее, путем проб и ошибок, применяя испытанные технологии и приемы криминалистики, мы вышли из положения. Зато мы оказали хорошую услугу всем тем, кто столкнулся с такими захоронениями после нас».
В ходе следствия было установлено, что на территории около 30 гектаров расположено 510 предполагаемых захоронений, представляющих собой впадины с признаками оседания грунта. Была произведена выборочная эксгумация, во время которой были обнаружены человеческие останки: 313 черепов, кости скелетов, 340 зубных протезов из желтого и белого металлов. Обнаружены личные вещи: расчески, зубные щетки, мыльницы, кошельки, обувь, остатки одежды, а также 177 гильз и 28 пуль. 164 револьверные гильзы и 21 пуля стреляны из револьвера системы «Наган», 1 гильза из пистолета «ТТ», то есть из штатного оружия сотрудников НКВД.
Как показала комплексная судебно-медицинская и криминалистическая экспертиза, костные останки, обнаруженные при эксгумации, принадлежали не менее чем 356 расстрелянным, останки еще 35 человек были обнаружены строителями и учащимися. На 227 черепах и их фрагментах выявлены огнестрельные повреждения. По оценочным данным, в урочище Куропаты покоится прах не менее 30 тысяч репрессированных.
В ходе расследования было опрошено около 200 очевидцев событий. 55 свидетелей из числа жителей деревень Цна-Иодково, Подболотье, Дроздово, расположенных вблизи лесного массива, показали, что в 1937–1941 гг. работники НКВД на крытых автомашинах привозили сюда людей и расстреливали их. Трупы закапывали в ямы. Расстрелы начались в 1937 г. и продолжались до 1941 г. Судя по характеру и номенклатуре обнаруженных вещей, в Куропатах были захоронены в основном выходцы из Беларуси, в том числе из западных областей и, возможно, из Прибалтики. Есть основания полагать, что там покоится прах политических заключенных АвтодорЛага.
Среди свидетелей, которые давали показания, не было никого, кто во время тех событий находился бы в младенческом или старческом возрасте. Во время следственного эксперимента свидетель Н. Карпович указал место, где в 1937 г. видел не засыпанную могилу, наполненную трупами. В ходе эксгумации в указанном им направлении обнаружено захоронение, из которого извлечены 50 черепов, кости скелета, обувь, другие предметы и их фрагменты.
Из протокола эксгумации останков:
«При разработке пласта захоронения (раскоп № 8) извлечены хаотично располагавшиеся в нем предметы: 50 черепов, в том числе 7 со сводом и основанием… На всех 50 черепах имеются повреждения округлой и овальной формы, располагающиеся на различных участках – в теменной, затылочной, височной, лобной областях. Сохранившихся черепов без повреждений не обнаружено…»
Практически все опрошенные засвидетельствовали, что во время войны на этом месте расстрелов не было, да и вообще в ту пору версия «немецкого следа» никому не приходила в голову. По словам Язепа Бролишса, «и тогда, и сейчас у меня не возникало ни малейшего сомнения, что это – дело рук НКВД. В ходе следствия не было найдено никаких доказательств «немецкого следа». А свидетельств того, что расстреливали «компетентные органы, более чем достаточно».
Согласно показаниям жителей населенных пунктов, расположенных неподалеку от лесного массива Куропаты, в этом месте во время оккупации Беларуси фашистами каких-либо расстрелов и захоронений не производилось. Были проведены проверки и иных версий. По данным Военного комиссариата БССР, воинских захоронений в лесном массиве, где обнаружены останки, также не имелось.
Показания свидетелей были подтверждены данными КГБ БССР о том, что во время оккупации в Куропатах не располагалось ни концентрационных, ни иных лагерей.
Для того чтобы выяснить, где находились места приведения в исполнение приговоров и решений внесудебных органов за 1937–1941 и 1944–1953 гг., следствие направило запросы в КГБ БССР. Однако, согласно поступившим на запросы следствия ответам, эта организация не располагала документальными данными о местах приведения приговоров в исполнение. Отсутствовали там также и сведения о лицах, исполнявших в указанные годы приговоры и решения о высшей мере наказания. Оказалось невозможным установить и количество расстрелянных. Как мало времени понадобилось для того, чтобы бесследно исчезла память о жертвах и палачах.
Тем не менее, следствием было достоверно установлено, что с 1937 по 1941 год в лесном массиве Куропаты органами НКВД производились массовые расстрелы граждан. Спустя столько времени определить их личность и конкретные основания казни уже не представилось возможным. В постановлении о прекращении уголовного дела было отмечено: «Принимая во внимание, что виновные в этих репрессиях руководители НКВД БССР и другие лица приговорены к смертной казни либо умерли, на основании изложенного… уголовное дело, возбужденное 14 июня 1988 г. прокурором Белорусской ССР, прекратить».
Новая версия старого делаВ июне 1991 г. члены так называемой общественной комиссии по расследованию преступлений в Куропатах, под председательством В. Корзуна направили в Прокуратуру СССР собранный ими материал, якобы доказывающий, что в урочище Куропаты покоятся не жертвы НКВД, а жертвы немецко-фашистских захватчиков.
Осенью 1991 г. в Минск приезжал представитель Прокуратуры СССР, но факты, изложенные в обращении «общественной комиссии» не нашли подтверждения. В феврале 1992 г. по требованию «общественной комиссии» Прокуратура Республики Беларусь была вынуждена вновь возобновить расследование. Следствие подтвердило выводы государственной комиссии.
В 1993 г. «общественная комиссия» обратилась в Верховный Совет РБ с предложением дезавуировать выводы, к которым пришла государственная комиссия в своем расследовании куропатских событий.
Верховный Совет в ответ поручил Генеральному прокурору республики В. Шолодонову вернуться к этому делу. Повторное расследование проводил старший следователь по особо важным делам Прокуратуры РБ Валерий Комаровский. Именно к тому времени относится возникновение версии о «немецком следе» и о том, что в Куропатах не НКВД расстреливал советских граждан, а немцы – привезенных сюда в качестве переводчиков гамбургских евреев.
Тогда же бывшая белорусская подпольщица Мария Осипова, которая принимала участие в работе государственной комиссии во время первого следствия, спустя 4 года вдруг вспомнила, что во время войны через Комаровку в сторону Зеленого Луга немцы гнали на расстрелы мирных граждан. Иными словами, новому следствию пришлось иметь дело с несколькими версиями, каждая из которых противоречила выводам предыдущей.
Новое расследование дела по Куропатам было проведено досконально. Для того, чтобы исключить версию расстрелов евреев немецкими оккупантами, Валерий Комаровский запросил Иерусалимский Институт катастрофы и героизма европейского еврейства в годы Второй мировой войны Яд-Вашем, где собрана наиболее полная информация о репрессиях в отношении евреев. Минск, Дрозды, Масюковщина, Куропаты, Цна-Иодково и Зеленый Луг в качестве места расстрелов еврейского населения не зафиксированы. Нет информации о расстрелах в Куропатах и в немецких архивах. Немецкие эксперты подтвердили, что метод захоронения в Куропатах – не немецкий. Гитлеровцы обычно копали большие могилы – до 50–60 м в длину, перед «акцией» жертв раздевали, забирали личные вещи, снимали золотые коронки.
Был обнаружен и «польский след». В частности, в одном из российских архивов был найден приказ за подписью Л. Берия об этапировании из тюрем НКВД западных областей Беларуси в Минск 3000 офицеров польской армии и заочного приговора их к расстрелу. В марте-апреле 1940 г. они были доставлены в Минск, тут их след теряется. Фактически было доказано, что Катынь и Куропаты – звенья одной цепи.
После исследования всех документов выносится постановление об отсутствии мотивов для возобновления следствия по Куропатам. Собранные доказательства свидетельствовали о несостоятельности предположений так называемой «общественной комиссии». Анализ имевшихся в уголовном деле сведений позволили вновь сделать вывод о том, что в лесном массиве Куропаты в 1937–1941 гг. органами НКВД БССР производились массовые расстрелы граждан, обвиняемых в совершении «контрреволюционных преступлений».
Определить численность и имена погибших в процессе следствия не представлялось возможным из-за отсутствия необходимых архивных данных в КГБ Республики Беларусь.
Иными словами, версия о расстрелах НКВД оставалась в силе, собранные доказательства не подлежали сомнению, а новые материалы лишь подтверждали уже имевшееся заключение. Оснований для возобновления следствия по делу о Куропатах не было.
Решение о начале нового, четвертого, следствия в 1998 г. было как гром среди ясного неба.
На этот раз расследование было поручено старшему помощнику военного прокурора республики Виктору Сомову. И снова была проведена проверка доказательств, собранных в ходе предыдущих следствий, работа по уже известным версиям. Не обошлось и без маленькой сенсации: в ходе расследования «общественная комиссия» предъявила «свидетеля», который якобы своими глазами видел, как расстрелы в Куропатах вели немцы, а не НКВД. В ходе следствия выяснилось, что «свидетель» даже не знаком с местностью, о которой шла речь.
Следствие закончено. Забудем?В ходе последнего следствия впервые было обнаружено самое большое из всех найденных в Куропатах захоронений, в котором содержались останки более 300 человек (обычно в ямах находилось до 100 останков). Следствие преподнесло еще одну сенсацию – впервые за всю историю раскопок в Куропатах были найдены вещественные доказательства с конкретными датами и фамилиями, свидетельствовавшие о том, что расстрелы проходили до начала войны. В захоронении № 30 были обнаружены тюремные квитанции об изъятии при аресте ценностей, выданные 10 июня 1940 г. Мовше Крамеру и Мордыхаю Шулескесу, то есть за год до оккупации Минска.
Как известно, 94 % стреляных гильз, найденных в Куропатах, – от револьверов системы «Наган». Кроме того, было найдено несколько стреляных гильз из пистолетов систем «Браунинг» и «Вальтер», что также дало возможность сторонникам «немецкого следа» еще раз заявить о правомерности своей версии. Однако надо заметить, что оружие этих систем выпускалось задолго до 1941 г. и нередко именно таким оружием награждался руководящий состав НКВД. Кроме того, имеются данные о том, что пистолеты, в том числе этих систем, были штатным оружием ряда сотрудников НКВД.
Настало время назвать установленные не КГБ, а исследователями имена палачей, которые стреляли в затылки наших сограждан. Это сотрудники комендатуры НКВД БССР: Никитин, Ермаков, Коба, Яковлев, Острейко, Дубровский, Бочков, Батян, Абрамчик, Мигно. Это далеко не полный список энкаведистов, уничтоживших тысячи ни в чем не повинных людей.
На сегодняшний день дело о Куропатах насчитывает более 15 томов. И все эти материалы лишь подтверждают версию, по которой расстрелы проводились сотрудниками НКВД. Однако даже если допустить возможность того, что на этом месте немцы во время войны расстреляли несколько сот мирных жителей, след НКВД от этого никуда не исчезнет. Тому есть немало примеров. В частности, в районе парка Челюскинцев, где установлен памятный знак, до войны вел расстрелы НКВД, а во время войны на том же месте расстреливали немцы.
Несмотря на то, что Куропаты – одно из самых громких и известных дел в постперестроечной истории Беларуси, результаты последнего следствия так и не были доведены до сведения общественности. Архивно-следственное дело засекречено до сих пор. Впрочем, само отсутствие информации уже говорит о его результатах. В ходе многочисленных проверок и экспертиз были полностью подтверждены результаты предыдущих расследований.
Только после неоднократных требований ряда общественных организаций в ответе на очередное обращение 7 декабря 2001 г. республиканская прокуратура фактически подтвердила, что «…как первоначальным, так и дополнительным расследованием установлено, что в 1937–1940 гг. органами НКВД из мест заключения вывозились в урочище «Куропаты» люди и там расстреливались…».
Сегодня с уверенностью можно сказать, что исход куропатского дела не удовлетворят тех, кто упорно не желает слышать правду о трагическом прошлом Беларуси. Все остальное уже ясно.
ТРОСТЕНЕЦКАЯ ТРАГЕДИЯ
По оценочным сведениям, в Минске сегодня находится не менее 8 мест массовых расстрелов периода 1920–1940 гг. годов. Расстрелы производились не менее, чем в 40 населенных пунктах республики. И это только в Беларуси! А сколько мест массовых захоронений и расстрелов по всей территории бывшего СССР еще не выявлены до сих пор?
Близ Минска массовые расстрелы проводились в урочище Куропаты и в районе Лошицкого парка. Одиночные расстрелы велись на Кальварийском кладбище, а трупы под покровом ночи закапывали в уже существующие могилы. Еще одно захоронение, о котором известно немногим, было обнаружено во время строительства станции метро «Пушкинская». Там для пущей конспирации в скотомогильнике, где были зарыты зараженные сибирской язвой животные, лежали трупы 300 железнодорожников, расстрелянных в 1937 г. по личному приказу наркома Кагановича. Это захоронение было уничтожено при строительстве метрополитена. В период с 1937–1941 гг. массовые расстрелы проводились также в районе нынешней промышленной зоны Шабаны и в районе урочище Благовщина. Несмотря на то, что в Благовщине оккупанты во время войны расстреляли более 140 тысяч мирных жителей, это не дает права забывать о тысячах людей, расстрелянных сотрудниками НКВД в 1937–1941 гг.
Что же произошло в районе Тростенца более 60 лет тому назад?С осени 1941 г. в окрестности деревни М.Тростенец (тогдашний колхоз имени К. Маркса) стали прибывать первые транспорты со смертниками. Возможно, место было выбрано неслучайно. Еще в июньские дни 1941 г. части НКВД конвоировали по Могилевскому шоссе колонны арестованных из минских тюрем, а так жертв энкавэдэшной «зачистки» первых дней войны.
Конвоировали не дальше ближайшего леса, а это и были окрестности Тростенца. Ранее, в конце 1930-х гг., по свидетельствам очевидцев, были отселены хутора, и севернее урочища Благовщина часть территории вблизи Могилевского шоссе отошла под охраняемый НКВД объект. Оттуда по ночам нередко доносились выстрелы.
Под Минском в урочище Благовщина не только фашисты расправлялись с мирными гражданами, здесь также немало «положили» своих соотечественников в предвоенные годы энкэвэдисты, расстреляли попавших в плен к фашистам в первые дни войны советских солдат и офицеров.
Известно, что перед вступлением оккупантов в Минск все заключенные и находящиеся под следствием за совершение так называемых «контрреволюционных преступлений» были выведены из города несколькими колоннами по 2–4 тысячи человек. 25 июня одна из колонн была расстреляна в районе Благовщины, другая 26 июня за Червенем. Аналогичные расстрелы были произведены в июне 1941 г. и в ряде населенных пунктов Беларуси.
Для ответа на вопрос, как это было, приведу фрагменты воспоминаний узника минской внутренней тюрьмы НКВД Цодика, которого опросил А. Майсеня в начале 1990-х гг.
Заключенные, давно ожидавшие команды покинуть тюрьму, потянулись друг за другом в освещенный створ двери. Цодик тоже подхватился с нар и пристроился к выходящим. По всему этажу и на лестничных клетках стояла усиленная охрана. Еще из 3–4 камер выходили заключенные. Охранники торопили, подгоняли без конца, матерясь и угрожая. Вместе со всеми Цодик вышел на улицу.
Колонна тронулась с места, крытые машины одна за другой выползли из тюремных ворот на ночную минскую улицу. Ехали медленно – то и дело приходилось обгонять марширующие в ночи воинские части; стучали об асфальт тысячи солдатских сапог, громыхали артиллерийские орудия, гудели моторы. В этот гул постоянно врывались зенитные залпы, глухой раскат стреляющих пушек. На ходу сигналя и маневрируя, колонна, наконец, вырвалась из уличной сутолоки на Могилевское шоссе. Машины пошли быстрее, но и здесь то и дело приходилось притормаживать, чтобы вписаться в поток людей и техники, катившей вниз по шоссе.
Ехали по шоссе минут тридцать, внезапно машину слегка накренило на левый бок, она ткнулась носом вперед и съехала с шоссе, затрясшись неровной дрожью по ухабам и выбоинам проселочной дороги. Звуки колонны беженцев на шоссе удалялись, потом и вовсе затихли. Среди заключенных в машине нарастало напряжение.
Скоро машина сбавила ход, покатилась по склону вниз, а через минуту застыла на месте. Раздалась команда, было слышно, как сзади спрыгивали наземь охранники с собаками – один, второй, третий. Вот целое отделение их пробежало с той стороны, где сидел Цодик. Взвизгнули замки, задний борт опрокинулся. «Слезайте по одному и быстро!».
Светало. Цодик протолкнулся к заднему борту и спрыгнул вниз, пристроился к своей группе. Вслед за ним спрыгивали другие, у Цодика было время оглядеться. Они оказались на краю неширокой ложбины, поросшей молодым сосняком и кустарником.
Кругом, метрах в пятидесяти, стоял лес – сосны вперемежку с елями, береза, ольха. В редких просветах виднелось поле с поднявшейся рожью. Если считать время в дороге, то это было не так уж далеко от Минска – от силы километров двадцать.
Возле каждой машины стояло наготове выстроенное подразделение охранников с собаками. Натренированные овчарки злобно рычали. Казалось, они были готовы разорвать в клочья этих сбившихся, жалких людей. Когда последние заключенные оказались на земле, всех выстроили в шеренгу по двое, Цодик оказался вторым номером, стоял в задней линии.
Двое охранников приволокли откуда-то куски проволоки. Последовала команда: «Руки назад, держать за спиной». Охранники ходили по рядам – один подавал проволоку, второй схватывал ею запястья рук и быстрым движением закручивал концы.
Вскоре донесся топот. От группы заключенных возле второй машины отделился высокий молодой парень и рванул в сторону леса, потом крики охраны: «Стой, сволочь! Куда?!». Лай спущенных собак, выстрелы – все одновременно. Не успев отбежать метров двадцать, парень споткнулся, качнулся из стороны в сторону и, раскинув руки, словно пытаясь удержаться за воздух, рухнул лицом вниз. Налетевшие псы вцепились в спину. Но беглецу было уже все равно. Он был мертв.
Все вышло так неожиданно, так просто и так жестоко, что заключенные стояли в глубоком потрясении. Обреченность, страх и бессилие прочно сковали их сознание.
«Так будет со всеми, кто попробует бежать!» – прокричал перед строем начальник охраны, заталкивая в кобуру пистолет. Он успел выстрелить по бегущей мишени. И, кажется, остался доволен своим выстрелом. «А чего этих сволочей, врагов народа, жалеть, сегодня была команда их всех истребить ночью, нечего с ними возиться. Немец на подступе к Минску, вот это страшно. А оставишь их в живых, перебегут к немцу».
Настал черед Цодика – от прикосновения холодной проволоки к рукам он вздрогнул. Три быстрых витка вокруг запястья и небрежно закрученные концы проволоки – вот и все. Цодик попытался пошевелить руками – проволока не давала, больно впилась в тело. Еще раз – как будто немного поддалась, но немного. И для чего все это? Все равно один конец.
Их выстроили на краю ложбины, все четыре группы заключенных стянули вместе, в одну шеренгу. Спереди и по бокам заняли свои позиции охранники с винтовками наперевес. Офицеры вытащили пистолеты. Все делалось молча в зловещей тишине утреннего рассвета. Надежд на лучший исход ни у кого из заключенных не осталось.
С первыми выстрелами Цодик упал на землю, но его не ранило, даже не зацепило. Сработал рефлекс самомосохранения, все произошло как-то само собой: выстрел, подкосились ноги, рухнул на землю. Пальба продолжалась, на землю падали новые тела. Еще выстрелы, еще… Потом все внезапно стихло. Только глухие стоны раненых, мольба о помощи врывались в эту тишину. Цодик услышал прозвучавшую команду, он узнал этот голос – командовал начальник охраны: «Проверить каждого, в живых никого не оставлять!».
Раздались торопливые шаги; они приближались, совсем уже рядом – Цодик сжался в пружину, оцепенел. Подбежавший охранник больно, со всего размаху ударил в бок Цодика – стиснув зубы, Цодик смолчал. Рядом в забытье простонал раненый – это его погубило и спасло Цодика, охранник сразу же переключился на несчастного, раздался один, потом второй выстрел в упор. Одиночные выстрелы звучали то здесь, то там.
Вскоре все стихло. Больше не было слышно ни стонов, ни выстрелов. И еще раз у самой головы Цодика прошуршали по густой траве чьи-то ноги – видно, начальник охраны со своими подручными проверял выполнение приказа. Потом прозвучала команда: «По машинам!» Завелись моторы, «караван смерти» тронулся в обратный путь. Цодик вслушивался в удаляющееся гудение машин.
Сколько времени он пролежал в забытьи – неизвестно. Очнулся, когда сквозь щели в груде мертвых человеческих тел пробивался дневной свет. Перед его глазами предстала ужасная картина. В ложбине, – сотни скрюченных, опрокинутых навзничь, распластанных тел. В перекошенных от боли лицах, посиневших губах, изуродованных агонией, в рыжих пятнах крови на траве застыла смерть.
Оглушенный увиденным, Цодик кинулся бежать со всех ног к лесу и потом еще долго, не разбирая дороги, пробирался напролом через кусты можжевельника, молодой ельник. Спотыкался, падал, подхватывался снова и снова бежал.
На полпути до шоссе справа виднелась деревня – хат сто, не больше. Цодик спросил у встреченной им старухи, как называется деревня. Старуха ответила, что это Тростенец.
Годы спустя Цодик вернулся в родную Беларусь под фамилией Добровольский и обосновался в Витебске. Тогда он узнал о трагедии Тростенца – проклятом месте, превращенном фашистами в концлагерь-душегубку. Но мало кто знет, что трагедия Тростенца началась раньше. Единственным свидетелем ее остался Цодик.
Можно привести еще ряд свидетельств, которые подтверждаю предвоенную правду о Тростенце. Были и случаи освобождения некоторых узников. Из рассказа бывшего учителя Ю. А. Соболевского следует, что он был арестован в Минске органами НКВД в первый день войны. 24 июня 1941 г. арестованных вывели из камер и на тюремном дворе построили в колонну, которая двинулась на Восток по Могилевскому шоссе. 25 июня на большой поляне в лесу колонну остановили и объявили, что сейчас состоится суд. Охранники разделились на несколько групп, стали вызывать арестованных и требовать от них ответов на вопросы. Сержант НКВД, узнав, что Соболевский – учитель, отпустил его. Было отпущено еще несколько человек из числа интеллигентов. Остальные разделили печальную участь заключенных, таких как Цодик.
Есть еще ряд документальных подтверждений Тростенецкого расстрела.
Немецкий журналист Пауль Коль в 2000 г. детально поведал о технологии массового уничтожения узников, которая, в принципе, нам известна. Он продемонстрировал советскую топографическую карту 1939 г., где территория урочища Благовщина была обозначена как закрытый охраняемый объект.
Есть предположение, что прямое отношение к «объекту» имеет НКВД. Требуется только доказательная база. И она есть. Как известно, на месте концлагеря в 1944 г. начала работать Государственная Чрезвычайная комиссия.
Первоначально вскрыли захоронения не там, где была яма-печь, не сам концлагерь, а слева от Могилевского шоссе в урочище Благовщина. Тогда-то и были опубликованы первые официальные данные о количестве погибших здесь людей. По версии членов комиссии, за полгода до освобождения фашисты выкапывали останки и сжигали их. По количеству пепла и был сделан вывод о числе захороненных в 34 рвах.
Но есть и другая часть заключения Чрезвычайной комиссии, о которой мало кто знает. Когда Комиссия начала работу, она вскрыла захоронения, часть из которых находились на территории нынешней свалки. Они-то и оказались предвоенными. Раскопки были немедленно прекращены и отнесены за 300–400 м. В дальнейшем вскрывали 34 рва-траншеи.
О справедливости этой версии свидетельствуют также немало гильз от советского оружия довоенного образца, обнаруженные в 1994–1995 гг. сотрудниками музея Великой Отечественной войны в Благовщине при съемках документального фильма «Тростенец».
Это подтвердила бывший ученый секретарь музея ВОВ А.Валькевич в 1994 г. «Как стало известно, в районе Тростенца погибло более 500 тысяч человек. Но давать гласность этим сведениям запретили члены ГЧК (Государственной Чрезвычайной Комиссии) из Москвы. Почему? Потому что, на взгляд, в это трудно было поверить… Можно было пригласить международных экспертов. Останки полумиллиона погибших не иголка в сене. И вот здесь рождается еще одна, небезосновательная мысль. А не входят ли в это число и жертвы НКВД 30-х гг.? Вспоминали же старые жители д. Большой Тростенец и Малый Тростенец стрельбу в лесу по ночам в довоенное время».
В 1957 г. на месте предвоенных расстрелов с санкции властей совершенно сознательно была устроена городская свалка, чтобы таким образом скрыть следы преступлений. Иначе никак нельзя объяснить появление здесь этого «маскирующего объекта». Это было сделано, как ни странно, после принятия в 1950 г. и в 1956 г. решений об увековечении памяти жертв фашизма.
Сегодня уже нельзя выяснить, сколько жертв сталинского террора покоится под городской свалкой и в урочище Благовщина.
До войны на месте, обозначенном на карте как охранная зона, не находились военные объекты. Ни одного документа, подтверждающего факт расстрелов в Куропатах или в других местах, исследователям в белорусских архивах найти не удается, а архив КГБ наглухо закрыт до сих пор. По всей видимости, не будет обнаружено документов и по Тростенцу, потому что они, по всей видимости, давно уничтожены.
Нельзя не согласиться с выводами известного исследователя тростенецкой трагедии Евгения Цумарова о том, что «сегодня небезосновательным следует считать и вероятные опасения руководства самого НКВД, что в случае «выхода» на Нюрнбергский процесс Тростенца, как захоронения большого количества граждан европейских стран, придется проводить эксгумацию с участием специалистов разных стран, а также возможные их перезахоронения на основе национальных традиций. А как же тогда отвести внимание дотошных иностранных специалистов от братских могил происхождения 1930-х гг. и июня 1941 г. Ведь они – здесь же…».
Совершенно очевидно, что в данном случае идет фильтрация информации. О жертвах фашизма писать можно, о жертвах сталинизма – «нежелательно». Требования восстановить истину во всем объеме трактуются как политическая игра. Замалчивание, сокрытие мест захоронений и число жертв политических репрессий – аморально. Постыдно, что кто-то имеет право на могилы и память, а кто-то все еще лишен его.