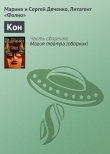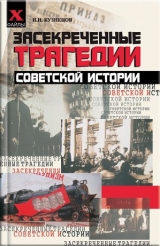
Текст книги "Засекреченные трагедии советской истории"
Автор книги: Игорь Кузнецов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Часть III. ЗАЛОЖНИКИ ВРЕМЕНИ
Мертвые живы, пока есть живые,
чтобы о них вспоминать
Э. Анрио
БРЕСТ: ГОД 1917-й
Завесой таинственности, недоговоренности окутаны многие моменты, связанные с драматическими событиями, предшествовавшими заключению Брестского мира. В летописи мирных переговоров никак не отмечен день 29 ноября (12 декабря) 1917 г. А между тем, именно в этот день, в разгар переговоров, оборвалась жизнь одного из его участников.
Речь идет о В. Е. Скалоне. В исторической литературе, даже в специальных солидных монографических исследованиях, какие-либо данные о Скалоне отсутствуют. Так кто же он и какова его роль в этих событиях?
Владимир Евстафьевич Скалон родился 28 ноября 1872 г., происходил из дворян Могилевской губернии. В 1887 г. был зачислен в Пажеский корпус, который закончил с отличием, за что был отмечен занесением имени на мраморную Доску почета. По выходе из корпуса был произведен в подпоручики прославленного гвардейского Семеновского полка.
В 1898 г. с отличием заканчивает Академию Генерального штаба. Первую мировую войну Скалон встретил в чине генерал-майора при Верховном Главнокомандующем. 8(21) ноября 1917 г. генерал Дитерихс, в будущем активный сподвижник адмирала Колчака, передал Скалону свою должность генерал-квартирмейстера при Верховном Главнокомандующем.
20 ноября в Брест-Литовске начались мирные переговоры. Уже в ходе переговоров, по предложению Ленина, в состав делегации было решено включить группу экспертов. По одному офицеру от Ставки, от всех фронтов, от Балтийского и Черноморского флотов. Скалон на этих переговорах представлял Ставку.
29 ноября (12 декабря) эксперты прибыли в Брест-Литовск. В этот же день Скалон застрелился.
Сохранились воспоминания о том, как это произошло. Одни из них принадлежат советскому военному деятелю, в прошлом сослуживцу Скалона, Александру Самойло и были опубликованы в 1958 г. Другие увидели свет намного раньше и принадлежали подполковнику Фокке, представителю Северного фронта и вышли в Берлине в 1930 г.
Оба автора свидетельствуют, что в 15 часов делегация собралась на частное совещание, в разгар которого Скалон вдруг неожиданно застрелился. По свидетельству Самойло, вынужденного заменить погибшего, это трагическое событие было совершенно определенным образом истолковано руководителем немецкой делегации генералом Гофманом, а, следовательно, и всеми немцами в Бресте.
Как сообщает мемуарист, Гофман при знакомстве с ним воскликнул: «А! Значит, вы назначены замещать бедного Скалона, которого уходили ваши большевики! Не вынес бедняга позора своей страны!».Для Самойло представляется необъяснимой «фантазия» Скалона – выбрать время, место и даже момент для того, чтобы покончить с «позором страны». Фокке также полагал, что решение покончить с собой было для генерала не заранее обдуманным, а внезапным.
Некоторые склонны были полагать, что одной из причин, которая может как-то объяснить трагедию, является письмо, полученное Скалоном в день смерти от какого-то «благодетеля» с сообщением о недостойном поведении жены генерала. Это очевидный навет. Скалон вступил в первый брак лишь за два года до этих событий с Анной Львовной Львовой. На руках молодой женщины в момент трагедии находилась годовалая дочь Надежда.
Ответ на вопрос дает предсмертное письмо Скалона своему товарищу, посланное им перед отъездом в Брест-Литовск. Истинная причина трагедии крылась, конечно же, в понимании, что все рушится, что страна находится на грани национальной катастрофы, предотвратить которую уже не было никакой возможности: фронт распался, армии нет, мир необходим любой ценой, чтобы «спасти революцию». И эта цена была уплачена, с чем не могли смириться очень многие. Протестовать не было никакой возможности, оставалось одно – уйти из жизни, что и сделал Скалон.
Следует отметить, что Советское правительство выразило соболезнование вдове Скалона и назначило пенсию его дочери.
Казалось бы, канва трагического события теперь очерчена достаточно четко и полно. И все-таки почти никаких подробностей, которые бы стали интересными не только поклонникам историко-просветительского чтения, но и историкам-профессионалам.
Они, эти подробности, содержатся в статье, опубликованной в парижской газете «Наше дело» (1939 г., 25 февраля).
САМОУБИЙСТВО ГЕНЕРАЛА СКАЛОНА
28 ноября (12 декабря) 1917 г., в Брест-Литовске, в полный разгар советско-германских переговоров о сепаратном мире, застрелился член военной консультации при советской делегации ген. В. Скалон. Большевики постарались заглушить этот трагический выстрел, прозвучавший кровавым осуждением их измены.
«Наше дело» имеет возможность опубликовать неизвестный документ: письмо, которое ген. Скалон оставил, уезжая из Петрограда в Брест-Литовск, откуда вернулся только его бездыханный труп.
Чтобы читатели «Нашего дела» могли лучше понять всю душевную трагедию русского офицера, предпочитавшего смерть измене, газета опубликовала рассказ его товарища по делегации подполковника Фокке. Воспроизведем его фрагменты.
Оставив в Красном Питере балласт в виде рабочего, крестьянина, солдата и матроса, которые были одинаково неспособны разбираться в военных вопросах, как офицеры-консультанты, и произносить программные политические речи, как главари Смольного, делегация выехала в Брест.
Знакомым путем через германские окопы по узкоколейке нас доставили на станцию Беркгоф, а вечером мы выехали в Брест, куда и прибыли 29 ноября (12 декабря) в 13 часов.
В 15 часов делегация собралась на частное совещание, в котором были оставлены в стороне важнейшие вопросы договора, и велось обсуждение частного вопроса о пунктах, в которых соберутся демаркационные комиссии. Сравнивали расстояния до них, говорили об удобствах путей сообщения с фронтом от обоих намеченных городов, и по ходу прений явилась необходимость в карте.
Карты ни у кого не было.
– У меня в вещах найдется карта. Сейчас принесу.
Спокойно заявив это, ген. Скалон оставил нас в комнате совещания и прошел в отведенную ему в том же здании личную комнату. Прошло около четверти часа, во всяком случае, не больше двадцати минут, как вдруг в комнату совещания русской делегации без всякого предупреждения вбежал лейтенант Мюллер, крайне взволнованный и побледневший, и громко крикнул по-русски:
– Господа, генерал застрелился! Тут же был вызван штабной врач.
– Рана смертельна. Нет никакой надежды. Через несколько минут ген. Скалон скончался.
Выстрел был сделан из револьвера «смит-вессон» крупного калибра и в самоубийстве нельзя было сомневаться, так как крепко зажатый в правой руке револьвер не мог быть вложен никем, кроме самого генерала. Судя по положению тела перед умывальником, покойный стрелялся перед зеркалом. Выстрел был направлен точно в правый висок, пуля пробила череп, широким отверстием вышла навылет из левого виска, ударилась в стену и рикошетировала на пол. После коротких поисков мы нашли ее на ковре».
На столе лежала оставленная генералом Скалоном записка, написанная на обрывке бумаги: «Могилев. Анне Львовне Скалон. Прощай, дорогая, ненаглядная Анюта, не суди меня, прости, я больше жить не могу, благословляю тебя и Надюшу. Твой до гроба Володя».
«Немцы стали проявлять рыцарство. Тело генерала Скалона было убрано, возле него был поставлен почетный караул, а после положения в гроб тело перенесли в крепостной православный собор. Из безлюдного Бреста в Белосток была направлена телеграмма, по которой экстренным поездом были доставлены в ставку принца Леопольда Баварского православный священник, диакон и церковный хор. Назначенное на 17 часов совместное заседание конференции было отменено. Мне представляется, что решение покончить с собой было для генерала не заранее обдуманным, внезапным… Подавленным было настроение у нас, русских офицеров, среди которых генерал Скалон был старшим. Я ему завидую! Так говорили некоторые, и возражения, на зависть мертвому, не находилось. Кроме издерганных нервов, было слишком много такого, что заставляло видеть беспощадную логичность в этом самоубийстве. Слишком безжалостно подрубила корни привычной жизни Великая Российская Революция… А эта жизнь готовит каждому из нас множество испытаний, горечи и обид, смешивая понятие о воинском долге с большевистской грязью и предательством красной политики».
На следующее утро после смерти ген. Скалона, утром, в 9 часов 30 ноября (13 декабря) состоялось первое совместное заседание, которое генерал Гофман открыл вступительным словом, выразив глубокое соболезнование по поводу этого печального события.
Гроб с телом генерала Скалона был установлен в крепостной церкви. Явился почти весь состав германского штаба. Штаб и все пять договаривающихся о перемирии сторон возложили на гроб покойного венки.
Оркестр грянул «Реквием». Трагически торжественны медные звуки, чуждые русским церковным стенам. Этими мрачными аккордами военная Германия провожала русского генерала за день до прекращения войны.
Нужно было встретить смерть на вражеской территории, чтобы от врагов получить последние воинские почести. А там, в России, там в этом уже было отказано.
Гроб вынесли на руках члены русской делегации. На площади близ гарнизонной церкви был приготовлен катафалк – грузовик, убранный траурными флагами и зеленью. Принц Леопольд Баварский произнес несколько сочувственных слов, а отряд германских ландштурмистов дал ряд салютных залпов.
На вокзале – снова краткая лития у гроба, поставленного в траурный вагон, убранный черными, русскими трехцветными и германскими флагами. Без речей, без слов проводили вагон, застучавший по шпалам по направлению к фронту, до которого его провожали германские солдаты.
Посмертное письмо ген. СкалонаПеред тем, как покинуть Петроград, чтобы отправиться в Брест-Литовск в качестве военного консультанта при советской делегации, ген. Скалон пережил тяжкие минуты раздумий и колебаний, которые отразились в письме, адресованном им одному из своих товарищей по оружию.
Это письмо до недавнего времени оставалось неизвестным. Оно было опубликовано впервые в «Нашем деле» в 1939 г. Вот его текст:
«Петроград, 27.XI.1917 г.
Мой дорогой Н. Н.!
Не удивляйся, что я пишу Вам, а не кому-нибудь из людей более близких. В теперешний момент «дружба» стала вещью более серьезной, чем та, которую мы знали в окопах или кавалерийских атаках… Вот что я хочу сказать Вам – очень коротко и, выражая Вам заранее свою благодарность, если Вы захотите сберечь это письмо. Это искреннее объяснение со стороны человека, который готовит совершить «прыжок в неизвестность». Троцкий только что предложил мне, в Смольном, отправиться в Брест консультантом при большевистской делегации, чтобы давать «советы» во время переговоров о перемирии, а затем и о мире. Поручение это глубоко мне противно. Я знаю, что речь идет просто об отвратительной комедии. «Перемирие» уже заключено: наши солдаты просто-напросто уходят с фронта, убивая собственных офицеров и грабя, и продают свои ружья и даже пушки немцам за бутылку рома или коробку сигар. Мир, он тоже будет продиктован немцами, то есть немцы диктуют, а большевики только исполняют задание… Я был осведомлен об этом по данным нашей разведки и разведок французской и английской. Таким образом, я знаю, куда я иду и с кем я иду. Но я задаю себе вопрос: если я откажусь, тот, кто заменит меня, будет ли он, по крайней мере, иметь достаточно мужества, чтобы не прикрыть измену подписью русского офицера? У меня этого мужества найдется. Даю Вам слово, что это так. С другой стороны, в Смольном, по-видимому, не все и не совсем единодушны. После моего разговора с Троцким, у меня создалось впечатление, что он хотел бы «надуть» немцев, «тянуть» и попытаться не «подписать». Но Ленин и его присные – Зиновьев, Подвойский, Сталин, Крыленко и прочие, за мир во что бы то ни стало, чтобы избежать риска быть выгнанными самими же немцами оттуда, куда их немцы посадили. Я даже задаю себе вопрос: почему это Ленин поручил переговоры Троцкому? Но впрочем, все это сейчас уже сравнительно лишь очень маловажно… Существенно то, что я еду в Брест. Бог знает, возвращусь ли я. Не судите меня слишком строго. Уверяю Вас, что я еду туда лишь потому, что хочу еще, если это еще возможно, послужить России.
Ваш В. Скалон»
РЫЦАРЬ СЧАСТЬЯ
Имя поэта Николая Гумилева с давних пор овеяно легендой, воспринимаемой особенно остро в связи с многолетним «вето», наложенным на его произведения и на саму память о нем. Лишь только в 1986 г. был, наконец, снят этот запрет.
Так своеобразно было отмечено столетие со дня рождения одного из видных славянских поэтов. Хотя уже выпущено несколько его сборников, но, ввиду ограниченности их тиражей, стихи и проза Николая Гумилева все еще остаются практически недоступными широкому читателю. Да и сведения о нем все еще обрывочны и скудны, особенно об обстоятельствах гибели поэта. Поэтому для многих образ Николая Гумилева по-прежнему окутан дымкой загадочности.
Николай Степанович Гумилев родился 3(15) апреля 1886 г. в Кронштадте, в семье военного флотского врача – потомственного дворянина Рязанской губернии. Появление на свет будущего знаменитого поэта примечательно двумя обстоятельствами. Родился он в неспокойную весеннюю ночь, в связи, с чем старая нянька предсказала: «У Колечки будет бурная жизнь». После рождения первенца, Дмитрия, Анна Ивановна Гумилева мечтала о девочке. Даже приданое для малютки приготовила в розовых тонах. Но ее мечте не суждено было сбыться – родился вновь мальчик, которого назвали Николаем.
Рос он тихим, задумчивым, скрытным ребенком, упорно избегавшим общества сверстников. Рано проникся религиозным чувством, до конца своих дней оставшись верующим человеком.
Детские годы поэта прошли главным образом в Царском Селе. Лишь некоторое время семья пробыла в Тифлисе, да летом выезжала в имение «Березки» Рязанской губернии, купленное Степаном Яковлевичем Гумилевым с тем, чтобы дети в каникулярное время могли вдоволь насладиться природой, набирая сил и здоровья.
Учился Николай неважно, имея пятерки лишь по русскому языку. В седьмом классе пробыл два года. Неоднократно менял гимназии. Последней была Царскосельская классическая гимназия, которой руководил известный поэт Иннокентий Федорович Аннеский. Тот вскоре заметил литературное дарование Гумилева и очень помог ему на ранней стадии становления как поэта.
В 1909 г. впервые увидела Николая Степановича его будущая невестка – жена старшего брата Дмитрия, Анна Андреевна Гумилева, впоследствии написавшая подробные воспоминания о жизненном и творческом пути поэта.
«Вышел ко мне молодой человек 22-х лет, – вспоминает А. А. Гумилева, – высокий, худощавый, очень гибкий, приветливый, с крупными чертами лица, с большими светло-синими, немного косившими глазами, с продолговатым овалом лица, с красивыми шатеновыми гладко причесанными волосами, с чуть-чуть иронической улыбкой, необыкновенно тонкими красивыми белыми руками. Походка у него была мягкая, и корпус он держал чуть согнувши вперед. Одет он был элегантно».
На формировании Гумилева, как личности и как поэта, благотворно сказались годы детства и юности. Уже сами места проживания – Кронштадт, Царское Село – были овеяны романтикой и поэзией. Правда, это была уже завершающая пора поэтической славы Царского Села. Недаром своего гимназического наставника Иннокентия Анненского Гумилев назовет позднее «последним из царскосельских лебедей».
Рассказы отца, корабельного врача, о морских походах и, связанных с этим всякого рода происшествиях, не могли не сказаться на романтических устремлениях юного поэта, мечтавшего о дальних странах.
Добрая, чуткая, начитанная мать, дав сыну хорошее воспитание, привив ему присущую ей самой уравновешенность, жизнелюбивость, умение сохранять достоинство в любых ситуациях, приобщила его к литературе и истории. Гумилев с восьмилетнего возраста стал писать рассказы и стихи.
Гимназическое обучение Гумилев закончил довольно поздно – в 20-ти летнем возрасте. И в том же 1906 г. уехал в Париж продолжать образование. Но и вузовская учеба не была удачной: недолгий курс лекций в Сорбонне, затем – в Петербургском университете. Сначала – на юридическом факультете, затем – на историко-филологическом.
В это время Гумилева все активнее увлекает литературная деятельность. В Париже он издает журнал «Сириус», в котором активно сотрудничает его будущая жена Анна Горенко, позже прославившая русскую поэзию под именем Анны Ахматовой. Правда, удалось выпустить лишь три тоненьких номера журнала.
Парижский период отмечен еще несколькими обстоятельствами. Здесь в 1908 г. была издана вторая книга стихов Гумилева – «Романтические цветы». Это была уже более зрелая, но все же пока еще ученическая книга. Но в Гумилеве окрепла уверенность в своем даровании. Он почувствовал себя пусть и начинающим, но мэтром.
Еще одним странным и малообъяснимым событием отмечено пребывание Гумилева в Париже – он пытался покончить жизнь самоубийством. Особенно показательно в этом отношении поведение Гумилева на дуэли с его бывшим другом, тоже известным поэтом Максимилианом Волошиным – спустя всего год после попытки самоубийства.
Ссора произошла из-за ложного обвинения Николая Степановича, которое он из гордости не стал отрицать, и последовавшего затем оскорбительного выпада М. Волошина, поддавшегося мистификации. В многолюдной художественной мастерской Мариинского театра, в присутствии ряда знаменитостей, среди которых были Ф. И. Шаляпин, А. А. Блок, А. Н. Толстой, И. Ф. Анненский, Волошин подошел к Гумилеву и дал ему пощечину, и тот вызвал его на дуэль.
Дуэль состоялась возле печально знаменитой Черной речки. Уже первое желание Гумилева – стреляться в пяти шагах до смерти одного из противников было невероятно рискованным. С большим трудом секундантам удалось уговорить его стреляться на пятнадцати шагах. И когда после промаха Гумилева (не попал или не хотел попасть?), у Волошина случилась осечка, Гумилев настоял на втором выстреле противника. И после новой осечки Волошина потребовал третьего выстрела. Лишь отказ секундантов, возможно, спас поэта от рокового исхода.
Особенно проявился характер Гумилева в период мировой войны. В первый же месяц начала боевых действий он добровольцем поступает в уланский полк (хотя прежде по состоянию здоровья был освобожден от службы даже в мирное время!), избрав одну из самых рискованных воинских профессий – конного разведчика.
Принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Беларуси. И, наверное, не было ни одного опасного поиска, в который он бы не вызвался пойти. За личное мужество и боевое отличие Гумилева вскоре награждают сначала одним, а спустя некоторое время – вторым Георгиевским крестом.
Неуемная натура Гумилева сказывалась во всем: в творчестве, в личной жизни, во взаимоотношениях с друзьями и знакомыми. И во все он стремился привнести что-то новое, необычное, увлекаясь сам и увлекая окружающих. А в трудные, порой опасные минуты, когда требовалось проявить выдержку и мужество, Гумилев, сохраняя самообладание, помогал и другим не поддаться отчаянию и выстоять.
«В Гумилеве жил редкий дар восторга и пафоса, – писал Немирович-Данченко. – Он не только читателя, но и слушателя в длинные и скучные сумерки петербургской зимы уносил в головокружительную высь чарующей сказки».
Многие отмечают необычайно уютную, радушную атмосферу, в которой жили Гумилевы в предвоенные годы. Душой большой семьи была мать поэта – Анна Ивановна. Вместе с ней жили Николай Степанович с женой Анной Андреевной (Ахматовой) и маленьким сыном Львом, старший брат Дмитрий с женой, падчерица с сыном.
Дом охотно посещали и известные литераторы (Блок, Городецкий, Анненский, Вяч, Иванов), и молодые поэты, и просто знакомые. Хозяева были рады гостям. Нередко по инициативе Николая Степановича устраивались литературные вечера.
Однако неугомонность Гумилева не дает ему покоя. Он едет сначала в Италию, затем, дважды, в Африку, где забирается в самые труднодоступные места, охотится вместе с туземцами на слонов, на леопардов. А в одну поездку берет с собой семнадцатилетнего племянника, чем доставляет много волнений близким.
Некоторым знакомым вступление Гумилева в армию и поведение его на фронте казалось ребячеством, своего рода игрой, которая была присуща ему во всем. Отсюда, дескать, та легкость, с какой он переносит испытания, опасность быть раненным или убитым.
Но это только внешне выглядело непринужденно, даже иногда по-ребячески шаловливо. Вот, например, отрывок из фронтового письма Гумилева: «Мы на новом фронте. Были в резерве, но дня четыре тому назад перед нами потеснили армейскую дивизию, и мы пошли поправлять дело. Вчера с этим покончили, кое-где выбили неприятеля и теперь опять отошли валяться на сене и есть вишни…».
И в самом деле, как вроде бы просто. Если не вдуматься в эти только с виду незатейливые выражения: «пошли поправлять дело», «вчера с этим покончили», «кое-где выбили неприятеля». И при этом еще вспоминать, что Гумилев в атаках непременно шел впереди.
Послевоенный период творчества Гумилева, вплоть до гибели, специалисты единодушно характеризуют как время наивысшего расцвета его литературного таланта.
Вслед за «Колчаном» выходят сборники «Костер», «Шатер», подготовлен сборник «Огненный столп», выпуск которого совпал с гибелью поэта. Гумилев в эти годы, поправив и дополнив, переиздает ранние книги своих стихов «Романтические цветы» и «Жемчуга», много публикуется в периодической печати, работает в издательстве «Всемирная литература», читает лекции, руководит воссозданным «Цехом поэтов», переводческой студией, занимается с молодыми поэтами из студии «Звучащая раковина». В феврале 1921 г. его избирают руководителем Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов.
Надо сказать, что в послевоенное время произошли серьезные изменения в его личной жизни. В 1918 г. Гумилев развелся с Анной Андреевной Ахматовой и через год женился на Анне Николаевне Энгельгард, дочери литератора. От этого брака в 1920 г. родилась дочь Елена.
3 августа 1921 г. Гумилев был арестован сотрудниками ЧК, а 25 августа (по мнению некоторых мемуаристов – 29 августа) расстрелян. Точная дата смерти неизвестна, но по постановлению Петроградской Губчека о расстреле 61 человека за участие в так называемом «Таганцевском заговоре» датировано 24 августа 1921 г. По словам А. А. Ахматовой, записанным Л. К. Чуковской, казнь произошла близ Бернгардовки под Петроградом.
1 сентября 1921 г. в газете «Петроградская правда» был опубликован поименный перечень расстрелянных с указанием вины каждого. Тридцатым в списке значился: «Гумилев Николай Степанович, 33 года (на самом деле ему было в то время 35 лет), бывший дворянин, филолог, поэт, член коллегии «Издательства Всемирной литературы», беспартийный, бывший офицер. Участник Петроградской боевой организации, активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности».
С тех пор много сказано и написано о том, был ли Гумилев на самом деле заговорщиком. Да и был ли вообще какой-либо заговор?
Вся вина Гумилева сводится к тому, что он не донес о существовании контрреволюционной организации, в которую не вступил. Таким образом, как следует из материала пересмотра дела, «Гумилев не может признаваться виновным в преступлении, которое не было подтверждено материалами того уголовного дела, по которому он был осужден».
Существует версия, что Г. Зиновьев сыграл роковую роль в судьбе Гумилева, даже вопреки защитительному воздействию Ленина, к которому с ходатайством о помиловании Гумилева обратился А. М. Горький.
Зададимся вопросом: нуждается ли Гумилев в том, чтобы ему возвращали «честное» имя?
А теперь взглянем с той же меркой на тех, с кем вместе принял смерть поэт в тот трагический день августа 1921 г.
Список расстрелянных возглавил молодой профессор-географ В. Н. Таганцев. Среди казненных 16 женщин в возрасте от двадцати до шестидесяти лет (две сестры милосердия, две студентки, четыре проходили как сообщницы в делах мужей), группа моряков, бывших офицеров, интеллигентов как, например, профессор-юрист, проректор Петроградского университета И. М. Лазаревский; крупный химик-технолог, сделавший значительное открытие, имевший заслуги перед русским революционным движением (входил в группу «Освобождение труда»), профессор М. М. Тихвинский – друг академика В. И. Вернадского, который пытался защитить ученого в высоких инстанциях, но тщетно.
Несколько слов о последних днях жизни Гумилева. Когда Николая Степановича арестовали ночью 3-го августа, поэт взял с собой в камеру самое необходимое и дорогое: «Одиссею» и Библию. С Гомером в походном ранце он отстаивал интересы Родины на германском фронте, с ним же принял смерть от соотечественников.
А вот текст последней записки из тюрьмы, адресованной жене: «Не беспокойся обо мне, я чувствую себя хорошо; читаю Гомера и пишу стихи».Как всегда спокойный, мужественный тон. И даже в камере Гумилев представлялся мысленному взору друзей все таким же жизнелюбивым, не теряющим самообладания, устремленным в будущее.
В одном из предсмертных своих стихотворений поэт провозгласил себя «Рыцарем счастья»:
Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать волен.
А если все-таки он не поймет,
Мою прекрасную не примет веру
И будет жаловаться в свой черед
На мировую скорбь, на боль – к барьеру!
«Рыцарем счастья», открытым добру и красоте и умеющим постоять за них, Поэтом-Гражданином навсегда вошел в славянскую и мировую литературу Николай Степанович Гумилев.