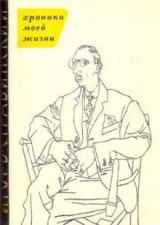
Текст книги "Хроника моей жизни"
Автор книги: Игорь Стравинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Дягилев уехал в Рим, где должен был начаться сезон «Русских балетов», и просил меня приехать к нему продирижировать Жар-пти-цей и Фейерверком у для которого он заказал итальянскому футуристу Балла особый род иллюстративной декорации со световыми эффектами. Я приехал в Рим в марте[26][26]
Стравинский приехал в Рим в марте 1917 г Здесь он впервые познакомился с Пабло Пикассо, с которым у него установились дружеские отношения на всю жизнь. К 1917 г. относится один из трех известных рисуночных портретов Стравинского, исполненный Пикассо.
[Закрыть]. На квартире, снятой Дягилевым, я застал целую компанию, собравшуюся вокруг богато накрытого стола. Тут были Ансерме, Бакст, Пикассо, с которым я тогда познакомился, Кокто, Балла, лорд Бернере, Мясин и многие другие. Сезон открывался в «Театро Костанци» парадным спектаклем в пользу Итальянского Красного Креста. В России только что совершилась Февральская революция. Царь отрекся от престола, и во главе страны стояло Временное правительство. Обычно перед русским парадным спектаклем исполняли русский национальный гимн, но теперь было более чем неуместно петь «Боже, царя храни». Надо было найти выход из положения. Дягилеву пришло в голову открыть спектакль русской народной песней. Он выбрал знаменитую Песню волжских бурлаков («Эй, ухнем»)[27][27]
Вряд ли Дягилев не знал о существовании обработки этой песни для хора и оркестра, сделанной Глазуновым в 1905 г., но, не имея партитуры и недолюбливая автора аранжировки, решился в конце концов перед самым началом концертов упросить Стравинского сделать новую инструментовку песни. О необходимости нового национального гимна России писал в февральском номере «Музыкального современника» и А.Н. Римский-Корсаков (см. «Музыкальный современник», 1917, кн. 4).
[Закрыть]. Ее должен был исполнять оркестр, а инструментовки не существовало. Дягилев умолял меня срочно этим заняться. Мне пришлось взяться за работу, и накануне торжественного спектакля я просидел всю ночь напролет у рояля на квартире Бернерса, инструментуя эту песню для духового оркестра. Я диктовал Ансерме партитуру аккорд за аккордом, интервал за интервалом, а он записывал ее.
Оркестровые партии были быстро расписаны, так что уже утром на репетиции вечерней программы я смог услыхать свою инструментовку под управлением Ансерме. Вечером состоялся торжественный спектакль, который начали итальянским национальным гимном и «Эй, ухнем», заменившей русский гимн. Я дирижировал Жар-птицей и Фейерверком, поставленным в световых декорациях Балла, о которых я уже говорил[28][28]
Концерт в «Театро Костанци», на котором исполнялся Фейерверк в световом оформлении итальянского художника-футуриста Джакомо Балла, состоялся
12 апреля 1917 г. По словам C.J1. Григорьева, оформление это «состояло из различных геометрических фигур
– всевозможных кубов и конусов, сделанных из прозрачного материала; эти фигуры освещались изнутри в соответствии с очень сложным замыслом, который принадлежал Дягилеву, он же сам его выполнял. Эта кубистская фантазия как способ интерпретации музыки пришлась по вкусу его друзьям, отличавшимся крайне авангардистскими взглядами» (Григорьев, с. 105–106). Через много лет Стравинский в разговоре с Крафтом не мог толком описать это оформление, однако помнил, что публика отнеслась к нему с холодным недоумением (см. Диалоги, с. 75).
[Закрыть].
Вспоминается мне также большой прием, устроенный Дягилевым в залах Гранд-отеля, где была выставлена большая коллекция кубистских и футуристических картин, принадлежавших кисти друзей и сотрудников Дягилева. На этом приеме я дирижировал фрагментами из Петрушки.
Из Рима мы поехали в Неаполь – Дягилев, Пикассо, Мясин и я. Ансерме уехал раньше, чтобы подготовить спектакли, которые Дягилев должен был там ставить.
Вместо солнца и лазури, которые я надеялся увидеть в Неаполе, меня встретило свинцовое небо и на вершине Везувия – маленькое, неподвижное, внушавшее тревогу облачко. Тем не менее у меня осталось приятное воспоминание о двух неделях, проведенных в этом наполовину испанском, наполовину восточном (Малая Азия) городе. Труппа задержалась там, чтобы прорепетировать второй балет Мясина «Les femmes de bonne humeur» [ «Женщины в хорошем настроении»] на музыку Скарлатти, инструментованную Томма-зини. Подходящее помещение мы нашли. На эти репетиции приехал Бакст, создатель деко-раций и костюмов. Восхитительная пьеса Гольдони получила превосходную иллюстрацию в танцах, созданных Мясиным, который с первого же раза показал себя очень талантливым балетмейстером.
Свободное время я использовал для осмотра города, большей частью в обществе Пикассо. Нас особенно привлекал знаменитый «Аквариум». Мы оставались там часами. Увлекаясь старыми неаполитанскими гуашами, мы во время наших частых прогулок совершали настоящие налеты на все антикварные лав* чонки и на старьевщиков.
Из Неаполя я вернулся в Рим и провел чудесную неделю у лорда Бернерса. После этого надо было возвращаться в Швейцарию, и я никогда не забуду приключения, которое случилось со мной на границе в Кьяссо. Я вез с собою свой портрет, незадолго до того нарисованный Пикассо. Когда военные власти стали осматривать мой багаж, они наткнулись на этот рисунок и ни за что не хотели его пропустить. Меня спросили, что это такое, и когда я сказал, что это мой портрет, нарисованный одним очень известным художником, мне не поверили: «Это не портрет, а план», – сказали они. «Да это план моего лица, а не чего-либо другого», – уверял я. Однако убедить этих господ мне так и не удалось. Все эти пререкания отняли много времени, я опоздал на свой поезд, и мне пришлось остаться в Кьяссо до следующего утра. Что же касается моего портрета, то пришлось отослать его в Британское посольство в Риме на имя лорда Бер-нерса, который впоследствии переправил мне его в Париж дипломатической почтой[29][29]
Этот курьезный эпизод связан с известным портретом Стравинского en face (рисунок Пикассо, сделанный в 1917 г в Риме).
[Закрыть].
Увы! Я не предвидел того жестокого удара, который ожидал меня по возвращении домой и глубоко меня потряс. С нами жила старушка, друг нашей семьи, поселившаяся у нас в доме еще до моего рождения. Она воспитывала меня с малых лет, я был к ней очень привязан и любил, как вторую мать. Еще в начале войны я выписал ее к себе в Морж. И вот как-то раз, вскоре после моего возвращения в Швейцарию, я завтракал у Рамю в Лозанне. Потом мы поехали с ним вместе ко мне, и вдруг я вижу у нас в саду какого-то незнакомца в сюртуке и цилиндре. Удивленный, я спросил, что ему надо. «Говорят, у вас в доме покойник», – ответил он. Вот каким образом я узнал о несчастье, которое на меня обрушилось. Разрыв аневризмы унес в несколько часов мою бедную старую Берту[30][30]
Речь идет о Берте Самойловне Эссерт, большую часть своей жизни проведшей в семье Стравинских и нянчившей как самого Игоря Федоровича и его братьев, так и его детей.
[Закрыть]. Не успели даже дать мне знать в Лозанну.
Прошло несколько печальных недель, прежде чем я смог снова приняться за работу. Перемена места и обстановки помогли мне прийти в себя, мы уехали на лето в горы, в Дьяблере. Но не успел я приняться за работу, как на меня обрушилось новое горе. Телеграмма из России известила меня, что мой брат, находившийся на румынском фронте, погиб от сыпного тифа[31][31]
Имеется в виду младший брат Стравинского Гурий Федорович.
[Закрыть]. Я давно не виделся с ним, он жил в России, я – за границей. Но, несмотря на то, что наши жизненные пути так разошлись, я по-прежнему был очень к нему привязан, и смерть его была для меня большой потерей.
По счастью, в эти тяжелые для меня дни кое-кто из моих друзей – Рамю, Бернере, Дягилев, Ансерме – часто меня навещали, и это отвлекало меня от грустных мыслей. В течение лета я продолжал работать над последней картиной Свадебки и подготовил пьесу для пианолы. Вероятно, чтобы не отстать от моих предшественников, которые, возвращаясь из Испании, закрепляли свои впечатления произведениями, посвященными испанской музыке – больше всего это относится к Глинке с его несравненными «Арагонской хотой» и «Ночью в Мадриде», – я доставил себе удовольствие и отдал дань этой традиции. Пьеса моя была навеяна теми забавными и необычными сочетаниями мелодий, которые исполнялись на механических фортепиано и музыкальных автоматах и звучали на улицах Мадрида и в его маленьких ночных тавернах. Написана она была специально для пианолы и выпущена в свет только в виде ролика фирмой «Эолиан» в Лондоне. Позже я инструментовал эту вещь, получившую название Мад-pud: она составляет часть моих Четырех этюдов для оркестра, из которых три – это инструментованные мною пьесы, написанные для квартета в 1914 году.
V
Этот период, конец 1917 года, был одним из самых тяжелых в моей жизни. Глубоко удрученный постигшими меня одна за другой потерями, я, кроме того, находился в чрезвычайно тяжелом материальном положении. Коммунистическая революция восторжествовала в России, и я был лишен последних средств к существованию, которые еще приходили время от времени оттуда. Я остался попросту ни с чем, на чужбине, в самый разгар войны.
Надо было во что бы то ни стало обеспечить семье сносное существование. Единственным моим утешением было сознание, что не мне одному приходится страдать от обстоятельств. На долю моих друзей – Рамю, Ансерме и многих других – точно так же выпали тяжелые испытания. Мы часто собирались все вместе и лихорадочно искали выхода из этого тревожного положения. Тут нам пришла мысль, Рамю и мне, создать с возможно меньшей затратой средств род маленького передвижного театра, который можно было бы легко перевозить с места на место и показывать даже в совсем маленьких городках. Но для этого необходим был основной капитал, а его-то у нас и не было. Мы посовещались с Ансерме, который должен был возглавить оркестр этого безумного предприятия, и с Обер-жонуа, которому предстояло создавать декорации и костюмы. Мы тщательно разрабатывали все детали нашего проекта, вплоть до маршрута турне, и все это при пустых карманах. Потом мы стали искать мецената или группу людей, которые могли бы заинтересоваться нашим делом. Увы, это была не легкая задача. Каждый раз мы наталкивались на отказы, не всегда вежливые, но всегда категорические. В конце концов нам исключительно посчастливилось: мы встретили человека, который не только обещал собрать необходимую сумму, но принял близко к сердцу нашу затею и выказал нам горячее и ободряющее сочувствие. Это был г-н Вернер Рейнхарт из Винтертура, человек высококультурный и к тому же всегда готовый, так же как и его братья, оказать поддержку искусству и артистам[1][1]
Вернер Рейнхарт субсидировал постановку Сказки о Солдате, партитура которой ему посвящена. Специально для него Стравинский сочинил Три пьесы для кларнета соло, также посвященые ему. Композитор с благодарностью упоминает и братьев Рейнхарта, Известно, в частности, что один из них, Ганс Рейнхарт, перевел на немецкий либретто Сказки о Солдате для издания в Германии.
[Закрыть].
Окрыленные этим покровительством, мы принялись за работу. Сюжет нашей пьесы был почерпнут мною из русских сказок знаменитого сборника Афанасьева, которым я очень увлекался в то время. Я познакомил с ними Рамю; он очень тонко чувствовал русскую народную музу и увлекся этими сказками так же, как и я. Для нашего представления мы выбрали цикл сказок о приключениях солда-та-дезертира и черта, которому благодаря всяким ухищрениям удается похитить у него душу[2][2]
В собрании А.Н. Афанасьева есть несколько сказок, в которых действуют Солдат и Черт. Заимствуя отдельные мотивы и образы из разных сказок, авторы будущего представления опирались в основном на сюжет сказки «Беглый Солдат и Черт» (см.: Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. М., 1897. Т. 2. С. 209–210). Окончательный французский текст принадлежал Рамю и был озаглавлен «L’Histoire d’un Soldat». Это название – в переводе с французского «История Солдата» – закрепилось во всех зарубежных изданиях партитуры и музыковедческих работах, его использовал и сам композитор. Подлинное русское название этого произведения – Сказка о беглом Солдате и Черте, читаемая, играемая и танцуемая.
[Закрыть]. Этот цикл был написан по народным сказаниям, сложившимся в жестокое время насильственного рекрутского набора в царствование Николая I, в эпоху, создавшую также большое количество так называемых рекрутских песен, в которых вылились слезы й причитания женщин, разлучаемых с сыновьями или женихами.
Хотя эти сказки носят специфически русский характер в том, что касается обстановки, однако все положения, все чувства, которые в них выражены, вся мораль настолько общечеловечны по своей природе, что могут относиться к любой нации. В трагической истории солдата, который роковым образом становится добычей черта, меня и Рамю особенно пленила эта глубокая ее человечность.
Мы впряглись в нашу работу с большим увлечением, но нам все время приходилось помнить о том, что наши постановочные средства весьма скудны. Поэтому я отнюдь не обольщался относительно музыкального оформления, зная» что мне придется довольствоваться очень ограниченным количеством испол* нителей. Самое простое было бы взять полифонический инструмент вроде рояля или фисгармонии, Но о фисгармонии нечего было и думать, главным образом из-за бедности ее динамики, вызванной полным отсутствием ударного начала. Что же касается рояля, полифонического инструмента бесконечно более разнообразного и обладающего большими возможностями именно динамического порядка, то мне приходилось его остерегаться по двум причинам: либо моя партитура приобрела бы тогда вид переложения для рояля, что могли истолковать как признак недостатка средств, чего мы отнюдь не хотели; либо пришлось бы использовать рояль как солирующий инструмент, выявляя все его технические возможности, иначе говоря, тщательно подчеркивая «пианизм» партитуры и придавая ей виртуозный характер, чтобы оправдать свой выбор. Итак, я не видел другого выхода, кроме как остановиться на таком составе, который включал бы в себя наиболее характерные типы различных видов инструментов высокого и низкого регистра. Из струнных – скрипка и контрабас; из деревянных – кларнет (его диапазон наиболее широк) и фагот; из медных – труба и тромбон и, наконец, ударные, с которыми управляется один музыкант; все же вместе, разумеется, под управлением дирижера. Меня привлекало здесь и другое, а именно тот интерес, который представляет собою для зрителя возможность видеть оркестрантов, из которых каждый, соответственно, выполняет свою особую роль. Я всегда терпеть не мог слушать музыку с закрытыми глазами, без активного участия зрения. Зрительное восприятие жеста и всех движений тела, из которых возникает музыка, совершенно необходимо, чтобы охватить эту музыку во всей полноте. Дело в том, что всякая созданная или сочиненная музыка Требует определенного способа внешнего выражения, для того чтобы слушатель мог ее воспринять. Иначе говоря, музыка нуждается в посреднике, в исполнителе. А если это является неизбежным условием, без которого музыка не может до нас дойти, зачем же отказываться от него и его игнорировать, зачем закрывать глаза на факт, который лежит в самой природе музыкального искусства? Естественно, что вы предпочтете отвернуться или закрыть глаза, если чрезмерная жестикуляция исполнителя мешает вам сосредоточить ваше слуховое внимание. Но если эти жесты вызваны исключительно требованиями музыки и не стремятся к тому, чтобы произвести впечатление сверхартистическими приемами, почему же не следить за движениями, которые, как, например, движения рук литавриста, скрипача, тромбониста, облегчают вам слуховое восприятие?
По правде говоря, те, кто утверждают, что могут вполне наслаждаться музыкой лишь с закрытыми глазами, слышат ее ничуть не лучше, чем с открытыми, но все дело в том, что отсутствие зрительных впечатлений дает им возможность предаваться в это время мечтам; звуки их убаюкивают, а это им нравится гораздо больше, чем сама музыка.
Все эти соображения побудили меня поместить мой маленький оркестр, исполнявший Сказку о Солдате, на самом виду с одной стороны сцены, тогда как с другой стороны находилась небольшая эстрада для чтеца. Такое расположение подчеркивало тесную связь трех основных элементов пьесы, которые, взаимодействуя друг с другом, должны были составить единое целое: посередине – сцена и актеры, по бокам – музыка и чтец. По нашему замыслу эти три элемента выступали то поочередно, то вместе, в ансамбле.
Всю первую половину 1918 года мы с увлечением работали над Сказкой о Солдате, предполагая дать первое представление будущим летом. Непрерывная работа с Рамю была мне особенно дорога, так как наша дружба, становившаяся все более тесной и прочной, давала мне силы переносить с большим мужеством то тяжелое для меня время, когда я был возмущен чудовищным Брестским миром и мои патриотические чувства были глубоко оскорблены[3][3]
Стравинский имеет в виду сепаратный мир с Германией, заключенный большевистским правительством в Брест-Литовске в марте 1918 г., в результате которого Россия вышла из состава Антанты и лишилась части территорий, входивших в состав Российской империи.
[Закрыть].
Как только мы окончили пьесу, началась очень оживленная и занимательная пора. Надо было поставить спектакль. Для этого прежде всего предстояло найти исполнителей. По счастью, Георгий и Людмила Питоевы, находившиеся в Женеве, существенно нам помогли: он взял на себя танцевальные сцены Черта. Она же – исполнение роли Принцессы[4][4]
Георгий (Жорж) Питоев и его жена Людмила – участники премьерного спектакля Сказка о Солдате 28 сентября 1918 г в Лозанне. В том же году Питоевы организовали собственную драматическую труппу, которая в 1922 г. переместилась в Париж и гастролировала по Европе с весьма разнообразным репертуаром.
[Закрыть]. Оставалось найти двух актеров для роли Солдата и для исполнения игровых сцен Черта, а также Чтеца. Мы их нашли среди университетской молодежи Лозанны: Габриель Россе – Солдат, Жан Виллар-Жиль – Черт и молодой палеонтолог Эли Ганьебен – Чтец[5][5]
Исполнителями драматических ролей были актеры-любители. Так, на роль Солдата пробовался Сти-вен-Поль Робер – студент отделения классической филологии и художник, а партию Чтеца с успехом исполнял будущий палеонтолог Эли Ганьебен. Черта должен был играть Габриель Россе, но он не умел танцевать и поначалу делил эту роль с Жаном Виллар-Жи-лем. Затем, когда авторы спектакля сочли Робера не отвечающим их требованиям, к Россе перешла роль Солдата. Под вопросом оставалось исполнение финального «Триумфального танца Черта», и в какой-то момент Стравинский подумывал даже о том, чтобы взять это исполнение на себя (чем привел в восхищение своего соавтора Рамю). Но в конце концов финальный танец
Черта исполнил Питоев (см.: Walsh, р. 290). Из молодых исполнителей профессиональным актером стал только Жан Виллар-Жиль. Ободренный и поддержанный рекомендательными письмами авторов Сказки о Солдате, он отправился в Париж и поступил в Театр старой голубятни, возглавляемый известным режиссе-ром-реформатором Жаком Копо. Жан Виллар-Жиль оставил воспоминания об участии Стравинского и Рамю в репетициях «Солдата». «Игорь Стравинский и Рамю ежедневно руководили репетициями. Первый – всегда одержимый приступом энтузиазма, изобретательности, радости, возмущения, мигрени; он набрасывался на пианино словно на опасного врага, которого надо укротить сильными ударами кулаков; затем Стравинский вспрыгивал на сцену, прихлебывая вишневую водку, эффект которой он сбивал крупными дозами аспирина. Второй – спокойный, внимательный, дружелюбный – давал нам советы со всей деликатностью, ставя себя на наше место, он участвовал в общих поисках, демонстрируя при этом необходимое терпение, и с лукавым восхищением наблюдал за гениальными кульбитами Стравинского. Среди этих двух артистов, темпераменты которых превосходно дополняли друг друга, мы наконец ощутили, что живем чудесно наполненной жизнью, – и труд целиком заполнял наши дни» (Villard-Gilles, р. 8. Пер. с франц. Ю.М, Денисова).
[Закрыть].
После многочисленных репетиций различного характера – актерских, музыкальных, танцевальных (танцы Принцессы я ставил вместе с Л. Питоевой) – мы дожили наконец до дня премьеры, которую ждали с большим нетерпением и которая состоялась в Лозаннском театре 28 сентября 1918 года.
Я всегда был искренним поклонником живописи и рисунка Рене Обержонуа, но я не ожидал, что в театральном оформлении он обнаружит такую изощренность воображения и такое совершенное мастерство. В другом нашем сотруднике я имел счастье найти человека, который сделался в дальнейшем не только одним из моих самых верных и преданных друзей, но также и одним из наиболее уверенных и вдумчивых исполнителей моей музыки. Я говорю об Ансерме.
Хотя я уже рекомендовал его Дягилеву на место Пьера Монтё (который, к нашему большому сожалению, должен был расстаться с нами, так как принял на себя управление Бостонским симфоническим оркестром) и очень ценил его высокую музыкальность, уверенность его взмаха, так же как и общую вы-сокую культуру, я еще не мог в то время составить себе окончательного суждения об Ансерме как исполнителе моих собственных произведений.
В силу того, что он часто уезжал, я имел возможность лишь изредка и от случая к случаю слышать свою музыку под его управлением, и тех нескольких хорошо исполненных пьес, которые я слышал, было слишком мало, чтобы угадать в нем великолепного дирижера, который сможет верно передать публике мой музыкальный замысел, не искажая его личной и произвольной интерпретацией. Ведь музыку следует исполнять, а не интерпретировать, как я уже говорил выше. Всякая интерпретация раскрывает в первую очередь индивидуальность интерпретатора, а не автора. Кто же может гарантировать нам, что исполнитель верно отразит образ творца и черты его не будут искажены?
Достоинство исполнителя определяется одною особенностью: он видит в партитуре именно то, что на самом деле в ней заложено, и не ищет в ней того, что ему хочется видеть. В этом самое большое и ценное качество Ансерме. Оно особенно полно раскрылось во время работы над партитурой Солдата. С тех пор наше духовное взаимопонимание все время росло и крепло[6][6]
Впоследствии это духовное взаимопонимание было нарушено. Ансерме не принял поздних сочинений композитора, как не принял додекафонии вообще, считая подобный способ сочинения музыки противоестественным. Он изложил свои взгляды по этому поводу в исследовании «Основы музыки в человеческом сознании» (Е. Ansermet. Les fondements de la musique dans la conscience humaine. Neuchatel, 1961). Стравинский отозвался об этом труде весьма язвительно, заметив, что автор лишь подчеркнул свою неспособность «ни слушать такую музыку, ни понимать ее». Отношения между композитором и дирижером, впрочем, начали портиться еще раньше, на рубеже 30-х – 40-х годов. «Я был с Ансерме в дружеских отношениях в 20-х и 30-х годах, – вспоминал Стравинский, – точнее, до 1937, когда он самовольно сделал купюру в “Игре в карты”, а затем спустя несколько лет начал критиковать вторые редакции моих ранних произведений, хотя сам был первым исполнителем “Жар-птицы” и “Соловья” в редакциях 1919 года». Все же Стравинский заканчивает этот мемуарный фрагмент 1962 года примирительным тоном: «Несмотря на все это, я по-прежнему чувствую к нему привязанность и не могу забыть тех веселых часов, которые мы провели вместе» (Статьи и материалы, с. 73).
[Закрыть].
Репутация превосходного исполнителя моих произведений прочно за ним утвердилась. Но меня всегда удивляли те, казалось бы, культурные люди, которых приводит в во-сторг его исполнение современной музыки, но которые не обращают внимания на то, как он передает произведения минувших времен. Ансерме принадлежит к тому типу дирижеров, который со всей очевидностью подтверждает давно укоренившееся во мне убеждение насчет того, как соотносятся между собою старинная музыка и музыка современная. Это убеждение таково: для человека определенной эпохи невозможно полностью охватить искусство эпохи предшествующей, раскрыть его смысл, таящийся под устаревшею внешностью, и понять язык, на котором уже больше не говорят, если человек этот не имеет ясного и живого ощущения современности и сознательно не участвует в окружающей его жизни.
Только люди по-настоящему живые могут познать реальную жизнь «мертвых». Вот почему я считаю, что, даже с точки зрения педагогической, было бы благоразумнее начинать всякое обучение с современности и лишь после этого возвращаться к истокам истории*
Откровенно говоря, у меня очень мало доверия к тем людям, которые выдают себя за тонких знатоков и страстных поклонников великих жрецов искусства, удостоенных одной или нескольких звездочек в путеводителях Бедекера[7][7]
Карл Бедекер – немецкий книгоиздатель, специализировавшийся на выпуске путеводителей для туристов.
[Закрыть] и портретов (по которым их к тому же невозможно узнать) в какой-нибудь иллюстрированной энциклопедии, если эти люди лишены всякого понимания того, что относится к современности. Действительно, можно ли доверять мнению людей, которые приходят в экстаз перед великими именами и в то же время, сталкиваясь с произведениями современного искусства, либо остаются к ним уныло равнодушными, либо выбирают из них все посредственное, одни только общие места?
В Ансерме надо ценить именно то, что, пользуясь только средствами своего искусства, он раскрывает нам близость музыки сегодняшнего дня к музыке прошлого. Владея в полной мере музыкальным языком современности и, с другой стороны, исполняя большое количество старинных классических партитур, он давно разгадал, что перед композиторами всех эпох стояли известные проблемы прежде всего специфически музыкального порядка. Вот в чем объяснение его живого контакта с музыкальной литературой самых различных эпох.
Что же касается дирижерской техники в собственном смысле слова, то исполнение партитуры Солдата и ее подготовка были для Ансерме блестящим поводом проявить свое мастерство. Ведь здесь, когда оркестр состоял всего из семи музыкантов, которые выступали все как солисты, никак уже нельзя было ввести публику в заблуждение хорошо известными дешевыми динамическими эффектами. Надо было не только добиться точности и слаженности, но и непрерывно поддерживать их в течение всего исполнения, ибо малейшую расхлябанность при таком малом количестве инструментов было бы невозможно скрыть, как, при известной опытности, это удается в большом оркестре.
Благодаря этому первое представление Солдата дало мне полное удовлетворение, и не только с музыкальной точки зрения. Весь спектакль был подлинной удачей в смысле единства компонентов, тщательности исполнения, прекрасной слаженности и верности найденного тона.
К несчастью, с тех пор мне не пришлось быть ни на одном представлении Солдата, которое бы меня в такой степени удовлетворило. В моем воспоминании спектакль этот занимает особое место, и велика моя благодарность моим друзьям и сотрудникам, так же как и Вернеру Рейнхарту, который, не найдя других компаньонов, великодушно взял на себя все расходы по этой антрепризе. Чтобы доказать ему всю мою благодарность и дружбу, я написал для него и посвятил ему Три пьесы для кларнета соло. Он владел техникой этого инструмента и охотно играл на нем в кругу близких друзей.
Как я уже говорил выше, мы не хотели ограничивать представления Солдата одним спектаклем. Замыслы у нас были более широкие. Мы собирались кочевать с нашим передвижным театром по всей Швейцарии. Увы, мы не могли предвидеть, что вспыхнет эпидемия испанского гриппа, который свирепствовал тогда по всей Европе. Болезнь эта не пощадила и нас. Один за другим заболели «испанкой» мы сами, наши семьи и даже агенты по организации гастролей. Таким образом, наши светлые виды на будущее рассеялись, как дым.
Прежде чем говорить о возобновлении моей деятельности после этой долгой и изнурительной болезни, надо вернуться немного назад и упомянуть о пьесе, которую я сочинил тотчас же по окончании партитуры Солдата. Несмотря на свой скромный объем, она показательна для увлечения, которое пробудил тогда во мне джаз, таким бурным потоком хлынувший в Европу сразу же после войны. По моей просьбе мне прислали много записей этой музыки, которая привела меня в восторг своим поистине народным характером, свежестью и еще неведомым дотоле ритмом, своим музыкальным языком, выдающим его негритянский источник. Все эти впечатления подали мне мысль сделать зарисовку этой новой танцевальной музыки и придать ей значимость концертной пьесы, как это де~ лали некогда по отношению к менуэту, вальсу, мазурке и т. п. Вот чему я обязан сочинением Регтайма для одиннадцати инструментов: духовых, струнных» ударных и венгерских цимбал[8][8]
Стравинский не совсем точен. Первые наброски Регтайма для одиннадцати инструментов были сделаны осенью 1917 г и зимой 1918 г. Наиболее завершенный черновой вариант датирован 3 марта 1918 г. Затем работа была отложена, поскольку композитор занялся сочинением Сказки о Солдате. И только после премьеры Солдата в сентябре 1918 г. и перенесенной Стравинским тяжелой формы «испанки» Регтайм для одиннадцати инструментов был окончательно завершен 10 ноября 1918 г.
[Закрыть]. Несколькими годами позже я дирижировал его первым исполнением на одном из концертов Кусевицкого в Парижской опере.
После перенесенной «испанки» я чувствовал себя до такой степени слабым, что был не в состоянии взяться за слишком утомительную работу. Поэтому я принялся за то, что не требовало, как мне казалось, слишком большого напряжения. С некоторых пор у меня явилась мысль аранжировать ряд фрагментов Жар-птицы в форме сюиты для сокращенного состава оркестра, чтобы облегчить ее исполнение многочисленным симфоническим обществам, которым хотелось, чтобы это произведение как можно чаще фигурировало в их программах, но которым никак не удавалось это сделать из-за трудностей материального порядка. Дело в том, что первый вариант сюиты, которую я аранжировал вскоре после окончания балета, предполагал такой же большой состав, как и в самом балете, а таким составом далеко не всегда располагали концертные организации. В моем втором варианте я добавил некоторые новые фрагменты, выпустил кое-какие из прежних, значительно сократил оркестр, ничем, однако, не нарушив равновесия инструментальных групп, и тем самым сделал возможным исполнение этой сюиты составом приблизительно в шестьдесят музыкантов[9][9]
Первая Сюита из балета Жар-птица, сделанная Стравинским в 1910 г., включала следующие эпизоды балета: 1) Вступление. Заколдованный сад Кащея и пляс Жар-птицы. 2) Мольбы плененной Жар-птицы (Pas de deux Жар-птицы и Ивана-Царевича). 3) Игра царевен золотыми яблочками. 4) Хоровод царевен. 5) Поганый пляс Кащеева царства. Из второй сюиты, переоркестрованной Стравинским в феврале-марте
1919 г., были исключены Мольбы Жар-птицы и Игра царевен золотыми яблочками и добавлены Колыбельная Жар-птицы и Финал (оркестровые вариации на тему русской народной песни «У ворот сосна раскачалася»).
[Закрыть].
В процессе работы я убедился, что моя задача была не так проста, как я думал. Эта работа заняла у меня ровно шесть месяцев.
Этой зимой я познакомился с хорватской певицей, г-жой Майей де Строцци-Печич, которая обладала прекрасным сопрано[10][10]
Зимой 1918 г., незадолго до Рождества, Стравинский познакомился с хорватской певицей Майей Строцци-Печич. Для нее Стравинский написал вокальный цикл Четыре русские песни: «Селезень», «Запев-ная», «Подблюдная» и «Сектантская». Однако певица покинула Швейцарию раньше, чем композитор закончил эту работу и, кажется, так никогда и не исполнила этих песен (см.: Walsh, р. 298). Четыре русские песни имеют посвящение: «Г-же Майе и г-ну Беле Строцци-Печич». С Белой Печич, мужем певицы, Стравинский исполнил Пять легких пьес для фортепиано в четыре руки на концерте в Лозанне 5 марта 1919 г.
[Закрыть]. Она просила меня сочинить что-нибудь для нее, и я написал Четыре русские песни на народные тексты, переведенные Рамю.
В начале весны я поехал на короткое время в Париж, где встретил Дягилева, которого не видал уже больше года[11][11]
Поездка в Париж, где Стравинский встретился с Дягилевым, состоялась не весной, а осенью, в сентябре 1919 г. Стравинский не видел Дягилева более двух лет, перед этим они встречались в июле 1917 г.
[Закрыть].
Брестский мир поставил его, как и большинство наших соотечественников, в исключительно тяжелое положение. Мир застал его вместе с труппой в Испании. В течение целого года они были там на положении ссыльных, так как все русские в целом стали нежелательным элементом, и всякий раз, когда они хотели переезжать с места на место, им чинилось бесчисленное множество препятствий.
Заключив договор с лондонским «Ко-лизеумом», Дягилев наконец, после многочисленных хлопот, получил разрешение для себя и своей труппы на въезд в Лондон через Францию.
Увидев его в Париже, я, разумеется, рассказал ему про Солдата и про ту радость, которую мне доставил его успех. Но Дягилев не проявил по этому поводу никакого восторга. Меня это не удивило. Я слишком хорошо знал его натуру. Он был невероятно ревнив по отношению к друзьям и сотрудникам, в особенности же к тем, которых больше всего ценил. Он не хотел признать за ними права работать где бы то ни было помимо него и вне его антрепризы. Тут он ничего не мог с собою поделать. Он рассматривал это как предательство. Даже когда дело коснулось концертов, на которых я выступал как дирижер или пианист, что уже явно не имело никакого отношения к театру, ему трудно было это перенести. Теперь, когда его больше нет, все это кажется мне, скорее, трогательным и не оставляет по себе горького осадка. Но при его жизни всякий раз, когда я надеялся, что он разделит мою радость по поводу моих успехов, одержанных без его участия, я неизменно наталкивался на равнодушие, если не на явную враждебность с его стороны, и это меня оскорбляло, возмущало, заставляло по-настоящему страдать. Мне казалось, что я стучусь в дверь к другу, а дверь эта остается наглухо закрытой. Именно так получилось со Сказкой о Солдате, и на некоторое время это охладило наши отношения[12][12]
Стравинский почему-то не упоминает о том, что Дягилев еще до встречи с ним в Париже допускал возможность постановки Сказки о Солдате. Его смущало лишь наличие полновесного литературного текста Рамю, занимавшего слишком большое место в этом представлении, что не соответствовало преимущественно хореографическим тенденциям его антрепризы. Против литературного текста протестовал и предполагаемый хореограф будущей постановки Л.Ф. Мясин, который в своем замысле не находил места для чтеца. Дягилев, однако, не решился требовать от Стравинского полного отказа от текста Рамю и уговаривал Мясина довериться художественному опыту Стравинского, говоря, что «Стравинский знает, что делает» (см.: Walsh, р. 303). В августе 1919 г. Стравинский и Рамю спешно занялись сокращением текста и перераспределением функций слова, музыки и танца, стремясь приблизить сценический облик Сказки о Солдате к традиционным спектаклям «Русского балета». Осенняя встреча Стравинского с Дягилевым в Париже не решила вопроса о постановке Солдата. В начале 1920 г. ненадолго возникала идея хореографической интерпретации оркестровой сюиты из Сказки о Солдате. Предполагалось, что ставить будет Мясин, а оформление спектакля будет поручено Пикассо. Но и из этого проекта ничего не вышло. В антрепризе Дягилева Сказка о Солдате так и не была поставлена. В этом, по-видимому, состояла причина охлаждения отношений между Дягилевым и Стравинским, о чем последний и сообщает в книге.
[Закрыть].
В Париже Дягилев пустил в ход всю свою дипломатию, чтобы заставить меня, заблудшую овцу, вернуться в лоно «Русских балетов». Он рассказывал мне с преувеличенной экзальтацией о своем проекте показать Песнь Соловья в декорациях и костюмах Анри Матисса, в постановке Мясина. И все это в надежде заставить меня позабыть злополучного Солдата. Однако я оставался довольно равнодушен к его предложению, и не потому, что меня не привлекала работа с таким большим художником, как Матисс, и таким балетмейстером, как Мясин: просто я считал Песнь Соловья предназначенной для концертной эстрады, и танцевальная иллюстрация этого произведения мне казалась совсем ненужной; его тонкая ювелирная фактура и в некотором роде статический характер мало подходили для сценического действия и для прыжковых движений[13][13]
Договоренность с Дягилевым о постановке Соловья в виде балета была достигнута еще в конце 1916 г., и Стравинский сочинял симфоническую поэму Песнь Соловья, руководствуясь указаниями Дягилева (см. выше гл. IV, коммент. 25). Таким образом, предложение Дягилева, повторенное в Париже в 1919 г., не было для Стравинского новостью. Просто давая свое согласие в 1916 г., не начав еще работать над симфонической поэмой, он, по-видимому, не очень представлял, что из этого получится. Теперь, имея в руках партитуру, он предпочитал, чтобы слушатели оценили «тонкую ювелирную фактуру» этого произведения в концертном исполнении, не отвлекаясь на зрительные впечатления.
[Закрыть]. Зато другая работа, предложенная Дягилевым, заинтересовала меня гораздо больше.
После успеха «Женщин в хорошем настроении»[14][14]
«Женщины в хорошем настроении» – балет по мотивам одноименной комедии Карло Гольдони, поставленный в 1918 г. Л. Мясиным на музыку клавесинных сонат Доменико Скарлатти в инструментовке современного итальянского композитора Винченцо Том-мазини и художественном оформлении Л, Бакста.
[Закрыть] – балета, сочиненного на музыку Доменико Скарлатти, Дягилеву пришла мысль посвятить свое новое произведение музыке другого знаменитого итальянца, тем более что мое восхищение этим композитором и моя любовь к нему были известны моему другу. Речь шла о Перголези. Во время своих поездок в Италию Дягилев уже пересмотрел в архивах большое количество неоконченных рукописей этого композитора и снял с них копии. Впоследствии он еще пополнил свою коллекцию в библиотеках Лондона и новыми рукописями. Это составило довольно значительный материал. Дягилев показал мне его и настойчиво склонял меня вдохновиться им и сочинить балет, сюжет которого он взял из сборника, состоящего из пересказов любовных приключений Пульчинеллы[15][15]
Согласно последним исследованиям, среди копий рукописей Перголези из итальянских архивов, предложенных Дягилевым Стравинскому, были «фрагменты из опер “Фламинио” и “Влюбленный монах”, Кантата № 4, Гавот с двумя вариациями и синфония для виолончели и контрабаса»; из коллекции Британского музея в руки Стравинского попали «несколько частей из трио-сонат для двух скрипок и цифрованного баса», а также «копия Allegro из Сонаты № 7 для клавесина» (Урсин, с. 114. См. также полную таблицу заимствованных Стравинским фрагментов из музыки Перголези и других композиторов XVIII в., составленную В.П. Ва-рунцем: Переписка II, с. 461–462).
[Закрыть]. Идея эта меня чрезвычайно соблазнила. Неаполитанская музыка Перголези всегда очаровывала меня своим народным характером и своей испанской экзотикой. Перспектива работать с Пикассо, которому были заказаны декорации и костюмы, – художником, чье искусство было мне бесконечно дорого и близко, воспоминание о наших с ним богатых впечатлениями прогулках по Неаполю, искреннее наслаждение, которое в свое время мне доставили поставленные Мясиным «Женщины в хорошем настроении», – все это вместе взятое положило конец моей нерешительности, и я взялся за нелегкую задачу – вдохнуть новую жизнь в разрозненные фрагменты и свести воедино отдельные отрывки, принадлежащие композитору, к которому я всегда чувствовал большую склонность и совсем особую нежность.
Я понимал, что, прежде чем приступить к этому трудному делу, я должен дать себе ответ на основной вопрос, который неотлучно меня преследовал: что должно преобладать в моем подходе к Перголези – уважение к его музыке или любовь к ней? Уважение или любовь толкают нас к обладанию женщиной? Не одной ли силой любви мы постигаем всю глубину человеческого существа? К тому же разве любовь исключает уважение? Только уважение само по себе всегда бесплодно и не может стать творческой силой. Для творчества нужна динамика, нужен некий двигатель, а есть ли на свете двигатель более мощный, чем любовь? Поэтому для меня этот вопрос был уже предрешен заранее.
Пусть читатель не примет этих строк за желание оправдаться перед нелепыми обвинениями в кощунстве, которые мне предъявляли. Я слишком хорошо знаю образ мыслей этих охранителей и архивариусов музыки: они ревниво оберегают неприкосновенность своих папок, куда сами они никогда даже носа не сунут, и не прощают тому, кто хочет вынести на свет скрытую жизнь их сокровищ, которые для них мертвы и священны. Я убежден, что не допустил никакого кощунства, и совесть моя чиста. Напротив, я считаю, что мое отношение к Перголези – единственно возможное отношение к музыке прошлого, если мы хотим, чтобы работа над ней была плодотворной[16][16]
Эту же мысль Стравинский высказал еще до написания музыки в одном из интервью 1931 г.: «Если я пересочиняю музыку Перголези, то делаю это не для того, чтобы повторить или исправить ее, а потому, что ощущаю себя братом по духу этого композитора и хочу его творческий дух сделать плодоносным. Феномен, называемый любовью, есть единение творческих налгур» (цит. по: Урсин, с. 123).
[Закрыть].
Вернувшись в Морж, прежде чем приступить к Пульчинелле, я закончил пьесу для фортепиано, которую начал еще раньше, готовя ее для Артура Рубинштейна, для его ловких, проворных и сильных пальцев; ему я и посвятил эту пьесу. Это была Piano-Reg-Music. Сочиняя эту музыку, я вдохновлялся теми же мыслями и преследовал ту же цель, что и в Регтайме, но в данном случае используя ударные возможности рояля. Особенно воодушевляло меня то, что различные ритмические эпизоды пьесы были мне подсказаны самими пальцами. И это было таким наслаждением для пальцев, что я принялся пианистически работать над этой вещью, и отнюдь не потому, что мне непременно хотелось играть ее перед публикой – мой репертуар и сегодня не мог бы заполнить целую концертную программу, – но просто для себя самого. Не следует презирать пальцев: они являются сильными вдохновителями, часто пробуждая в нас подсознательные мысли, которые иначе, может быть, остались бы нераскрытыми.
Все последующие месяцы я посвятил исключительно сочинению Пульчинеллы. Эта работа доставляла мне большую радость. Находящееся у меня в руках наследие Перголези, эти многочисленные фрагменты и отрывки незаконченных или едва набросанных произведений, которые, по счастью, избежали фильтровки академических редакторов, заставляли меня все сильнее и сильнее чувствовать подлинную природу этого музыканта и все яснее ощущать мое с ним близкое духовное родство и даже общность чувств.








