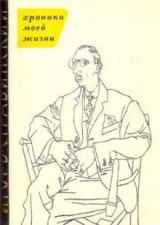
Текст книги "Хроника моей жизни"
Автор книги: Игорь Стравинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
И вот однажды я вдруг подскочил от радости. Петрушка! Вечный и несчастный герой всех ярмарок, всех стран! Это было именно то, что нужно, – я нашел ему имя, нашел название[24][24]
В изложении С. Лифаря, который ссылается на рассказ Дягилева, название будущего балета принадлежало Дягилеву: «Игорь Стравинский сыграл ему свой Konzertstuck, совершенно не думая ни о каком “Петрушке” и ни о каком балете. Дягилев выслушал этот Konzertstuck, пришел в энтузиазм и вскочил с восклицанием: “Да ведь это же балет! Ведь это Петрушка!”» (Лифарь, с. 222). В пользу этой версии может отчасти служить признание композитора, высказанное в интервью 1928 г.: «Моя первая мысль, связанная с “Петрушкой”, заключалась в создании концертштюка, предполагающем соревнование фортепиано и оркестра… Поначалу я замыслил здесь выход человека во фраке и обязательно с длинными волосами, которые были в моде у романтических поэтов и музыкантов. Он должен был садиться за фортепиано и из-под его рук рождались причудливые образы. Оркестр же в это время пылко протестовал раскатами звуков» (Интервью, с. 88). Но вполне возможно, что сам характер музыки в конечном счете вызвал у автора ассоциации скорее с марионеткой, чем с романтическим виртуозом. Как бы то ни было, идея балета, без всяких сомнений, принадлежала Дягилеву, равно как и название концертштюка «Крик Петрушки», о чем он написал А.Н. Бенуа осенью 1910 г в Петербург (Бенуа, с. 523).
[Закрыть]!
Вскоре после этого Дягилев приехал повидаться со мной в Кларан, где я тогда жил. Он был крайне удивлен, когда вместо ожидаемых эскизов к Весне я сыграл ему отрывок, ставший в дальнейшем 2-й картиной балета Петрушка. Вещь эта ему так понравилась, что он не хотел больше с ней расставаться и принялся убеждать меня развить тему страданий Петрушки и создать из этого целый хореографический спектакль. Мы взяли с ним за основу мою первоначальную мысль и во время его пребывания в Швейцарии набросали в общих чертах сюжет и интригу пьесы. Мы условились относительно места действия – ярмарка с ее толпой, ее балаганами и традиционным театриком; персонажей – фокусник, развлекающий эту толпу, ярмарочные куклы, которые оживают: Петрушка, его соперник и балерина, и сюжета – любовная драма» которая кончается смертью Петрушки. Я тотчас же принялся за сочинение 1-й картины балета и закончил ее в Больё-сюр-мер, куда переехал с семьей на зиму. Там я часто видел Дягилева, который остановился в Монте-Карло. Мы условились, что Дягилев поручит А.Н. Бенуа все сценическое оформление балета, включая декорации и костюмы. Дягилев вскоре уехал в Петербург и незадолго до Рождества предложил мне приехать к нему на несколько дней и привезти музыку, чтобы ознакомить с нею Бенуа и других сотрудников. Не без волнения тронулся я в путь. Резкий переход от тепличного климата Больё к туманам и снегам моего родного города не на шутку меня пугал. По приезде в Петербург я сыграл моим друзьям все, что уже было написано для Петрушки: две первые картины и начало третьей[25][25]
Стравинский приехал в Петербург в декабре 1910 г Бенуа вспоминает, что в его «маленькой гостиной с темно-синими обоями… на старом безбожно-твер-дом “Генште”» Стравинский сыграл ему «как оба “готовых куска” («Крик Петрушки» и «Русский танец». – И В.), с которых все началось, так и еще кое-что из того, что… успел придумать для первой картины… “Русский танец” оказался поистине волшебной музыкой, в которой дьявольский заразительный азарт чередовался со страшными отступлениями нежности и который внезапно обрывался, достигнув своего пароксизма. Что же касается до “Крика Петрушки”, то прослушав его раза три, я уже стал в нем различать и горе, и бешенство, и какие-то любовные признания, а над всем какое-то беспомощное отчаянье» (Бенуа, с. 523).
[Закрыть].
Бенуа немедленно приступил к работе и весной присоединился к нам в Монте-Карло, куда мы с Дягилевым приехали еще раньше.
Я не предполагал, что видел в последний раз свой родной город Санкт-Петербург[26][26]
Стравинский ошибается. Его последнее посещение родного города состоялось в сентябре 1912 г., куда он заезжал «повидаться со своими родными, которых уже не видел два года» (Интервью, с. 9). Имеются в виду мать композитора Анна Кирилловна и семья старшего брата Юрия Федоровича, архитектора (1878–1941).
[Закрыть], город Святого Петра, посвященный Петром Великим своему великому патрону, а отнюдь не себе самому, как, вероятно, считали те невежественные люди, которые придумали нелепое название Петроград.
Вернувшись в Больё, я снова принялся за партитуру, но непредвиденное и серьезное обстоятельство прервало мою работу. Я тяжко заболел, и моя болезнь, явившаяся следствием отравления никотином, чуть не оказалась смертельной. Это заболевание повлекло за собой целый месяц вынужденного покоя, и все это время я очень волновался за судьбу Петрушки, который должен был во что бы то ни стало идти весною в Париже. К счастью, силы скоро ко мне дернулись, и я настолько окреп, что смог закончить свою работу в те два с половиной месяца, которые оставались до открытия сезона. В конце апреля я поехал в Рим, где Дягилев давал свои спектакли в «Театро Костанци» во время Международной выставки. Там репетировали Петрушку, и там я дописал его последние страницы.
Я вспоминаю всегда с исключительным удовольствием эту весну в Риме, где я был в первый раз. Несмотря на мою усиленную работу в Albergo d’ltalia [гостинице «Италия». – итал.], где все мы поселились – А.Н. Бенуа, художник В.А. Серов, которого я искренне полюбил, и я, – мы находили время для прогулок, ставших крайне для меня поучительными благодаря Бенуа, человеку разносторонне образованному, знатоку искусства и истории, обладающему к тому же даром чрезвычайно красочно воскрешать в своих рассказах эпохи прошлого; эти прогулки были для меня настоящей школой, и я увлекался ими.
Как только мы приехали в Париж, начались репетиции под управлением Пьера Монте, ставшего на несколько лет дирижером «Русских балетов»[27][27]
Пьер Монтё, тогда еще молодой дирижер, с 1911 по 1914 г. г оставался главным дирижером дяги-левской антрепризы. Стравинский неоднократно высоко отзывался о профессиональной тщательности, с которой Монтё готовил исполнение его партитур. С. Григорьев вспоминал, в какой спешке готовилась премьера Петрушки в сезоне 1911 г, и что Монтё «испытал не меньше трудностей с партитурой, чем Габриель Пьер-не с “Жар-птицей”. По сути, “Петрушка” был даже труднее, и дирижеру пришлось разбить оркестр на несколько инструментальных групп и разучивать музыку с каждой группой в отдельности» (Григорьев, с. 56).
[Закрыть]. Вначале рядовой артист оркестра «Колонн», он сделался потом помощником главного дирижера. Прекрасно зная свое дело и людей, с которыми ему приходилось работать, он умел ладить со своими музыкантами – вещь очень полезная для дирижера. Он очень тщательно подготовил исполнение моей партитуры. Я и не требую большего от дирижера, так как всякое иное отношение с его стороны переходит сейчас же в интерпретацию у а этого я не терплю. Дело в том, что интерпретатор все свое внимание неизбежно устремляет на интерпретацию и становится в этом смысле похож на переводчика [итал. traduttore – traditore Игра слов: переводчик – предатель (прим. пере водника).]. Но в музыке это сущая нелепость. Стремление это становится для интерпретатора источником тщеславия и неминуемо ведет его к ни с чем не сообразной мании величия. Во время репетиций я с удовлетворением убеждался, что большая часть моих предположений относительно характера звучания полностью подтвердилась.
Помню, что на генеральной репетиции в «Шатле», на которую были приглашены цвет артистического мира и вся пресса, Петрушка сразу же понравился публике, за исключением разве только нескольких аристархов, один из которых – правда, это был литературный критик – имел дерзость подойти к Дягилеву и спросить его: «И вы нас пригласили, чтобы все это слушать?» – «Вот именно», – ответил Дягилев. Должен добавить, что впоследствии, если судить по его похвалам, знаменитый критик, вероятно, совершенно забыл о своей выходке[28][28]
Кто именно из окружения Дягилева мог произнести эту фразу, установить не удалось. В качестве весьма шаткого предположения (поскольку речь шла именно о литературном критике) рискнем указать на Жака Ривьера – издателя парижского журнала «Nouvelle Revue Fran£aise», в дальнейшем горячего почитателя произведений Стравинского.
[Закрыть].
Я не могу не сказать здесь о моем восторге перед Вацлавом Нижинским, этим исключительным исполнителем роли Петрушки. Совершенство, с которым он воплощал эту роль, тем более поразительно, что прыжки, в которых он не знал соперников, уступали здесь место драматической игре, музыке и жесту[29][29]
0 замечательном драматическом даре прославленного танцовщика, раскрывшемся в партии Петрушки, писали все, кто видел Нижинского на премьере балета. Очевидцы свидетельствовали: Нижинский «…с такой силой умел передать страдания замученного узника, его отчаянье, ревность, страстную жажду свободы, ненависть к тюремщику, что присутствующая наспек-такле Сара Бернар воскликнула: “Мне страшно, я вижу величайшего актера в мире”» (Борисоглебский, с. 178).
[Закрыть]. Богатство художественного оформления, созданного Бенуа, сильно способствовало успеху спектакля. Постоянная и несравненная исполнительница роли Балерины Карсавина поклялась мне, что всегда останется верна этой роли; она ее обожала. Досадно только, что не было уделено внимания движениям толпы. Вместо того чтобы поставить их хореографически в соответствии с ясными требованиями музыки, исполнителям дали возможность импровизировать и делать все, что им хочется. Я сожалею об этом тем более, что групповые танцы (кучеров, кормилиц, ряженых) и танцы солистов должны быть отнесены к лучшим творческим достижениям Фокина[30][30]
Стравинский имеет в виду первую картину, где движение пестрой по составу толпы не организовано хореографически, в отличие от четвертой картины, в которой он хвалит групповые танцы кормилиц, конюхов и кучеров.
[Закрыть],
Что же касается моего теперешнего отношения к музыке Петрушки, то я предпочитаю отослать читателя к тем страницам, которые я посвящу в дальнейшем собственному исполнению моих произведений и где мне неминуемо придется об этом рассказывать.
А теперь перейдем к Весне священной.
Я уже говорил, что, когда мне пришла в голову мысль о ней, тотчас же после Жар-птицы, я не имел возможности сделать даже первых набросков этой вещи, настолько я был поглощен тогда сочинением Петрушки.
После парижского сезона я вернулся в Россию, в наше имение Устилуг, чтобы полностью посвятить себя Весне священной, Все же у меня хватило времени сочинить там два романса на стихи поэта Бальмонта, так же как кантату для хора и оркестра (Звездоликий), в основу которой тоже легло стихотворение Бальмонта; я посвятил ее Клоду Дебюсси[31][31]
Летом 1911 г. в Устилуге Стравинский заинтересовался стихами К. Бальмонта из его сборника «Зеленый вертоград. Слова поцелуйные» (СПб., 1909) и написал вокальный цикл Два стихотворения К. Бальмонта. Тогда же была задумана короткая кантата для мужского хора Звездоликий на текст из этого сборника, которую он закончил летом следующего, 1912 г
[Закрыть]. Материальные трудности, с которыми связано исполнение этой коротенькой пьесы, требующей значительного состава оркестра, а также интонационная сложность хорового письма привели к тому, что до сих пор эта кантата ни разу не исполнялась для публики.
Несмотря на то, что сюжет Весны священной представлялся мне лишенным всякой интриги, надо было, однако, выработать некий план. Для этого мне необходимо было повидаться с Рерихом, который находился тогда в Талашкине, имении княгини Тенишевой, известной покровительницы русского искусства. Я поехал к нему туда, и мы с ним окончательно договорились о сценическом воплощении Весны и о последовательности различных эпизодов[32][32]
Встреча Стравинского с Рерихом в Талашки-но – имении княгини М.К. Тенишевой – произошла летом не 1912, а 1911 г. Тенишева была организатором художественных мастерских в Талашкино и музея русской старины в Смоленске. Во второй половине июля 1911 г. композитор и художник, живя в имении Тенишевой, составили окончательный вариант сценария будущего балета.
[Закрыть]. Вернувшись в Устилуг, я принялся за партитуру и продолжал ее зимой в Кларане.
В этом году Дягилев решил приложить все свои усилия, чтобы сделать из Нижинского балетмейстера. Не знаю, искренне ли он верил в его режиссерские способности или, быть может, считал, что за талантом Нижин-ского-танцовщика, который приводил его в восторг, скрывается и дарование балетмейстера? Во всяком случае, ему пришло в голову поручить Нижинскому создать, под своим ближайшим наблюдением, род античной' картины, изображающей эротические забавы Фавна, преследующего нимф[33][33]
В качестве сценарной идеи использовались мотивы поэмы Стефана Малларме «Послеполуденный отдых фавна», а музыкальным сопровождением стал одноименный симфонический прелюд Дебюсси.
[Закрыть]. По мысли Бакста, который был увлечен архаической Грецией, эта картина должна была изображать живой барельеф с его профильной пластикой. Для постановки балета «Послеполуденный отдых Фавна» Бакст сделал особенно много. И он не ограничился декоративным оформлением и созданием великолепных костюмов, он указывал мельчайшие движения танцев. Но не нашли ничего лучше, как взять для этого спектакля импрессионистическую музыку Дебюсси. Несмотря на то, что композитор был от этого совсем не в восторге, Дягилеву благодаря своей настойчивости удалось добиться его согласия. Дал он его, разумеется, скрепя сердце. После многочисленных и очень тщательных репетиций балет был наконец поставлен и показан весною в Париже[34][34]
Балет «Послеполуденный отдых фавна» в хореографии Нижинского, исполнявшего главную партию, и в декорациях и костюмах Л. Бакста был показан в Париже 29 мая 1912 г.
[Закрыть]. Всем известен вызванный им скандал, который произошел вовсе не из-за так называемой новизны спектакля, а вследствие смелого и не совсем пристойного телодвижения Нижинского, который, должно быть, считал, что в эротическом сюжете все позволено, и решил усилить этим впечатление от спектакля
Я привожу этот случай лишь потому, что о нем в свое время много говорили. И эстетика, и весь дух подобных сценических выступлений кажутся мне сейчас настолько устарелыми, что у меня нет ни малейшего желания подробнее о них говорить[35][35]
По прошествии нескольких десятилетий Стравинский, однако, вспоминал об этом спектакле не без ностальгического оттенка: «Знаменитое представление любовного акта, исполненное в натуралистической манере в этом балете было целиком измышлено Дягилевым, но даже в таком виде исполнение Нижинского являло собой столь изумительно концентрированное искусство, что только глупец возмутился бы этим зрелищем – правда, я обожал этот балет» {Диалоги, с. 67). Вот описание этой сцены, сделанное С.М. Волконским в 1912 г под непосредственным впечатлением от спек* такля: «Большими раскрытыми глазами удивленно смотрит он [Фавн] на женщин: он весь спал, он весь просыпается… Они пляшут, они дразнят – он ничего не понимает, но все в нем пробуждается… Они убегают, – остается на земле оброненный ими шарф. И вот, – эта сцена, на которую почему-то нашли нужным ополчиться театральные пуритане, эта сцена, когда он, задумчи^ вый, озадаченный, разворачивает шарф… Он смотрит, разворачивает, переворачивает, подносит к ноздрям и, – все такой же, задумчивый, озадаченный, – расстилает его на траве и ложится на него. Все это сделано с такою тонкостью, с такой сдержанностью на опасном перегибе между человеком и животным… Только большой артист может дать вам это впечатление высокого в подобной сцене, – что не животное в человеке, а человек просыпается в животном» (Волконский. с. 51).
[Закрыть].
Нижинскому пришлось проделать большую работу, чтобы справиться со своим первым балетмейстерским опытом. Эта работа, а также изучение новых ролей не оставляли ему, по-видимому, ни времени, ни сил, чтобы заняться Весной священнойt ставить которую должен был он. Фокин был в это время занят другими балетами («Дафнис и Хлоя» Равеля и «Синий бог» Рейнальдо Гана). Таким образом, постановка Весны священной, музыку которой я между тем закончил, откладывалась на следующий год. Это позволило мне отдохнуть и работать не спеша над инструментовкой.
В Париже, куда я поехал на дягилевский сезон, среди других произведений мне довелось услышать блестящую партитуру Равеля «Дафнис и Хлоя», с которой автор меня уже раньше познакомил, проиграв ее на рояле. Это, бесспорно, не только одно из лучших произведений Равеля, но также один из шедевров французской музыки. Если не ошибаюсь, в том же году в Комической опере, в ложе, куда меня пригласил Дебюсси, я слышал другое крупное французское произведение – оперу «Пеллеас и Мелизанда». В то время я часто виделся с Дебюсси, и меня глубоко трогала его симпатия ко мне и моей музыке. Меня поражала тонкость его оценок, и я был ему признателен, между прочим, за то, что он отметил в Петрушке музыкальную значимость страниц, посвященных сцене «фокуса», непосредственно предшествующих финальному танцу марионеток в 1-й картине, страниц, на которые тогда мало кто обратил внимание[36][36]
По поводу этого эпизода партитуры Петрушки Дебюсси высказался в письме к Стравинскому от 10 апреля 1912 г. из Парижа: «…я знаю мало вещей более ценных, чем тот кусок музыки, который Вы назвали “Tour de passe”… В нем есть какое-то звуковое волшебство, таинственное превращение и очеловечивание душ-механизмов колдовством, которым, как кажется, пока владеете только Вы» {Дебюсси, с. 189).
[Закрыть]. Дебюсси часто приглашал меня к себе, и однажды я встретил у него Эрика Сати[37][37]
Эрик Сати – композитор, в конце 1910-х – начале 1920-х г.г. близкий молодой французской «Шестерке». Стравинский называет в числе его лучших произведений драму с пением «Сократ» для четырех певцов и камерного оркестра на текст из «Диалогов» Платона (поставлена в 1920 г. в Париже) и балет «Парад», созданный по сценарию Жана Кокто, оформленный П. Пикассо и поставленный J1. Мясиным в «Русских сезонах» 1917 г.
[Закрыть], чье имя мне было уже знакомо. Он понравился мне с первого взгляда. Это был чрезвычайно острый, проницательный, лукавый и саркастический ум. Из его произведений мне ближе всего «Сократ» и некоторые страницы «Парада».
Из Парижа я вернулся в Устилуг, чтобы, по обыкновению, провести там лето, и спокойно продолжал свою работу над Весной священ* ной. Но эта мирная жизнь была нарушена приглашением Дягилева приехать в Байрейт прослушать в этом священном месте «Парсифаля», которого я еще никогда не видел на сцене. Это предложение мне улыбалось, и я охотно туда поехал[38][38]
Стравинский отправился в Байрейт во второй половине августа 1912 г и присутствовал на спектакле «Парсифаль» под управлением Ганса Рихтера 20 августа (по новому стилю).
[Закрыть]. Я остановился на день в Нюрнберге и осмотрел там музей, а наутро меня уже встречал на Байрейтском вокзале мой милый огромный друг.
Он тут же заявил мне, что мы рискуем провести ночь под открытым небом, так как все гостиницы переполнены. С большим трудом нам все же удалось поселиться в комнатах для прислуги. Спектакль, на котором я присутствовал, сейчас ничем бы меня не соблазнил, даже если бы мне предложили комнату даром. Во-первых, вся атмосфера зала, его оформление и сама публика мне показались мрачными. Это напоминало крематорий, к тому же какой-то очень старомодный, где вот-вот должен был появиться человек в черном, в обязанности которого входило произнесение речи, восхваляющей достоинства почившего. Фанфара призвала сосредоточиться и слушать, и церемония началась. Я весь съежился и сидел неподвижно; через четверть часа мне стало невмоготу: все тело затекло, надо было переменить положение. Трах! – так оно и есть! Мое кресло затрещало, и сотни взбешенных взглядов впились в меня. Я опять съеживаюсь, но теперь думаю только об одном: скорее бы окончилось действие и прекратились мои мучения. Наконец наступает антракт, и я вознагражден парой сосисок и кружкой пива. Но не успеваю я закурить папиросу, как фанфара вновь призывает меня сосредоточиться и слушать* Надо выдержать еще одно действие! А все мои мысли о папиросе – я успел всего только раз затянуться! Переношу и это' действие, Потом – опять сосиска, опять кружка пива, опять фанфара, опять сосредоточиться и слушать еще один акт – последний. Конец!
Я не хочу касаться здесь музыки «Парси-фаля» и музыки Вагнера вообще: слишком уж она сейчас от меня далека. Что меня возмущает во всем этом представлении, так это примитивная концепция, которой оно продиктовано, и самый подход к театральному спектаклю, когда ставится знак равенства между ним и священным символическим действом. И невольно думаешь, не является ли вся эта байрейтская комедия с ее смехотворными обрядами попросту слепым подражанием священному ритуалу[39][39]
В юности Стравинский был страстным вагне-рианцем и посещал оперы Вагнера, которые в изобилии ставились на Мариинской сцене (ему позволялось свободно посещать генеральные репетиции). Стравинский вспоминает: «я знал все сочинения Вагнера по фортепианным переложениям, а когда мне исполнилось шестнадцать или семнадцать лет, и у меня, наконец, появились деньги, чтобы купить их, – и по оркестровым партитурам» Диалоги, с. 36). Критика байрейтского спектакля в данном случае не касалась существа музыки Вагнера. Стравинского возмущали претензии на некое «священнодействие», которыми была пропитана вся атмосфера представления оперы.
[Закрыть]?
Может быть, скажут, что именно таковы были средневековые мистерии. Но то были действа, создававшиеся на религиозной основе, источником их была вера. Сущность их была такова, что они не отходили от церкви, напротив, церковь им покровительствовала. Это были религиозные церемонии, свободные от канонических ритуалов, и если в них и были эстетические достоинства, то они являлись лишь добавочным и непроизвольным элементом и ничего, по сути дела, не изменяли. Эти представления были вызваны насущной потребностью верующих узреть объекты своей веры в осязаемом воплощении; той же потребностью, которая создала в церквах иконы и статуи.
Право же, настало время покончить раз и навсегда с этим неумным, кощунственным толкованием искусства как религии и театра как храма* Нелепость этой жалкой эстетики может быть легко доказана следующим доводом: нельзя себе представить верующего, занявшего по отношению к богослужению положение критика. Получилось бы contra-dictio in adjecto [внутреннее противоречие. – ла/п.]: верующий перестал бы быть верующим.
Положение зрителя прямо противоположно. Оно не обусловлено ни верой, ни слепым повиновением. Во время спектакля восхищаются или отвергают. Для этого прежде всего надо судить. Можно что-либо принять только тогда, когда составишь себе, хотя бы бессознательно, какое-то мнение. Критическое чутье играет при этом главную роль. Смешивать эти две категории понятий – значит обнаружить полное отсутствие здравого смысла и хорошего вкуса. Но можно ли удивляться подобному смешению понятий в нашу эпоху, когда торжествует суетность, которая, принижая духовные ценности и опошляя человеческую мысль, неминуемо ведет нас к полному огрубению? Теперь, кажется, начинают понимать, какое чудовище рождается на свет, и не без досады приходят к выводу, что человек не может прожить без культа. И вот стараются подновить кое-какие культы, вытащенные из старого революционного арсенала. И этим думают соперничать с церковью[40][40]
Возможно, Стравинский имеет в виду ритуальные церемонии времен Великой французской революции (вроде возложения скрижалей Конституции на алтарь Отечества в 1793 г). Однако из контекста его предшествующих филиппик по поводу «кощунственного» смешения искусства и религии можно заключить, что к «культам из старого революционного арсенала» Стравинский, пишущий свою книгу в 1930-х г. г, мог причислить и театральные утопии в России 1910-х г.г. с их идеей театра-храма, и скрябинские притязания в его неосуществленной «Мистерии».
[Закрыть]!
Но возвратимся к Весне священной. Я должен прежде всего сказать с полной откровенностью, что мысль о работе с Нижинским меня смущала, несмотря на наши добрые, товарищеские отношения и на все мое восхищение его талантом танцовщика и актера. Отсутствие у него самых элементарных сведений о музыке было совершенно очевидным. Бедный малый не умел читать ноты, не играл ни на одном инструменте[41][41]
Нижинский, как и все учащиеся Петербургского хореографического училища, конечно, обучался музыке, в том числе игре на рояле. Однако настоящих навыков профессионального музыканта, какими, к примеру, владел Дж. Баланчин, свободно читавший оркестровую партитуру, он не приобрел. Его сестра Бронислава Нижинская свидетельствует, что «у Вацлава не хватало терпения разбирать» пьесу по нотам и, одаренный превосходной музыкальной памятью, он «предпочитал играть по слуху». В его репертуаре в юные годы были увертюры к «Евгению Онегину», «Пиковой даме», «Руслану и Людмиле», «Фаусту». Он любил также петь арии из опер, аккомпанируя себе на рояле. «С самого раннего детства Вацлав обладал способностью играть на всех инструментах, которые попадали к нему в руки, – вспоминает Бронислава. – Без специальных занятий он освоил аккордеон, кларнет и флейту… На балалайке Вацлав играл просто виртуозно» (Б. Нижинская, с. 193). Но, разумеется, освоить сложнейшую в интонационном и ритмическом отношении партитуру Весны священной вез предварительной подготовки с помощью самого композитора ему было бы не под силу.
[Закрыть]. Свои музыкальные впечатления он высказывал в самых банальных выражениях или попросту повторял то, что говорилось кругом. А так как собственных суждений он никогда не высказывал, приходилось сомневаться в том, что они вообще у него были. Пробелы в его образовании были настолько значительны, что никакие пластические находки, как бы прекрасны они иногда ни бывали, не могли их восполнить* Мож* но себе представить, как все это меня тревожило. Но выбора у меня не было. Фокин расстался с Дягилевым, да к тому же, при своих эстетических склонностях, вряд ли бы он согласился ставить Весну[42][42]
Фокин покинул антрепризу Дягилева после окончания сезона 1912 г. Позднее Стравинский высказывал сомнение в том, что Фокин взялся бы ставить Весну священную, если бы такое предложение было сделано, – и не только из-за испорченных отношений с Дягилевым, но и из-за «своих эстетических склонностей», в силу которых он вряд ли бы принял музыку Весны. Однако в 1910 г. Стравинский и Рерих, обсуждая будущий балет, не видели никакого иного балетмейстера для Весны, кроме Фокина. В письме к Рериху от 12 июня 1910 г. Стравинский сожалеет о том, что «Дягилев с Фокиным как будто бы форменно разошлись», и возмущается тем, что «Дягилев даже не поинтересовался узнать, хотим ли мы работать с кем-либо иным» (Переписка /, с. 226).
[Закрыть]. Романов был занят «Саломеей» Флорана Шмитта. Оставался, следовательно, только Нижинский, и Дягилев, все еще не теряя надежды сделать из него балетмейстера, настаивал на том, чтобы он взялся за постановку Весны священной и «Игр» Дебюсси в том же сезоне.
Нижинский начал с того, что потребовал для этого балета фантастическое количество репетиций, которые практически дать ему было невозможно. Это требование станет понятным, если я скажу, что, когда я начал ему объяснять в общих чертах и в деталях структуру моего произведения, я сразу же заметил, что ничего не добьюсь, пока не ознакомлю его с самыми элементарными основами музыки: длительностью нот (целые, половинные, четверти, восьмые и т. п.), метром, темпом, ритмом и т. д. Усваивал он все это с большим трудом. Но это еще не все. Когда, слушая музыку, он обдумывал движения, надо было все время ему напоминать о согласовании их с метром, его делениями и длительностью нот. Это был невыносимый труд, мы двигались черепашьим шагом. Работа затруднялась еще и потому, что Нижинский усложнял и сверх меры перегружал танцы, чем создавал иногда непреодолимые трудности для исполнителей. Происходило это столько же от его неопытности, сколько от сложности самой задачи, с которой он сталкивался впервые.
В этих условиях мне не хотелось покидать его: я хорошо к нему относился, и к тому же я не мог не думать о судьбе моего произведения. Мне приходилось много разъезжать, чтобы присутствовать на репетициях труппы, которые происходили этой зимой в тех городах, где Дягилев давал свои спектакли. Атмосфера на этих репетициях бывала тяжелой и даже грозовой. Было ясно, что на бедного малого взвалили непосильный для него труд.
Сам он, по-видимому, не понимал ни своей неспособности, ни того, что ему дали роль, которую он не был в состоянии сыграть в такой серьезной антрепризе, как «Русские балеты». Видя, что его престиж в глазах труппы колеблется, но имея сильнейшую поддержку в лице Дягилева, он становился самонадеянным, капризным и несговорчивым. Это, естественно, приводило к частым и неприятным стычкам, что в высшей степени осложняло работу.
Мне не надо оговариваться, что, рассказывая все это, я далек от желания нанести ущерб славе этого великолепного артиста. Наши взаимоотношения всегда оставались прекрасными. Я никогда не переставал восхищаться его огромным талантом танцовщика и актера – об этом я упоминал уже раньше. И его образ останется в моей памяти – и, надеюсь, в памяти всех тех, кто имел счастье видеть его на сцене, – как одно из самых прекрасных театральных воплощений.
Но сейчас, когда имя этого большого артиста, ставшего, увы, жертвой неизлечимой душевной болезни, уже принадлежит истории, я бы погрешил перед истиной, если бы стал поддерживать смешение понятий в оценке его дарования как исполнителя и как балетмейстера. Из всего, что я только что сказал, явствует, что в этом смешении понятий был повинен не кто иной, как сам Дягилев, но, однако, повторяю, это никак не может уменьшить моего глубокого преклонения перед покойным другом. По правде сказать, я в то время старался не высказывать Нижинскому свои взгляды на его работу как постановщика. Мне не хотелось этого делать: надо было щадить его самолюбие, и к тому же я знал наперед, что и склад его ума, и характер таковы, что подобный разговор был бы и тяжелым, и бесполезным. В разговорах же с Дягилевым я к этому несколько раз возвращался. Тот, однако, стоял на своем и продолжал поддерживать Нижинского на этом пути, то ли считая, что способности к пластическому восприятию являются главным элементом искусства балетмейстера, то ли не теряя надежды, что дарование, которое, по-видимому, отсутствовало у Нижинского, проявится неожиданно не сегодня-завтра[43][43]
Эта уничижительная характеристика Нижинс-кого-балетмейстера резко противоречит отношению Стравинского к работе Нижинского, которую он наблюдал на репетициях балета перед премьерой спектакля в Театре Елисейских полей. Через четыре дня после скандальной премьеры Стравинский говорит о работе Ни-жинского-хореографа: «Нижинского критиковали за его хореографию; кто-то сказал, что она не соотносится с музыкой. Они ошибаются, Нижинский превосходный художник. Он способен совершить подлинную революцию в искусстве балета. Он не только восхитительный танцор, но и новатор. Его вклад в создание “Весны священной” очень значителен» (из интервью парижской газете «Gil Bias» 4 июня 1913 г.: Интервью, с. 19). В письме к М.О. Штейнбергу из Нейи 3 июля 1913 г. Стравинский отзывается о постановке Весны почти восторженно: «Хореография Нижинского бесподобна. За исключением очень немногих мест все так, как я этого хотел… В том, что мы сделали, я уверен, и это дает мне силы для дальнейшей работы» (Переписка //, с. 99–100). Позднее, касаясь разрыва Дягилева с Нижинским, Стравинский пишет в письме к Бенуа из Кларана: «.. для меня же, быть может, надолго отнята возможность увидеть что-либо ценное в области хореографии и, что еще важней, увидеть мое детище, с такими невероятными усилиями получившее хореографическое воплощение» (Переписка //, с. 146). Критические высказывания по поводу дарования Нижинского-хореографа сохраняются и в «беседах» с Крафтом в 50-е г.г. Однако под конец жизни, в разговоре с Ю.Н. Григоровичем в 1966 г, Стравинский неожиданно признается, что «лучшим воплощением “Весны”» он считает «постановку Нижинского» (цит. по кн.: Красовская, с. 157), А в 1968 г., читая монографию И. Вершининой «Ранние балеты Стравинского» (Л., 1967), композитор сделал в тексте лаконичное, но весьма характерное исправление. В осторожной фразе автора о том, что «укоренившееся мнение относительно полной неудачи или даже провала первой версии “Весны” не вполне справедливо», Стравинский зачеркнул не перед словом вполне и переставил его перед словом справедливо (получилось: вполне несправедливо).
[Закрыть].
В течение зимы 1912/13 года, живя в Кла-ране, я все время работал над партитурой Весны священной, и эти занятия прерывались лишь свиданиями с Дягилевым, который приглашал меня присутствовать на премьерах Жар-птицы и Петрушки в различных городах Центральной Европы, где гастролировали «Русские балеты».
Мое первое путешествие было в Берлин. Помню спектакль, который шел в присутствии кайзера, императрицы и их свиты. Давали «Клеопатру» и Петрушку. Все симпатии Вильгельма были, естественно, на стороне «Клеопатры». Приветствуя Дягилева, он заявил ему, что пришлет своих египтологов посмотреть этот спектакль и на нем поучиться. По-видимому, он принял красочную фантазию Бакста за тщательное воссоздание исторической обстановки, а партитуру со всей ее мешаниной – за откровение древнеегипетской музыки. На спектакле, где давали Жар-птицу, я познакомился с Рихардом Штраусом[44][44]
Стравинский приехал в Берлин во второй половине ноября 1912 г. Гастроли в «Кролль-Опер» открылись 21 ноября Жар-птицей, после спектакля Стравинский впервые познакомился с Рихардом Штраусом. Свои впечатления о Берлине композитор описал в письме к Бенуа от 15 декабря 1912 г уже из Кларана: «Несколько слов о Берлине… Там нет ничего. Скука зеленая. Штраус, царствующий в Берлине, как, скажем, у нас Глазунов с Лядовым, был со мной очень любезен, а в зале говорил, прослушавши “Петрушку”, что иногда не без удовольствия прослушивает сочинение своего подражателя – нет, какая сволочь!.. Театр [ «Кролль-опер»] старый, но нехороший. Оркестр поразителен, играл “Петрушку” великолепно. Вот бы Вам послушать [!]» (Переписка /, с. 385).
[Закрыть]» Он пришел ко мне на сцену и проявил большой интерес к моей партитуре. Между прочим, он сказал мне очень забавную вещь: «Вы делаете большую ошибку, начиная вашу пьесу с “пианиссимо”. Публика не станет вас слушать. Надо прежде всего поразить ее большой силой звучания. Тогда она за вами пойдет, и вы можете делать все, что хотите»
В Берлине мне представился также случай познакомиться с музыкой Шёнберга, который пригласил меня на исполнение своего «Лунного Пьеро», Эстетская сущность этого произведения отнюдь не привела меня в восторг, и оно показалось мне возвратом к устарелым временам культа Бердслея. Зато бесспорной удачей, на мой взгляд, было оркестровое решение партитуры[45][45]
Арнольд Шёнберг – австрийский композитор, дирижер, музыкальный теоретик, педагог и художник. Ко времени знакомства со Стравинским им уже были созданы: струнный секстет «Просветленная ночь» (1899), симфоническая поэма «Пеллеас и Мелйзанда» (1903), моноопера «Ожидание» (1909), «Песни Гурре» (1911) и мелодрама «Лунный Пьеро» (1912). Стравинский был на исполнении «Лунного Пьеро» 8 декабря 1912 г в Хоралион-зале на Бельвюштрассе, 4 (Вена). Дирижировал автор. Знакомство произошло во время берлинских гастролей «Русского балета» на спектакле Петрушка, после чего последовало приглашение на «Лунного Пьеро». Впечатления Стравинского тогда не выглядели такими критическими, как пассаж из «Хроники». Под свежим впечатлением от прослушанного Стравинский писал В.Г. Каратыгину из Кларана 26 декабря 1912 г.: «Увидел я из Ваших строк [речь идет об отзыве Каратыгина на выступление Шёнберга в Петербурге. – И. В.]7 что Вы действительно любите и понимаете суть Шёнберга – этого поистине замечательного художника нашего времени, поэтому я думаю, что Вам небезынтересно было бы узнать его самое последнее сочинение [ «Лунный Пьеро». – И. В.], где наиболее интенсивно явлен весь необычный склад его творческого гения» (Переписка /, с. 395). В январском интервью 1913 г. лондонской газете «Daily Mail» Стравинский назвал Шёнберга «одним из величайших творцов нашего времени» (цит. по кн.: Walsh, р. 190: см. также: Шёнберг).
[Закрыть].
Будапешт, куда мы затем поехали, показался мне очень приятным городом. Народ там общительный, пылкий и доброжелательный, и мои балеты Жар-птица и Петрушка имели огромный успех[46][46]
В Будапеште Стравинский вместе с труппой Дягилева находился с 4 по 7 января 1913 г. 8 января они переехали в Вену, где пробыли до 16 января, после чего Стравинский вернулся в Кларан.
[Закрыть]. Когда же через много лет я снова очутился в Будапеште, я был глубоко тронут тем, что меня встречали как старого знакомого. Зато от моего первого посещения Вены у меня сохранился, скорее, какой-то горький осадок. Враждебность, с которой оркестр отнесся на репетициях к музыке Петрушки, была для меня совершенно неожиданной. Ни в одной стране я не видал ничего подобного. Я допускаю, что в те годы для такого консервативного оркестра, каким был венский, многие элементы моей музыки могли оказаться неприемлемыми. Но я никак не ожидал, что его отвращение дойдет до явного саботирования репетиций и до громогласных грубых реплик вроде: «schmutzige Musik» [грязная музыка. – нем.][47][47]
Инциденте оркестрантами Венской оперы произошел на репетиции Петрушки. Стравинский был не удовлетворен звучанием оркестра и попросил увеличить его состав. На это оркестранты возразили, что даже Вагнера играют в своем обычном составе, а когда Стравинский продолжал настаивать, покинули репетицию и отказались играть Петрушку. В.П. Варунц в своем комментарии цитирует интервью Дягилева газете «Новости сезона»: «Претензии оркестрантов, выраженные в крайне грубой форме, были просто смешны. Так, например, музыкант, играющий на тубе, уверял, что на этом инструменте нет тех нот, какие написал Стравинский, а гобоист просто нелестно отозвался о русской музыке и заявил, что понять ее он не в состоянии…» (Переписка II, с. 8). Впрочем, этот инцидент не помешал успеху спектаклей. Дягилев телеграфировал Стравинскому в Кларан (композитор не стал дожидаться конца гастролей): «Второе представление “Петрушки” [прошло] с большим успехом* Четыре раза по единодушному желанию поднимали занавес» (Переписка //, с. 9).
[Закрыть]. Впрочем, враждебность эту разделяла и вся администрация. Ненависть ее главным образом обрушивалась на управляющего придворной оперой, пруссака по Национальности, так как именно он пригласил Дягилева со всею его труппой, – венский императорский балет бесился от зависти. Помимо всего прочего, русские были тогда в Австрии не в чести из-за политического положения, в то время уже довольно напряженного. Тем не менее представление Петруш-ки прошло без протестов и даже, пожалуй, не без успеха, несмотря на старомодные вкусы и привычки венцев. Совершенно неожиданно меня утешил один из служащих сцены, обязанностью которого было поднимать занавес. Я случайно стоял около него. Видя, что я огорчен отношением ко мне оркестра, старый добряк с бакенбардами а-ля Франц-Иосиф ласково похлопал меня по плечу и сказал: «Не надо огорчаться. Я тут уже пятьдесят пять лет служу. У нас это не в первый раз. Так было и с “Тристаном”».
У меня еще будет случай говорить о Вене. Теперь же вернемся в Кларан.
Параллельно с близившейся к окончанию инструментовкой Весны священной я работал над другим сочинением, которое принимал очень близко к сердцу. Летом я прочел небольшой сборник японской лирики со стихотворениями старинных авторов, состоявшими всего из нескольких строк[48][48]
Стравинский прочитал сборник переводов японских стихов (Японская лирика. Пер. А. Брандта. СПб., 1912) летом 1912, а не 1913 г., как может показаться из текста «Хроники». Под впечатлением прочитанного был создан вокальный цикл Три стихотворения из японской лирики для высокого голоса и девяти инструментов (1912–1913 г.г.).
[Закрыть]. Впечатление, которое они на меня произвели, до странности напомнило мне то, которое когда-то произвела на меня японская гравюра. Графическое разрешение проблем перспективы и объема, которое мы видим у японцев, возбудило во мне желание найти что-либо в этом роде и в музыке. Русский перевод этих стихотворений как нельзя лучше подходил для моей цели; общеизвестно ведь, что русская поэзия допускает лишь тоническое ударение. Я принялся за эту работу и добился того, чего хотел, обратившись к метрике и ритму; однако было бы слишком сложно объяснять здесь, как я это сделал[49][49]
В письме В.В. Держановскому Стравинский объясняет, как он «это сделал». Позднее Держановский опубликовал письмо в своем еженедельнике «Музыка» (1913, № 159. С. 834–835); «Ударений как в японском языке, так и в японских стихотворениях, не существует… Этими соображениями – отсутствием ударений в японских стихотворениях – я и руководствовался главным образом при сочинении своих романсов. Но как было этого достичь? Самый естественный путь был – перемещение долгих слогов на музыкальные краткие. Акценты должны были, таким образом, исчезнуть сами собой, чем достигалась бы в полной мере линеарная перспектива японской декламации».
[Закрыть]. К концу зимы Дягилев поручил мне другую работу. Решив поставить для парижского сезона оперу Мусоргского «Хованщина», как известно, не вполне законченную автором, Дягилев просил меня заняться ею. Римский-Корсаков уже аранжировал это произведение по-своему, и в России оно было издано и шло на сцене в его редакции.
Не удовлетворенный тем, как РиМский-Корсаков трактовал произведение Мусоргского, Дягилев стал изучать подлинные рукописи «Хованщины», собираясь осуществить новую редакцию. Он попросил меня оркестровать те части, которые не были оркестрованы автором, и сочинить финальный хор, записанный Мусоргским только в виде мелодии подлинной русской песни. Когда я увидел все, что мне предстояло сделать (мне же ведь еще надо было окончить партитуру Весны священной), я попросил Дягилева разделить эту работу между Равелем и мной. Он охотно согласился, и Равель приехал в Кларан, где я тогда жил, чтобы работать вместе со мною. Мы с ним условились, что я буду оркестровать два фрагмента оперы и напишу последний хор, а он займется всем остальным. Наша работа, по замыслу Дягилева, должна была представлять одно целое с авторской партитурой[50][50]
Заказ Дягилева Стравинскому инструментовать купированные Римским-Корсаковым сцены из авторского клавира «Хованщины» Мусоргского и написать заново финальный хор по материалам Мусоргского поступил, по-видимому, в начале 1913 г. Стравинский, занятый инструментовкой Весны священной, пригласил к сотрудничеству М. Равеля. «Равель приехал в Кларан пожить со мной, – вспоминает композитор, – и мы работали вместе в марте – апреле 1913 г.» (Диалоги, с. 97).
[Закрыть]. К несчастью, эта новая редакция представляла собой еще более пеструю композицию, чем предыдущая, так как в ней была сохранена большая часть аранжировки Римского-Корсакова, сделано несколько купюр, переставлен или просто изменен порядок сцен, а финальный хор Римского-Корсакова заменен моим. Кроме упомянутой работы, я не принимал никакого участия в этой редакции, будучи всегда убежденным противником всякой аранжировки существующего произведения, сделанной не самим автором, а кем-то другим, в особенности же когда дело касалось такого мудрого и уверенного в себе художника, как Мусоргский. Этот принцип, по моему мнению, был нарушен в одинаковой мере и в компиляции Дягилева, и в мейерберизации такого произведения, как «Борис Годунов», предпринятой Римским-Корсаковым.
Во время пребывания Равеля в Кларане я сыграл ему свои японские стихи. Лакомый до ювелирной инструментовки и чуткий к тонкостям письма, он сразу же увлекся ими и решил создать что-либо аналогичное. Вскоре он сыграл мне свои очаровательные «Три стихотворения Малларме»
Я подхожу к парижскому сезону весны 1913 года, когда Театр Елисейских полей торжественно открылся «Русскими балетами».
Первое представление началось с возобновления Жар-птицы. Весна священная шла 28 мая вечером[51][51]
Премьера Весны священной состоялась не 28, а 29 мая 1913 г на сцене парижского Театра Елисейс-ких полей.
[Закрыть]. Я воздержусь от описания скандала, который она вызвала. О нем слишком много говорили. Сложность моей партитуры потребовала большого количества репетиций, которые Монтё провел со свойственными ему тщательностью и вниманием. Я не имел возможности судить об исполнении во время спектакля, так как покинул зал после пёрвых же тактов вступления, которые сразу вызвали смех и издевательства. Меня это возмутило. Выкрики, вначале единичные, слились потом в общий гул. Несогласные с ними протестовали, и очень скоро шум стал таким, что нельзя было уже ничего разобрать. До самого конца спектакля я оставался за кулисами рядом с Нижинским. Он стоял на стуле и исступленно кричал танцующим: «шестнадцать, семнадцать, восемнадцать.» (у них был свой особый счет, чтобы отбивать такты) Бедные танцовщики, конечно, ничего не слышали из-за суматохи в зале и собственного топота. Я должен был держать Нижинского за платье; он был до того взбешен, что готов был ринуться на сцену и устроить скандал. Надеясь, что этим ему удастся прекратить шум, Дягилев давал осветителям приказания то зажигать, то тушить свет в зале. Вот все, что осталось у меня в памяти от этой премьеры. Странное дело, на генеральной репетиции, где присутствовали, как всегда, многие артисты, художники, музыканты, писатели и наиболее культурные представители общества, все прошло при полном спокойствии, и я был далек от мысли, что спектакль может вызвать такую бурю.
Сейчас, более чем через двадцать лет, мне, конечно, очень трудно восстановить в памяти хореографию Весны священной во всех ее деталях, не поддавшись влиянию того дешево стоящего восхищения, которое она вызвала в так называемых передовых кругах, готовых принять как откровение все, что отличается от «уже виденного». В общем же мне кажется сейчас, как, впрочем, казалось и тогда, что Нижинский отнесся к этой постановке несерьезно. В ней ясно проявилась его неспособность усвоить те смелые мысли, которые составляли кредо Дягилева и которые Дягилев упрямо и старательно ему внушал. Во всех танцах ощущались какие-то тяжелые и ни к чему не приводящие усилия, и не было той естественности и простоты, с которыми пластика должна всегда следовать за музыкой. Как все это было далеко от того, что я хотел!
Сочиняя Весну священную, я представлял себе сценическую сторону произведения как ряд совсем простых ритмических движений, исполняемых большими группами танцоров, движений, непосредственно воздействующих на зрителя без излишних форм и надуманных усложнений. Только финальная «Священная пляска» предназначалась солистке* Музыка этого фрагмента, ясная и четкая, требовала соответствующего танца, простого и легко схватываемого. Но и здесь Нижинский, хотя и усвоил драматический характерэтого танца, оказался беспомощным передать его сущность доступным языком и осложнил его по оплошности или по недостатку понимания. В самом деле, разве это не оплошность непроизвольно замедлить темп музыки лишь для того, чтобы иметь возможность сочинить сложные па, которые в дальнейшем, при исполнении музыки в указанном темпе, становятся невыполнимыми. Недостатком этим грешат многие балетмейстеры, но я не знал никого, кто бы страдал им в такой степени, как Нижинский.
Прочтя то, что я пишу о Весне священной, читатель, может быть, будет удивлен, что я так мало говорю о музыке своего произведения. Я сознательно от этого воздерживаюсь, чувствуя себя совершенно неспособным припомнить через двадцать лет то, что волновало меня в то время, когда я писал свою партитуру.








