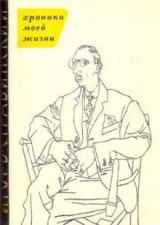
Текст книги "Хроника моей жизни"
Автор книги: Игорь Стравинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
В тот год мне совсем не пришлось отдыхать– Я провел лето в Эшарвине на озере Ан-неси. Сняв комнату в доме каменщика у самой дороги, я поставил туда рояль. Я никогда не мог сосредоточенно работать, если знал, что кто-то в это время меня слышит. Поэтому я считал невозможным ставить рояль в пансионе, где жил со своей семьей. Я выбрал эту уединенную комнату, надеясь найти в ней, вдали от надоедливых соседей, тишину и уединение. Рабочий, который сдавал мне комнату, занимал остальное помещение сам с женой и детьми. Он уходил с утра, и наступала тишина, которая длилась до полудня, когда он возвращался с работы. Все садились за стол* Сквозь щели перегородки, отделявшей меня от них, ко мне в комнату врывался едкий и тошнотворный запах салами и прогорклого масла, от которого меня мутило. Каменщик начинал грубить своим домашним, которые отвечали ему тем же, а потом, выйдя из себя, набрасывался с дикой руганью на жену и детей. Жена сначала пыталась что-то ему возразить, а потом разражалась рыданиями, хва^ тала ревущего ребенка и убегала; муж гнался за нею. Все это повторялось изо дня в день с безысходной методичностью. С отчаянием и тоской ждал я приближения последнего часа моих утренних занятий. К счастью, мне не надо было возвращаться туда после обеда, время это я посвящал работам, в которых мог обойтись без рояля. Как-то раз вечером, когда я спокойно сидел с сыновьями на террасе пансиона, в ночной тишине раздались душераздирающие крики: звали на помощь. Я сразу же узнал голос жены каменщика. Вместе с сыновьями я быстро перебежал через небольшую лужайку, отделявшую нас от дома, откуда доносились крики. Все было тихо. Очевидно, там услыхали наши шаги. На другой день по просьбе хозяина пансиона мэр деревни, которому были известны нравы этой прелестной семейки, сделал выговор бесноватому каменщику за его грубость* И тут повторилась знаменитая сцена из «Лекаря поневоле». Подобно Мартине, жена решительно приняла сторону мужа и заявила, что не имеет никакого повода на него жаловаться.
Вот в какой атмосфере я работал над партитурой Поцелуя феи.
Я был еще занят окончанием музыки Аполлона, когда в конце 1927 года получил предложение г-жи Иды Рубинштейн написать балет для ее спектаклей. Художник Александр Бенуа, работавший с ее труппой, предложил мне два варианта. Один из них имел все основания меня заинтересовать. Предстояло создать произведение, вдохновленное музыкой Чайковского[31][31]
12 декабря 1927 г. Бенуа писал Стравинскому из Парижа: «Имеется целых два проекта Тебя эксплуатировать… Первый проект – c’est du Tchaikovsky а tr avers Straw insky [это Чайковский через Стравинского]. У меня уже давным-давно было желание сделать что-либо на музыку дяди Пети не специально балетную. На самом деле дядя Петя всю жизнь (сам, быть может, того не осознавая) только и писал “балеты”, и все эти сокровища вызывают самые увлекательные мысли зрелищного порядка, вынужденные лежать под спудом, и не получают своей пластической реализации». Далее Бенуа предлагает «набрать вещей фортепианных, которые бы сочетать в порядке, подчиненном известному сюжету; еще лучше – к которым, раз уже сочетавшимся по чисто музыкальным affinities [свойствам], сюжет затем был бы подобран» (Переписка III, с. 259). Бенуа называет 15 пьес из разных фортепианных сборников: это и «Времена года», и опусы 51, 40, 19, и кончает письмо следующими словами: «Нравится Тебе самая идея почтить дядю Петю и сделать нечто новое из него же самого? Если нравится, если в отношении этого божественного человека Тебе интересно повторить то, что Ты уже сделал в отношении другого божественного человека – Перголези, то воскликни просто “великолепно” и дело окажется в шляпе» (там же). Стравинский воспользовался идеей Бенуа создать балет-пастиччо наподобие Пульчинеллы и включил в партитуру фрагменты многих фортепианных пьес, предложенных Бенуа, добавив к ним и другие. Кроме того, он использовал материал из трех вокальных пьес: «Колыбельная песня в бурю», тема которой открывает и завершает балет, романсы «И больно, и сладко» и «Нет, только тот, кто знал». Полный перечень тем, использованных в Поцелуе феи см.: Переписка III, с. 261–262, коммент. 6 к№ 1413,
[Закрыть].
Я нежно любил творчество Чайковского, и к тому же спектакли намечались на ноябрь и должны были совпасть с 35-летней годовщиной со дня его смерти. Все это побудило меня принять предложение. Я получал возможность принести свою искреннюю дань восхищения замечательному таланту этого композитора.
Мне предоставили полную свободу выбора сюжета и сценария балета, и я принялся за поиски подходящей канвы в литературе XIX века, близкой по духу музыке Чайковского. Мысли мои обратились к большому поэту с нежной и чуткой душой, чья беспокойная натура, одаренная богатым воображением, во многом была родственна Чайковскому, – к Хансу-Кристиану Андерсену, с которым у него в этом отношении было много общего. Достаточно вспомнить «Спящую красавицу», «Щелкунчика», «Лебединое озеро», «Пиковую даму» и ряд других вещей в его симфоническом творчестве, чтобы убедиться, насколько все фантастические сюжеты были близки его сердцу.
Перелистывая хорошо знакомые сочинения Андерсена, я наткнулся на давно забытую сказку, которая показалась мне как нельзя более подходящей для моего замысла. Это была чудесная сказка «Ледяная дева», Я взял эту тему и развил ее следующим образом. Фея отмечает своим таинственным поцелуем ребенка в день рождения и разлучает его с матерью. Двадцать лет спустя, в ту минуту, когда молодой человек достигает величайшего счастья, фея вновь дарит ему роковой поцелуй и похищает у Земли, чтобы вечно обладать им в мире высшего блаженства. Я собирался почтить творчество Чайковского, и сюжет этот показался мне тем более подходящим, что я видел в нем некую аллегорию: муза точно так же отметила великого композитора своим роковым поцелуем, таинственная печать которого ощутима во всех его творениях. В том, что касалось постановки, я дал полную свободу художнику и балетмейстеру, но все же моим тайным желанием было поставить мое произведение в духе классического балета по примеру Аполлона. Я представлял себе, что танцы фантастических персонажей будут исполнены в белых пачках, в сельских же сценах, которые развертываются среди швейцарского пейзажа, действующие лица, одетые в костюмы туристов, будут смешиваться с толпою приветливых традиционно-театральных поселян.
Все лето я не двигался с места, если не считать одного концерта в Шевенингене[32][32]
В начале сентября 1928 г. Стравинский сыграл в Шевенингене свой Концерт для фортепиано и духовых.
[Закрыть]. У меня было очень мало времени на выполнение этой довольно кропотливой работы, так как сроки спектаклей г-жи Рубинштейн были не за горами.
Я терпеть не могу, когда меня торопят, и каждый раз боюсь, что в последнюю минуту могут явиться какие-либо непредвиденные помехи. Поэтому я пользовался каждым часом, который у меня был, чтобы подвинуть мое сочинение возможно дальше и ничего не откладывать. Я считал, что утомление в начале работы не так страшно, как гонка в конце.
Насколько я боялся растрачивать свое время по мелочам, можно судить по следующему маленькому эпизоду. Когда я ехал в Париж, чтобы вернуться оттуда в Ниццу, я заметил, проснувшись утром в поезде, что мы находимся вовсе не в предместье Парижа, а где-то среди совершенно незнакомого мне пейзажа. Мне сказали, что ввиду большого количества добавочных поездов для возвращающихся с каникул наш поезд был направлен на Невер и придет в Париж с четырехчасовым опозданием. Не было ни одной станции, где можно бы было поесть, негде даже было достать кусок хлеба, но я, тем не менее, обрадовался неожиданному приключению и все эти четыре часа работал в своем купе.
Настоятельная необходимость закончить музыку балета и инструментовку в короткий срок помешала мне следить за работой Брониславы Нижинской, которая ставила танцы по мере того, как я посылал ей законченные части из Эшарвина и Ниццы. Поэтому я смог ознакомиться с ее хореографией лишь незадолго до первого спектакля, когда главные сцены были уже поставлены. Некоторые моменты были удачны и достойны таланта Нижинской. Но зато оказалось немало других, с которыми я не мог согласиться и постарался бы изменить их, если бы присутствовал с самого начала на репетициях. Но было уже поздно вмешиваться в ее работу, и волей-неволей пришлось все оставить, как есть. Нет ничего удивительного, что при таких обстоятельствах хореография Поцелуя феи не слишком-то меня восхитила.
Мне великодушно предоставили четыре репетиции с прекрасным оркестром Оперы. Они были очень трудоемкими, так как всякий раз мне приходилось страдать от ужасной системы переходящих выходных дней, которая пагубно отражается на исполнении. Дело в том, что на каждой репетиции тот или иной оркестрант может быть неожиданно заменен другим. В связи с этим стоит вспомнить забавную историю, которую часто рассказывают, приписывая ее то одному, то другому дирижеру. Дирижер этот, приведенный в отчаяние тем, что на репетициях за пультами каждый раз появлялись новые лица, обратил на это внимание артистов оркестра, призвав их всех следовать примеру одного оркес-транта-солиста, который аккуратно присутствовал на всех репетициях. И вот, выслушав слова дирижера, музыкант этот встает, благодарит его и заявляет, что он очень сожалеет, но в день концерта его будет заменять другой.
Этот балет прошел два раза под моим управлением в «Гранд-Опера» на спектаклях г-жи Рубинштейн (27 ноября и 4 декабря), один раз в «Театр де ла Монне» в Брюсселе и один раз в Монте-Карло. Эти два спектакля были великолепно проведены, один – Корнелем де Тораном, другой – Густавом Клоцем. В последний раз балет Поцелуй феи шел приблизительно в тот же период в Милане, в театре «Ла Скала*, после чего г-жа Рубинштейн сняла его с репертуара[33][33]
В «Театр де ла Монне» в Брюсселе Поцелуй феи под управлением Корнеля де Торана исполнялся трижды: 7, 10 и 12 декабря 1928 г. Стравинский присутствовал на первом спектакле, и его похвала по адресу дирижера странным образом противоречит отзыву о спектакле в письме Ансерме от 11 декабря по возвращении из Брюсселя: «Брюссельские спектакли произвели тягостное впечатление: перерывы между картинами длились от пяти до восьми минут. Поэтому музыкальные связки – я имею в виду переходы, которые Вам известны, – были совершенно потеряны, партитура буквально рассыпалась» (Переписка III, с. 330, коммент. 3 к № 1498).
Спектакль Поцелуй феи в Монте-Карло под управлением Густава Клоца состоялся 7 января 1929 г. Поцелуи феи исполнялся также труппой Иды Рубинштейн во время гастролей в Италии в 1929 г, после чего был снят с репертуара труппы.
[Закрыть]. Несколько лет спустя Бронислава Нижинская поставила этот балет заново в театре «Колонн» в Буэнос-Айресе, где еще до этого показала Свадебку[34][34]
Б. Нижинская поставила Поцелуй феи в Буэнос-Айресе в театре «Колонн» под управлением Ансерме в 1933 г. Свадебка была поставлена ею на той же сцене в 1926 г.
[Закрыть]. Оба произведения имели большой успех. Впрочем, это был не единственный случай. За последние восемь лет большинство моих симфонических и театральных сочинений часто испол-нялось в Буэнос-Айресе, и публика этого города могла составить себе о них вполне правильное представление благодаря прекрасному управлению Ансерме[35][35]
В течение десяти лет начиная с 1923 г., в периоды весенне-осенних сезонов Ансерме дирижировал оркестром театра «Колонн» и таким образом способствовал созданию национального симфонического оркестра Аргентины высокого класса.
[Закрыть].
По примеру других моих балетов я сделал из Поцелуя феи оркестровую сюиту, которая ввиду небольшого состава оркестра может быть исполнена без особых трудностей. Я часто ею дирижирую и тем более люблю это делать, что здесь я испробовал новую для меня манеру письма и оркестровки и что все эти приемы я мог свободно раскрыть моим слушателям через такую музыку, которая легко воспринимается с первого же раза.
В начале сезона 1928/29 года образовалась новая организация, известная под названием Парижского симфонического оркестра [Orchestre Symphonique de Paris; O.S.P.], созданная благодаря стараниям Ансерме, который стал ее главным дирижером. Приглашенный этой организацией, я дирижировал в ноябре двумя концертами в Театре Елисейских полей, и для меня было истинным удовольствием работать с этими молодыми, прекрасно дисциплинированными музыкантами, полными доброй воли[36][36]
Новый Симфонический оркестр Парижа, образованный осенью 1928 г., дал свои первые концерты в помещении Театра Елисейских полей. Стравинский дирижировал двумя концертами, 16 и 17 ноября, на которых были исполнены его ранние сочинения: Симфония Ми-бемоль мажор, Фантастическое скерцо, Сюита из Жар-птицы (редакция 1910 г.), Петрушка, а из более поздних сочинений – Аполлон, оркестровая версия Этюда для пианолы «Мадрид», обе Сюиты для малого оркестра и Песня волжских бурлаков («Эй, ухнем»).
[Закрыть]. Там не было этой отвратительной системы переходящих выходных дней, на которую жалуются все дирижеры и от которой мне самому пришлось страдать через несколько дней на репетициях Поцелуя феи.
Приблизительно в это время я заключил контракт на несколько лет с крупной компанией граммофонных пластинок «Коламбия», которая приобретала монопольное право на запись моих произведений в моем исполнении как пианиста и как дирижера. Работа эта меня очень интересовала, так как тем самым я получал возможность уточнять и закреплять все, что я сочинял, гораздо лучше, чем на механических нотных роликах.
И действительно, пластинки эти, очень совершенные в техническом отношении, имеют значение документов, которые могут служить руководством для исполнения моей музыки. К несчастью, очень немногие из дирижеров к ним прибегают. Иные даже не интересуются, существуют эти пластинки или нет; что же касается других, то, вероятно, чувство собственного достоинства не позволяет им сверять с этими записями свое исполнение, тем более что познакомившись с такой вот пластинкой, они не смогли бы уже со спокойной совестью интерпретировать произведение на свой лад. Как удивительно все-таки, что в наши дни, когда найден верный и всем доступный способ в точности узнать, чего именно требует автор от исполнителей своего произведения, существуют еще люди, которые не хотят с этим считаться и упрямо придерживаются собственных домыслов!
Таким образом, записанная автором пластинка, к несчастью, не достигает одной из главных целей, а именно защиты прав композитора на установление традиций исполнения его произведения. Об этом тем более приходится пожалеть, что мы имеем здесь дело отнюдь не с фиксацией какого-либо случайного исполнения. Наоборот, записи эти создаются именно для того, чтобы устранить все случайное и выбрать среди различных пробных экземпляров пластинок наиболее удавшийся вариант. Конечно, даже в самой лучшей пластинке могут быть дефекты, как например треск, «фон», слишком сильное или слишком слабое звучание. Но эти недочеты, которые к тому же могут быть в большей или меньшей степени исправлены граммофоном и выбором иголок, ничем не изменяют самого существенного, без чего невозможно составить себе верное представление о музыкальной пьесе; я хочу сказать – темпов и их соотношений.
И когда вспомнишь о том, насколько сложна подобная запись, сколько трудностей с нею сопряжено, сколько здесь возможно разных случайностей и сколько нужно нервного напряжения, чтобы все это выдержать, когда знаешь, что любое несчастное стечение обстоятельств, малейший посторонний звук может все погубить и все придется начинать сначала, – разве не горестно думать, что плоды этого труда так мало используются в качестве документов теми, кого они должны бы интересовать больше всего!
Было бы ошибкой считать, что развязность, с которой «интерпретаторы» относятся к произведениям своих современников, объясняется тем, что последние не пользуются в их глазах достаточным престижем. Старые авторы, несмотря на весь свой авторитет, разделяют ту же судьбу* Достаточно назвать Бетховена и в качестве примера его Восьмую симфонию, в которой точные метрономические указания обозначены самим автором. И что же, разве им следуют? Сколько дирижеров – столько различных темпов* – «А вы слушали мою Пятую? Мою Восьмую*!» Такого рода определения вошли у этих господ в лексикон, и они как нельзя лучше характеризуют их интеллект.
Но, несмотря на все разочарования, я нисколько не жалею о силах и времени, потраченных на эту работу. Меня удовлетворяло сознание того, что слушающие мои пластинки воспринимают мою музыкальную мысль в неискаженном виде, во всяком случае, в ее основных элементах. К тому же эти занятия способствовали развитию моей дирижерской техники. Частое повторение фрагментов пьесы или всего произведения в целом, постоянное напряжение внимания, чтобы не упустить ни одной мелочи (чего за недостатком времени очень трудно добиться на обычных репетициях), необходимость соблюдения абсолютной точности темпа, строго обусловленного временем, – все это вместе взятое является суровой школой, дающей музыканту хорошую тренировку, на которой он извлекает очень много полезного.
Распространение музыки механическими способами с помощью хотя бы, например, пластинок и радиопередач, этих гигантских достижений науки, имеет все данные для того, чтобы развиваться и впредь. Значение этих изобретений для музыки настолько велико, что заслуживает, чтобы их внимательно рассмотрели. Совершенно очевидным преимуществом этих средств является возможность для авторов и исполнителей доходить до широких масс, а для слушателей легко знакомиться с музыкальными произведениями. Но не следует закрывать глаза на то, что в этом преимуществе таится в то же время и большая опасность. В давние времена Иоганну Себастьяну Баху надо было пройти пешком десять лье до соседнего города, чтобы послушать исполнение Букстехуде. Сегодня жителю любой страны достаточно нажать кнопку или поставить пластинку, чтобы иметь возможность прослушать все, что он хочет. И вот именно в этой-то неслыханной легкости, в этом отсутствии всякого усилия и заключается порочность так называемого прогресса. Ибо в му* зыке, более чем в какой-либо другой области искусства, понимание дается лишь тем, кто совершает какое-то действенное усилие. Одного пассивного восприятия недостаточно, слышать известные комбинации звуков и бессознательно привыкнуть к ним вовсе не то же самое, что воспринять и понять их, ибо можно слушать и не слышать, смотреть и не видеть. Отсутствие действенного усилия и привычка к тому, что дается легко, развивает в людях лень[37][37]
Мысль об активном и пассивном восприятии музыкального произведения – от чего, в конечном счете, зависит понимание или непонимание слушателем современной музыки, настойчиво повторяется Стравинским в интервью 30-х г.г. «Активная часть публики, – говорит он, – как бы воспроизводит сам акт сочинения, она воспринимает новый музыкальный стиль, пассивная же публика ограничивается только лишь узнаванием знакомых мелодий, гармоний, ритмов» (Интервью, с. 406). «…Слушание музыки, – говорит он в другом интервью, – должно быть свободным от того, что уже является знакомым, привычным, унаследованным» (Интервью, с. 405). Большое, если не определяющее, значение для понимания музыки имеет, по мнению Стравинского, умение играть на каком-либо инструменте: «Я лично отдаю бесконечное предпочтение барышне, которая играет плохо, глупо, перед той, которая только слушает. Те, кто сами занимаются музыкой, понимают в ней больше, а понимая, больше слышат» (Интервью, с. 111).
[Закрыть]. Им нет нужды идти для этого пешком, как Баху: радио их от этого освобождает. Чтобы ознакомиться с музыкальной литературой, им нет никакой надобности заниматься музыкой и тратить время на изучение инструмента, Все это берут на себя то же радио и пластинки. Тем самым активность слушателя, без которой невозможно воспринять музыку, не находит себе никакого применения и постепенно атрофируется.
Этот недуг, этот прогрессивный паралич чреват исключительно серьезными последствиями. Перенасыщенные звуками, комбинации которых, как бы разнообразны они ни были, перестают восприниматься, люди впадают в какое-то отупение и, теряя способность отличать одно от другого, становятся равнодушными ко всему, даже к качеству произведений, которые им преподносятся.
Более чем вероятно, что такая беспорядочность и такой избыток в питании вскоре отобьют у них всякий аппетит и вкус к музыке. Конечно, всегда будут исключения, и найдутся люди, которые сумеют выбрать из общей груды то, что им действительно нравится. Но что касается масс, то тут есть все основания опасаться, что, вместо того чтобы развить в них любовь и понимание музыки, современные способы ее распространения приведут к результатам прямо противоположным, то есть к равнодушию и неспособности разбираться, ориентироваться и испытывать сколько-нибудь сильные впечатления.
К этому надо присоединить еще музыкальный обман, который состоит в подмене настоящего исполнения его воспроизведением на пластинке и кинопленке или трансляцией на расстояние с помощью электрических волн. Здесь налицо та же разница, которая существует между эрзацем и полноценным продуктом. Опасность кроется во все увеличивающемся потреблении этого эрзаца, который – и этого не следует забывать – еще очень далек от абсолютной тождественности со своим образцом. Постоянная привычка слушать измененные, а подчас и искаженные тембры портит слух, который теряет способность наслаждаться естественным музыкальным звучанием.
Может показаться неожиданным, что такого рода соображения исходят от человека, много работавшего и продолжающего работать в этой области. Мне кажется, я достаточно настаивал на документальном значении, которое я безоговорочно признаю за этим способом музыкальной репродукции. Но это не мешает мне видеть его отрицательные стороны и с беспокойством спрашивать себя, достаточно ли они уравновешиваются всеми преимуществами, чтобы можно было безнаказанно к этому способу прибегать.
X
1929 год, до которого доходит теперь моя «Хроника», отмечен большим и скорбным событием – кончиной Дягилева. Он умер 19 августа, и утрата его была настолько для меня чувствительна, что заслонила собой все другие стороны моей жизни в этом году. Поэтому я немного опережу хронологическое течение моего рассказа, чтобы поговорить о моем покойном друге. Он первый подошел ко мне в начале моей деятельности и по-настоящему умел ободрить меня и поддержать. Он не только любил мою музыку и верил в мое будущее, но и употреблял всю свою энергию на то, чтобы раскрывать мое дарование перед публикой. Он был искренне увлечен тем, что я тогда писал, и для него было подлинной радостью представлять мои произведения и даже завоевывать признание самых строптивых из моих слушателей, как это было с Весной священной. Эти чувства и та горячность, с которыми они проявлялись, естественно, вызывали во мне в свою очередь благодарность, глубокую привязанность и восхищение его чутким пониманием, бурной восторженностью и тем неукротимым горением, которым была отмечена вся его деятельность.
Увы, наша дружба, длившаяся около двадцати лет, время от времени омрачалась столкновениями, вызывавшимися, как я уже говорил, чрезмерной ревностью моего друга. Конечно, в течение последних лет, когда поле моей личной, самостоятельной деятельности значительно расширилось и вместе с тем сотрудничество с «Русскими балетами» перестало быть непрерывным, наши взаимоотношения с Дягилевым претерпели некоторые изменения. Утратилась прежняя близость в наших мыслях и взглядах, которые с течением времени эволюционировали в различных направлениях. «Модернизм» во что бы то ни стало, в котором сквозила боязнь потерять передовое положение; поиски сенсации; неуверенность в выборе дальнейшего пути – все это создавало вокруг Дягилева нездоровую атмосферу, с которой он мучительно боролся. Все это вместе взятое мешало мне разделять многое из того, что он делал, и наши отношения в силу этого становились менее откровенными.
Чтобы не огорчать его, я избегал углубляться в эти вопросы, тем более что мои возражения ни к чему бы не привели. Годы и болезнь лишили его, правда, прежней уверенности в себе, но его темперамент и упрямство остались такими же, и он готов был с яростью защищать вещи, в которых (я в этом убежден) он в глубине души сомневался сам.
В последний раз я сотрудничал с Дягилевым при возобновлении Байки про Лису для весеннего сезона в Театре Сары Бернар. Не входя в оценку новой постановки, скажу только, что я сожалел о первоначальном варианте, созданном в 1922 году Брониславой Нижинской, о котором я уже говорил выше[1][1]
Байка про Лису была возобновлена в «сезоне» 1929 г., 21 мая, на сцене Театра Сары Бернар в хореографии С. Лифаря.
[Закрыть].
После парижского сезона я видел его всего один раз, и то издали и случайно, на перроне Северного вокзала, где мы оба садились в поезд, чтобы ехать в Лондон. Известие о его смерти, наступившей какие-нибудь полтора месяца спустя, застало меня в Эшарвине, где я второй год подряд проводил лето[2][2]
Эту последнюю встречу с Дягилевым Стравинский впоследствии вспоминал и в диалогах с Р. Крафтом: «Однажды в мае 1929 года [на самом деле 24 июня
1929 г – И. В] я пришел на Северный вокзал, чтобы ехать в Лондон. Внезапно я увидел Дягилева, его нового протеже [это был юный Игорь Маркевич. – И. В] и Бориса Кохно, сопровождавших его в Лондон. Видя, что нельзя избежать встречи со мной, Дягилев сконфуженно-любезно заговорил со мной. Мы порознь прошли в свои купе, и он не покидал своего места. Больше я никогда его не видел» (Диалоги, с. 191–192).
[Закрыть], Я был с сыновьями у Прокофьева, который жил по соседству. Когда мы поздно вечером вернулись домой, меня встретила жена. Она не ложилась спать, чтобы сообщить нам печальную весть, переданную из Венеции телеграммой.
Смерть Дягилева не была для меня полной неожиданностью. Я знал, что у него диабет, но в такой стадии, которая не опасна для жизни, тем более что он был не так стар и его крепкий организм мог бы еще долго бороться с болезнью. Поэтому его физическое состояние само по себе не внушало мне серьезных опасений. Но когда последнее время я наблюдал за ним в его повседневной деятельности, у меня создавалось впечатление, что духовные силы этого человека иссякают, и меня стала преследовать мысль, что жизнь его кончена. Вот почему, хоть я и испытал тогда острую боль от сознания того, что больше никогда его не увижу, смерть его сама по себе меня не удивила.
В то время мне, разумеется, не приходило в голову подводить итоги значению, которое имели для искусства деятельность и само существование Дягилева. Отдавшись своему горю, я оплакивал друга, брата, которого мне никогда больше не суждено было увидеть. Эта разлука всколыхнула во мне столько чувств, столько дорогих мне воспоминаний! Только теперь, с течением времени, повсюду и во всем начинают замечать ужасную пустоту, образовавшуюся после исчезновения этой громадной фигуры, значение которой измеряется ее незаменимостью. Ведь все подлинно своеобразное незаменимо – эту истину надо признать. Мне вспоминаются великолепные слова художника Константина Коровина. «Благодарю тебя, – сказал он однажды Дягилеву, – благодарю тебя за то, что ты существуешь!»[3][3]
Можно считать этот фрагмент, посвященный Дягилеву, своего рода эскизом будущей мемуарной статьи Стравинского «Дягилев, которого я знал», задуманной по следам «Хроники» в 1930-е г.г., но опубликованной только в ноябре 1953 г. в американском журнале «Atlantic Monthly» (Бостон). По свидетельству С.И. Савенко, в архиве композитора в Базеле хранится часть статьи, написанной по-русски и датируемой 1937-м годом.
[Закрыть].
Большую часть 1929 года я посвятил сочинению моего Каприччио, начатого незадолго до Рождества прошлого года. Как это нередко бывало и раньше, мне пришлось несколько раз прерывать работу ввиду поездок, избежать которых было нельзя. В феврале я поехал дирижировать Эдипом, который шел в концертном исполнении в Дрезденской опере. Меня больше всего поразило несравненное мастерство хора «Dresdener Lehrgesangs-ferein» [ «Дрезденский певческий союз учителей». – нем.]. Программа, состоявшая только из Эдипа, в течение одного дня исполнялась дважды: в двенадцать часов проходила открытая генеральная репетиция, а вечером – концерт[4][4]
Концертное исполнение Эдипа под управ’ лением автора состоялось в Дрезденской опере
1 февраля 1929 г.
[Закрыть].
Вскоре после этого Парижское филармоническое общество пригласило меня дирижировать концертом из моих камерных произведений. Он состоялся 5 марта в зале «Плейель». В программу входили Сказка о Солдате и Октет, а также Соната и Серенада для фортепиано, которые я исполнял сам[5][5]
Приглашение от Парижского филармонического общества поступило в середине февраля, и 26 февраля Стравинский приехал в Париж из Ниццы, где жила в это время его семья. На следующий день последовала репетиция программы, исполненной 5 марта в зале «Плейель».
[Закрыть]. Пользуюсь этим случаем, чтобы воздать должное великолепной плеяде парижских солистов, которые в течение многих лет своим талантом и замечательным усердием способствовали успеху моих произведений на концертах, в театре и на утомительных репетициях записей. Мне особенно хочется назвать гг. Дарье и Меркеля (скрипки), Буссаголя (контрабас), Моаза (флейта), Виньяля и Фово (трубы), Годо (кларнет), Дерена и Гранмезона (фаготы), Дельбоса и Тюдеска (тромбоны) и Мореля (ударные).
Из путешествий этого года я больше всего люблю вспоминать пребывание в Лондоне, который особенно хорош в начале лета. Ковры зеленых газонов, чудесные деревья его парков, окрестности, речки с множеством снующих по ним лодок. И всюду – занимающаяся спортом молодежь, здоровая и веселая! Среди всего этого труд становится легким, и я с истинным наслаждением снова играл свой Концерт с блестящим английским музыкантом Юджином Гуссенсом за дирижерским пультом, дирижировал сам по радио Аполло-ном и, впервые в Англии, Поцелуем феи*. Дни, проведенные в Лондоне, стали для меня еще приятнее от присутствия Вилли Штрекера, одного из владельцев издательской фирмы «Шотт и сыновья» в Майнце, человека тонкого и культурного. Помимо деловых связей, я поддерживаю с ним дружеские отношения, как, впрочем, и со всей его милой семьей, живущей в Висбадене, где она меня всегда так тепло встречает, В это самое время труппа «Русских балетов Дягилева» была в Берлине, где она принимала участие в Festspiele [фестивале. – нем.]. «Русские балеты» давали спектакли в двух государственных театрах – в опере «Унтер ден Линден» и в Шарлоттенбурге. Среди вещей, появлявшихся здесь впервые на сцене, фигурировали Весна священная и Аполлон. Несколькими днями раньше Клемперер исполнял в первый раз Аполлона в концерте, посвященном моей музыке. Я принял в нем участие и играл свой Концерт[7][7]
Между лондонскими концертами Стравинский ездил в Берлин, где 17 июня принял участие в концерте из своих произведений под управлением Отто
Клемперера в «Штаатс-опер». Прозвучали Аполлон, Свадебка и Концерт для фортепиано и духовых в исполнении автора.
[Закрыть]. Что же касается дягилевских спектаклей, то присутствовать на них я не смог, так как был срочно вызван в Париж для работы по записи пластинок. Впро-чем, я об этом и не жалел. Я знал, что мои балеты должны идти в самом конце фестиваля, когда оркестранты обоих театров будут уже переутомлены. Кроме того, как это всегда бывает во время балетных турне, количество оркестровых репетиций было недостаточным. Театры и антрепренеры, организуя гастроли балетов, обращают больше всего внимания на зрелищную сторону спектаклей, а о музыкальной стороне заботятся мало, хотя в то же время подбирают произведения композиторов, имена которых могут привлечь публику. И на этот раз условия были те же, и, по-видимому, даже старания такого дирижера, как Ансерме, оказались тщетными, так что мой отъезд только избавил меня от тягостных впечатлений.
Все это лето я проработал над Каприччио и закончил его к концу сентября. Оно было исполнено мною впервые 6 декабря на концерте Парижского симфонического оркестра под управлением Ансерме. За последние годы меня так часто приглашали играть мой Концерт (число моих исполнений дошло до значительной цифры – сорока), что я решил, что пора познакомить публику с новым сочинением для фортепиано и оркестра. Это побудило меня написать новый концерт, которому я дал название Каприччио как более соответствующее характеру его музыки. Я думал об определении слова каприччио, которое дал Преториус, знаменитый музыковед XVII века[8][8]
Михаэль Преториус – автор энциклопедического труда по теории и эстетике музыки «Syntagma Musicum», изданного в 1614–1620 г.г.
[Закрыть]. Он видел в нем синоним фантазии, представлявшей собою инструментальную пьесу фугированного склада в свободной форме. Эта форма давала мне возможность развивать мою музыку, чередуя эпизоды различного характера, которые, следуя друг за другом, придают произведению ту капризность, от которой и происходит само название.
Композитором, гений которого прекрасно подходил к этому жанру, был Карл Мария фон Вебер, и неудивительно, что в процессе работы я много думал о нем, об этом короле музыки. Увы! Этот титул не был ему присужден при жизни. Я не могу удержаться, чтобы не привести подлинное и поразительное суждение об «Эврианте» и ее авторе знаменитого венского драматурга Франца Грильпарцера, которое имеется во внушительной коллекции критических высказываний классиков, собранных издательством Шотт. «Мои опасения, возникшие при появлении “Фрейшютца”, – пишет он, – теперь, по-видимому, подтверждаются. Вебер, конечно, поэт, но он не музыкант. Никакого следа мелодии, не только приятной мелодии, но мелодии вообще… обрывки мыслей, которые связаны только текстом, без какой бы то ни было внутренней (музыкальной) последовательности. Никакой изобретательности, даже манера пользоваться текстом – и та лишена оригинальности. Полное отсутствие согласованности и колорита… Музыка эта ужасна. Это извращение благозвучия, это насилие над красотой* В счастливые времена эллинов композитора покарали бы за это государственной санкцией. Эта музыка противоречит полицейским порядкам. Она породила бы чудовищ, если бы только получила возможность постепенно распространиться повсюду»[9][9]
Статья Франца Грильпарцера «“Эврианта”, опера К.М. Вебера» в переводе А.В. Михайлова с немецкого оригинала опубликована в кн. «Музыкальная эстетика Германии XIX века» (Т. 2. М., 1982. С. 148–149).
[Закрыть].
Разумеется, в наши дни никому не придет в голову разделять негодование Грильпарцера. Люди, считающие себя передовыми, – если предположить, что они знают Вебера, и в особенности если они его не знают, – скорее поставят себе в заслугу пренебрежительное к нему отношение как к композитору легковесному и совсем устаревшему, который, в лучшем случае, может растрогать только стариков и старух. Подобное отношение еще можно было бы, пожалуй, объяснить, если бы речь шла о людях, ничего не понимающих в музыке: апломб таких людей очень часто не уступает их невежеству. Но что же сказать, когда профессиональные музыканты изрекают суждения, подобные тому, которое я слышал, например, из уст Скрябина. Правда, говорилось это не о Вебере, а о Шуберте. Но сути дела это нисколько не меняет! Однажды, когда Скрябин со свойственным ему пафосом распространялся в своих метафизических бреднях о возвышенном искусстве и его великих жрецах, я начал, со своей стороны, хвалить грацию и изящество вальсов Шуберта, которые я тогда переигрывал с истинным наслаждением. Он улыбнулся со снисходительной иронией. «Ну что вы, – сказал он, – Шуберт? Это только для молодых девиц, чтобы побренчать на рояле».
В течение зимы 1930 года Бостонский симфонический оркестр решил отпраздновать свою пятидесятую годовщину целой серией фестивалей, которым эта знаменитая организация хотела придать особый интерес исполнением симфонических произведений современных авторов, сочиненных по ее просьбе специально для этого торжества. С. Кусевицкий, уже многие годы стоявший во главе этого прекрасного оркестра, просил и меня принять участие в этом праздновании и написать для него симфонию[10][10]
Заказ от Кусевицкого последовал осенью 1929 г Позднее композитор вспоминал, что все началось с «традиционного предложения издателя написать что-нибудь популярное. Я понял это слово по-своему, – замечает Стравинский, – не в смысле “приспособленного к пониманию публики”, а в смысле “чего-то, вызывающего всеобщее роклонение”» {Диалоги, с. 192).
[Закрыть].
Мысль о создании крупного симфонического произведения уже давно меня занимала. Поэтому я охотно принял это предложение – оно вполне отвечало моим желаниям. Мне дана была полная свобода в выборе формы и средств исполнения. Я был связан только сроком сдачи партитуры, к тому же вполне достаточным.
Меня мало соблазняла форма симфонии, завещанная нам XIX веком. Идеи и язык эпохи, которая видела расцвет этой формы, были нам особенно чужды именно потому, что мы на них выросли. Как и в Сонате, мне захотелось создать здесь нечто органически целостное, не сообразуясь с различными схемами, установленными обычаем, но сохраняя циклический порядок, отличающий симфонию от сюиты, которая представляет собою простое чередование частей, различных по характеру.
В то же время я думал о звуковом материале, из которого мне предстояло строить свое здание. Я считал, что симфония должна быть произведением с большим контрапунктическим развитием, для чего необходимо было расширить средства, которыми я мог бы располагать. В итоге я остановился на хоровом и инструментальном ансамбле, в котором оба эти элемента были бы равноценны и ни один не преобладал над другим[11][11]
В контракте, подписанном Стравинским 12 декабря 1929 г., речь шла об оркестровой партитуре и ни слова не говорилось о хоровых партиях. Однако композитор рассказывал Крафту, что «уже раньше некоторое время вынашивал мысль о псалмовой симфонии» и, вопреки желанию заказчика, «настоял на сочинении именно такого произведения» (Диалоги, с. 192).
[Закрыть]. В этом смысле моя точка зрения на взаимоотношения вокальных и инструментальных частей совпала со взглядами старых мастеров контрапунктической музыки, которые обращались с ними как с равными величинами, не сводя роль хоров к гомофонному пению и функции инструментального ансамбля – к аккомпанементу.








