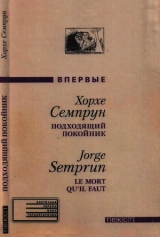
Текст книги "Подходящий покойник"
Автор книги: Хорхе Семпрун
Жанры:
Исторические детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
Ужас этого сна был невыносим. Не только потому, что забивали гроб моей матери. От этого знания, каким бы точным оно ни было, как ни странно, мне не было тягостно. Наоборот. Я слышал удары молотка по крышке гроба моей матери, но виделись мне не похороны, мне снились какие-то торжествующие, или нежные, или трогательные образы. Так что ужас был не отсюда. Ужас проистекал из другого знания.
Я был уверен, что уже видел этот сон, что однажды уже проснулся от этого сна, вот оно что. Я отчетливо и ясно помнил мгновение после того первого сна, первого пробуждения: Каминский и Ньето, подходящий покойник, Франсуа Л. в бараке для доходяг.
Ужаснула меня именно эта уверенность, мысль о том, что придется еще раз пережить то, что я уже пережил за последние сорок восемь часов.
Нехотя я открыл глаза.
На этот раз вовсе не Каминский, а Эрнст Буссе колотил кулаком по стойке нар.
Ужас отступил, все встало на свои места: я был готов.
– Ты, я смотрю, не волнуешься! Как ты можешь спать?
Тон Буссе был полуворчливый-полувосхищенный.
Я не успел сказать, что умудряюсь спать в любых обстоятельствах, даже в перерыве между двумя допросами в гестапо.
– Пять минут назад ты спал так крепко, – усмехнулся Буссе, – что Leichenträger, трупоносцы, чуть не забрали тебя в крематорий.
Он кинул на нары мою одежду. Я стащил с себя рубашку и быстро оделся.
Помещение санчасти, где я провел ночь, опустело. Можно принимать новую партию умирающих.
Я видел, как умирал Франсуа, но не видел, как его увезли в крематорий.
– Забавно, – добавил Буссе, – если бы ты проснулся в последнюю минуту на горе трупов, которые везут в печь!
Действительно, обхохочешься.
Ночью, сразу после того, как Франсуа произнес несколько слов, которые мне показались похожими на латынь из-за повторенного дважды слова nihil, к моей койке подошел санитар. Со шприцем в руке. Он тихо заговорил со мной по-русски. Я понял, что он хочет сделать мне укол, и вспомнил, что говорил Буссе: от инъекции у меня поднимется температура – на тот случай, если эсэсовцы решат закончить праздник прогулкой по санчасти.
Когда молодой санитар склонился надо мной, ища вену, чтобы воткнуть иглу, мне показалось, что я его узнал. Мне показалось, что это тот самый русский, который спас меня в карьере девять месяцев назад.
Но мне не пришлось проверить свою догадку – вбежал Эрнст Буссе. Он удержал руку санитара.
– В последний момент, – прошептал он, – они передумали. Решили закончить попойку в борделе!
И увел санитара, оставив меня в одиночестве рядом с Франсуа Л.
Что ж, я не проснулся на горе трупов во дворе крематория. На этот раз из повторяющегося сна, в котором забивали гроб моей матери, меня вырвал Буссе.
Какой-то другой звук накладывался в моем сне на стук молотка по крышке гроба. Идя за Буссе, на выходе из барака для умирающих я понял, что это за звук.
В моей детской памяти сохранилось воспоминание о том дне – 14 апреля 1931 года, – когда в Испании была провозглашена республика и когда младший брат моей матери Мигель Маура вышел из мадридской тюрьмы «Cárcel Modelo», чтобы стать министром внутренних дел в новом правительстве, мать вывесила на балконе нашей квартиры на улице Альфонса XI – где она и умерла несколько месяцев спустя – трехцветные знамена. Цвета республики – красный, золотой, фиолетовый.
Как только эти знамена затрепетали на весеннем ветру на одной из самых зажиточных и спокойных улиц буржуазного квартала, тут же все соседи захлопали ставнями, чтобы не видеть этого невыносимого зрелища прямо под носом.
Стук деревянных ставен, закрываемых с размаху, накладывался на стук молотка по крышке гроба – стук жизни на стук смерти.
В этой первичной, по Фрейду, сцене – а именно такой она казалась – не было половых проблем. Не было там и отца. Только мать – юная, торжествующая красавица, стоит, запрокинув голову, и вызывающе хохочет. И республиканские знамена.
Я шел за Буссе по лабиринту коридоров санчасти.
Из репродукторов доносились шумы с плаца, приказы эсэсовских унтеров, разговоры заключенных, собиравшихся в рабочие группы после переклички.
В этот бурный, глубокий, безбрежный гул врывались звуки лагерного оркестра, играющего бравурные марши, – традиционное сопровождение утреннего выхода на работы.
Это была официальная музыка в исполнении Lagerkapelle; музыканты, одетые по-цирковому – красные галифе и куртки, обшитые зеленым шнуром (или наоборот, я и не подумаю уточнять эти детали), – ежедневно выходили на плац утром и вечером, оживляя выход на работы и возвращение отрядов.
Впрочем, это не было настоящей музыкой Бухенвальда.
Настоящей, по крайней мере для меня, была другая музыка, часто сентиментальная и ностальгическая, которую транслировали через репродукторы эсэсовские унтеры. Воскресные мелодии, песни Зары Леандер – вот это была музыка Бухенвальда.
И еще музыка подпольного джазового оркестра Юрия Зака.
В прошлое воскресенье я сквозь привычную декабрьскую снежную бурю пробирался в кинозал. Юрий Зак, чешский знакомец из Schreibstube, секретариата, назначил мне встречу.
– Приходи, – пригласил он меня во время полуденной переклички. – Приходи в кинозал. Я нашел нового трубача. Студент из Норвегии, просто класс, сам увидишь! Я попрошу его сыграть кусок из Армстронга… А потом у нас будет время потолковать – у меня есть для тебя новости от Пепику!
Трогательное прозвище Пепику носил Йозеф. А Йозеф – это Франк, Йозеф Франк. Он, как и я, работал в Arbeitsstatistik, так что мог поговорить со мной без посредников когда угодно. Вероятно, он не хотел, чтобы нас слишком часто видели вместе.
Я действительно попросил его помочь мне в одной щекотливой проблеме, настолько конфиденциальной, что не стоило посвящать в нее даже подпольщиков. Речь шла о подготовке побега для члена французской компартии.
От имени Марселя Поля ко мне обратился Пьер Д. Я не говорил об этом с Зайфертом, слишком уж тесно он был связан с педантичной бюрократией немецкой коммунистической организации. Зайферт не поверил бы мне на слово. И не потому, что не доверял мне. Но он был обязан, по своему положению в подпольной иерархии, передать это вышестоящим органам, которые через ФКП выяснили бы всю подноготную Марселя Поля.
Правда ли, что он собирается бежать? Действительно ли он общался со мной на эту тему? Верное ли это решение? Можно ли его принять, не согласовывая с интернациональным комитетом, учитывая, к каким последствиям может привести возможный провал?
Короче, завязалась бы дискуссия, начали бы переливать из пустого в порожнее. Слишком много народу оказалось бы в курсе дела, которое должно было остаться суперконфиденциальным, тайным даже для интернациональной коммунистической организации в Бухенвальде.
В этом деле лучше действовать методами французских партизан, сказал бы Даниэль Анкер. A la guerrillera, сказал бы я по-испански. В таком деле партия могла все только испортить.
Так что я решил обратиться к Йозефу Франку. Я знал, что он ответит мне «да» или «нет» без предварительной консультации с шефом. Он ведь сам был шефом! И это меня устраивало.
Франк был важной шишкой в Arbeit, наравне с Зайфертом. В его обязанности входило набирать специалистов – техников и квалифицированных рабочих, он направлял их на разные заводы по изготовлению оружия в Бухенвальде – Густлов, DAW и прочие.
Это была, скажем так, его официальная работа, о которой он мог бы дать отчет в случае необходимости командованию СС. За этим фасадом – использование на благо революции всех легальных возможностей деятельности, бесспорно, является одним из наиболее распространенных и убедительных методов большевиков – Франк по поручению подпольной организации должен был отбирать испытанных бойцов для работы, необходимой в секторе.
Общая стратегия подпольной коммунистической организации состояла в том, чтобы контролировать по мере сил производственную систему Бухенвальда с двойной целью: сохранить рабочие кадры, в основном бойцов-антифашистов, назначая их на самые лучшие рабочие места, а во-вторых, нажимая на них, организовать систематическое замедление работ и иногда саботаж производства оружия.
Йозеф Франк, как и большинство его соотечественников из протектората Богемии – Моравии, был из Prominenten, красной аристократии Бухенвальда. Но в отличие от других капо-коммунистов это был спокойный, внимательный, порой даже вежливый человек. Никогда он не вел себя надменно или грубо, никогда ругательства не засоряли его изысканный немецкий язык.
Правда, его нелегко было вызвать на откровенность, он не сходился близко ни с кем, держал дистанцию.
Я могу его понять.
Постоянная и неизбежная скученность была одним из самый ужасающих бедствий в повседневной жизни Бухенвальда. Если мы опросим выживших – к счастью, немногочисленных! Ведь скоро мы дойдем до идеальной ситуации, к которой так стремятся историки: больше не будет свидетелей, или, точнее, останутся одни «настоящие, достойные доверия свидетели», то есть мертвые; скоро некому будет докучать экспертам своим «неудобным» опытом, Erlebnis, vivencia[39], своей смертью, которую они почти пережили, так что это скорее уже просто призраки, чем живые люди, – так вот, если мы спросим выживших или призраков, во всяком случае, тех, кто еще способен на ясный, не замутненный привычной жалостью к себе взгляд, возможно, голод, холод и недосып будут стоять на первом месте в категорической, безоговорочной классификации страданий.
Мне, однако, кажется, что те же выжившие, если привлечь их внимание к этой проблеме и оживить их память, согласятся, что скученность в бараках приводила к чудовищным последствиям. Она была скрытым посягательством на неприкосновенность личности, на внутреннюю свободу человека, хотя, наверное, менее грубым, менее очевидным, чем постоянные побои. Часто проявлялись гротескные, порой даже забавные стороны этой скученности, и это сбивало с толку, не позволяя до конца осознать ее ужасные последствия.
Я не знаю, как можно объективно измерить данную величину. Как просчитать последствия того факта, что любое проявление частной жизни осуществлялось не иначе как под взглядами других. И не важно, что взгляд этот, смотря по обстоятельствам, был то братским, то сочувствующим, – сам взгляд был невыносим. Нет ничего хуже жизни за стеклом, где каждый становится big brother другому.
Заснуть в этом всеобщем сопении, в миазмах дурного сна, храпе и стонах, в урчании желудков; испражняться на глазах десятков людей, так же как и ты, сидящих на корточках в сортире, – ни единого мгновения интимности, вся жизнь на виду, под пристальным взглядом чужих глаз.
В Бухенвальде, если вы были частью плебса во всем, что касалось повседневной жизни – как я, например, – было два способа отвлечься или на время смягчить невольную, конечно, но неизбежную агрессивность этого взгляда.
Во-первых, сбежать в мимолетное блаженство одинокой прогулки.
Это можно было себе позволить, когда кончилась зима, прошли снежные бури и дожди, – и в определенные часы. Во время полуденного перерыва, например. Или после вечерней переклички и до комендантского часа. Ну и конечно, после обеда в воскресенье.
Были любимые маршруты. Например, рощица вокруг бараков санчасти. Или широкая эспланада между кухнями и Effektenkammer, дарившая возможность полюбоваться деревом Гете, дубом, под которым, по концлагерному преданию, поэт любил отдыхать с этим идиотом Эккерманом и который эсэсовцы сохранили, чтобы подчеркнуть свое уважение к немецкой культуре!
Гулять следовало вдали от мест – какими бы обширными и приятными они ни казались, – слишком открытых взглядам часовых СС, которые стояли по периметру колючей проволоки на сторожевых вышках. Нужно было также избегать аллеи – хотя она и была хорошо укрыта от взглядов нацистов, – идущей вдоль крематория: в этом месте практически неизбежно эфемерное счастье одиночества, возвращения к себе разбивалось от встречи с тележкой, на которой перевозились трупы умерших за день.
Не то чтобы эта встреча удивляла: мы уже привыкли и к трупам, и к постоянному запаху крематория. В смерти для нас больше не было секрета, не было тайны. Никакой тайны, кроме самой банальной, известной во все времена и все же непостижимой тайны самой смерти, этого невыносимого (во всех смыслах) ухода.
Но зачем эти напоминания о постоянном присутствии смерти? Лучше уж прогуляться где-нибудь в другом месте.
Кроме прогулки, было только одно средство обмануть липкий страх постоянной скученности: читать наизусть стихи, громко или вполголоса.
Это средство имело большое преимущество перед моционом, хотя тот, несомненно, был гораздо полезнее для истощенного организма. Зато читать стихи можно всегда, в любую погоду, в любом месте, в любое время суток.
Достаточно всего лишь хорошей памяти.
Даже сидя на подпорке в сортире Малого лагеря; или проснувшись от наполненного стонами шума в спальном отсеке барака; или стоя в строю заключенных перед унтером-эсэсовцем, выкрикивающим имена; или в ожидании, пока староста барака стальной проволокой отрежет тонюсенький ломтик ежедневного маргарина, – в любых обстоятельствах можно было абстрагироваться от нынешней враждебности мира и забыться в музыке стихотворения.
В сортире, несмотря на зловоние и шумное опорожнение кишок вокруг, ничто не запрещало шептать утешительные строки Поля Валери.
«Ты, спокойный, будь – спокойный, / Груз познай ты пальмы стройной / С изобилием ее!»[40] или же «Какая сладость! Слава Богу, / Что ты лишь поступь тени, но / Ведь только так, на босу ногу, / Любое благо мне дано»[41].
Я не знаю, как Йозеф Франк боролся с ужасающими последствиями тесноты, с ее неизменными спутниками – непристойностью, вульгарностью, унижением. Он умел сохранить дистанцию, не впадая при этом в надменную грубость, как многие другие капо и Prominenten.
Именно его я попросил помочь нам в организации побега Марселя Поля. Он согласился.
– Но это останется между нами, – сказал он мне.
Между нами – отлично, это меня устраивало. Мне очень нравилась работа по-партизански.
– У меня есть для тебя новости от Пепику!
Юрий Зак пришел за мной во время переклички в предыдущее воскресенье.
Всего один коридор отделял Schreibstube, где он работал, от Arbeitsstatistik. В секретариате Зак был помощником капо, немецкого коммуниста. Тот часто болел, и Зак фактически руководил службой.
Это был молодой, высокий, слегка сутулый чех. За очками в стальной оправе прятался исключительно внимательный и умный взгляд. Все чехи в Бухенвальде были чем-то похожи между собой. По крайней мере те, кого я знал, на ответственных постах. Спокойные, внимательные, ровные. К тому же образованные, интересующиеся миром, происходящими вокруг событиями. Интересующиеся другими людьми, что встречалось еще реже.
Страстью Юрия Зака был джаз.
Ему удалось собрать небольшую группу музыкантов разных национальностей. Инструменты для оркестра нашли среди сокровищ Effertenkammer, главного склада, куда в течение многих лет попадало содержимое багажа заключенных из всех уголков Европы.
Со всей Европы, кроме, конечно, Великобритании, избежавшей, благодаря островному расположению и смелости, бедствий оккупации. Кроме Советской России, но совсем по другим причинам: невозможно было себе представить, чтобы у русского заключенного был хоть какой-нибудь багаж! Единственным багажом русских парней была поразительная жизнестойкость и порой спасительная дикость: мятеж в чистом виде против абсурдной низости положения вещей, иногда принимавший криминальные, мафиозные обличья.
Джазовый оркестр, созданный Юрием Заком, его концерты, или, гораздо чаще, что-то вроде джазовых импровизаций для своих, как правило, в воскресенье после обеда, стали для меня одним из самых чудесных, самых удивительных и драгоценных подарков судьбы.
Эта музыка, между прочим, была подпольной вдвойне.
Общавшиеся с заключенными унтеры СС смотрели сквозь пальцы на культурную самодеятельность, организованную заключенными разных национальностей по воскресеньям, а вот запретить джазовые импровизации им ничего не стоило – это же музыка негров!
Немецкие ветераны-коммунисты со своей стороны не отрицали, что им не нравится эта вырожденческая – утверждали они, – типичная для эпохи распада капитализма музыка. Может быть, они бы ее и запретили, если бы действительно были в курсе. Но Юрию Заку, который старался избежать конфликтов и бессмысленных споров, удалось устроить так, чтобы джазовые концерты проходили на границе законной системы – если так можно сказать! – культурной деятельности.
Конечно, не труба Луи Армстронга, но это было неплохо. Совсем неплохо, честное слово.
Когда я вошел в кинозал в воскресенье, за восемь дней до того, как происходили описываемые события, студент-норвежец начал первое соло «In the Shade of the Old Apple Tree». Вокруг него царило веселье. Маркович стал наяривать на саксофоне, ударник тоже разошелся. Они вступали каждый в свою очередь, принимали ритм и ограничения темы, тут же освобождались в согласованной импровизации, безостановочно ломая заданные изначально аккорды.
Юрий Зак был на седьмом небе от счастья, глаза его блестели за стеклами очков в стальной оправе.
Я вошел в это веселье, в это чувство безудержной свободы, которую давала мне – и до сих пор дает – джазовая музыка.
Увидев меня, Зак оставил музыкантов и направился ко мне.
Когда я вспоминаю его, сквозь толщу времени пытаясь возродить его образ, его черты, вызвать в памяти его фигуру, взгляд, походку, всегда всплывает именно этот миг: огромный, пустой, наполненный звуками джаза кинозал, несколько заключенных в углу, полукругом около юного трубача-норвежца – в Бухенвальде был блок, где жили студенты, попавшиеся во время облавы в Норвегии, я уж не знаю за что, их поселили отдельно от остальных заключенных и не гоняли на работы – вместе заиграли музыкальные темы; и высоченный Юрий Зак, сутулясь, идет ко мне.
А ведь я часто видел его в Бухенвальде и после того воскресенья.
Я снова встретил его много лет спустя, весной 1969 года. Я приехал в Прагу с Коста-Гаврасом, который все еще хотел снять «Признание» в Чехословакии. Шли споры, обсуждения: вскоре стало ясно, что съемки там невозможны. Жизнь постепенно устаканивалась – восстанавливали порядок после вторжения советских войск.
Я попросил друзей-киношников – тех, что еще не уехали за границу, – разыскать Юрия Зака. Они его нашли. Однажды вернувшись в гостиницу, я обнаружил записку: Зак будет ждать меня в таком-то месте в такое-то время. Это была квартира, окнами выходившая на Вацлавскую площадь. Зак поседел, но его взгляд не изменился, да и походка тоже. Его сопровождала невысокая, пожилая женщина, с лицом, похожим на печеное яблоко, – вдова Йозефа Франка, Пепику, нашего друга по Бухенвальду. Тот по возвращении из лагеря стал заместителем генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии и угодил в мясорубку сталинских процессов пятидесятых годов. Его обвинили в пособничестве гестапо. Под какими пытками он «сознался»? Его повесили вместе со Сланским, Геминдером и десятком других осужденных. Их прах был развеян на пустынной, заснеженной дороге – ни следа, ни могилы, ни памятника не должно было остаться.
В тот день в Праге весной 1969 года я напомнил Заку репетицию его джазового оркестра в бухенвальдском кинозале в декабрьское воскресенье 1944 года. Он вспомнил молодого норвежского трубача, но тему Армстронга забыл. «In the Shade of the Old Apple Tree»? Нет, он не помнил. Наверное, эта музыкальная тема не стала центром его воспоминаний, сердцевиной его жизни.
В отличие от меня.
В тот день в Праге в 1969 году я мог бы рассказать Юрию Заку всю свою жизнь вокруг этого отрывка из Луи Армстронга.
Летом 1943 года, когда мне исполнилось девятнадцать лет, я начал участвовать в подпольных акциях сети Фраже – «Жан-Мари Аксьон». Тогда я еще не жил в Жуаньи, не был постоянным членом сети. По нескольку дней я проводил в Йонне или Кот-д’Ор, где устраивал встречи и раздавал оружие, которое сбрасывали на парашютах англичане, или приводил в действие планы диверсии телефонных линий, железных дорог, шлюза на Бургундском канале. Потом возвращался в Париж.
Иногда мне случалось возвращаться всего на день, на какую-нибудь дружескую вечеринку. В велосипедной сумке, в которой я возил по местным дорогам свои рабочие инструменты, я прятал фальшивые бумаги на имя Жерара Сореля, садовника, родившегося в Вильнев-сюр-Йонне, брал настоящие документы испанца, проживающего во Франции, студента Сорбонны, и появлялся на празднике. Когда я входил, мои самые близкие друзья останавливали патефон и, на удивление обнявшимся парочкам, ставили пластинку Армстронга «In the Shade of the Old Apple Tree». Это было как приветствие, дружеский жест, понятный немногим.
Позднее в Мадриде, в антифранкистском подполье этот отрывок из Луи Армстронга тоже оказался связанным с важными эпизодами.
Но тогда в Праге в 1969 году, когда в чешском обществе после вступления советских войск начиналось новое похолодание, ничего этого я не рассказал Юрию Заку. Поэтому нет никакого повода рассказывать здесь все, что зашевелилось в моей памяти, в моей душе – если это не одно и то же – при воспоминании о Луи Армстронге.
Так вот, в кинозале, едва затихли вариации, импровизации на тему «Old Apple Tree», Юрий Зак пошел мне навстречу. У него было для меня сообщение от Франка.
Тот велел мне передать, что через несколько недель эсэсовцы создадут новую команду. Отряд для ремонта железных дорог, разбомбленных союзниками, заключенных будут перевозить на поезде. Эта мобильная группа будет работать на открытом пространстве, за ней будет тяжело уследить, ее невозможно по-настоящему оградить, так что, очевидно, этот отряд лучше любого другого подходит для серьезного плана побега.
Если французская компартия согласится на это предложение, надо немедленно принять меры, чтобы Марсель Поль и товарищи из его группы были включены в списки заключенных, которых должен был отобрать Франк.
Ладно, я передам это сообщение и ответ на него.
Норвежский студент начал другое соло для трубы. У него и в самом деле был талант.
Из всех возможных образов Юрия Зака, молодого чешского коммуниста в Бухенвальде, умершего на чужбине, в Гамбурге – установление сталинского режима заставило его покинуть Прагу вскоре после нашей последней встречи, – из всех возможных образов моя память всегда выбирает образ из того декабрьского воскресенья в кинозале в лагере, в тот день, когда мы слушали молодого норвежского трубача, отважившегося сыграть соло из Армстронга.
Но не слышно было «In the Shade of the Old Apple Tree», пока я брел по коридорам Revier следом за Эрнстом Буссе. Ни даже «On the Sunny Side of the Street». Это был даже не голос Зары Леандер с «Der Wind hat mir ein Lied erzählt…». Мы слышали только глухой шум плаца, звуки лагерного оркестра, резкие команды унтеров СС.
* * *
– Ты знаешь посла Франко в Париже? – сухо спросил Вальтер Бартель.
Естественно, вопрос застал меня врасплох – даже челюсть отвисла. Но одновременно в мозгу что-то щелкнуло: кажется, я догадался, к чему он клонит.
Эрнст Буссе привел меня в свой кабинет в Revier. Бартель уже был там, сидел за столом. Буссе присоединился к нему. Был и третий стул, наверное, чтобы получилась традиционная тройка, коминтерновская святая троица. Но он остался пустым.
Трибунал. Эта мысль вполне естественно пришла мне в голову, особенно когда Бартель властным жестом приказал мне сесть на табурет напротив них.
И только тогда я заметил в кабинете Каминского и Ньето.
Каминский пытался держаться непринужденно, словно случайно попал сюда. Он мог бы читать газету, если бы где-нибудь поблизости завалялся номер «Völkischer Beobachter», чтобы подчеркнуть свою незаинтересованность. Что же до Хаиме Ньето – старосты подпольной организации испанской компартии в Бухенвальде, – у него был недовольный вид. Я не мог угадать, был ли он недоволен тем, что его подчеркнуто оттеснили на второй план, усадили отдельно от Бартеля и Буссе, или просто тем, что оказался здесь.
Допрос начал Вальтер Бартель. Естественно, ведь он был главным.
О Бартеле я должен сказать пару слов.
Мне случается иногда выдумывать героев своих книг. Или – если это реальные люди – давать им в своих произведениях вымышленные имена. Причины на это разные, но они всегда оправданы литературной необходимостью, соотношением правды и правдоподобия.
Так, Каминский – имя вымышленное. Однако герой этот наполовину реален. Возможно, в главном. Немец из Силезии, со славянской фамилией (я изменил его собственную на Каминский из-за «Черной крови» Гийу[42]), бывший боец интербригад, интернированный в лагерь в Гюре в 1940 году и выданный нацистской Германии правительством Виши, – это все правда. Но к этой правде я добавил биографических и психологических элементов от других людей, других немецких заключенных, которых я знал.
Мне казалось неприличным сохранить его настоящее имя, тогда как в моем романе он говорит слова, которых никогда не произносил, по моей воле высказывает мнения, которых никогда не разделял. Я должен был, по крайней мере, сохранить его свободу, его право отмежеваться от этого персонажа, если он еще жив.
В этом случае вымышленное имя Каминский до некоторой степени защитит его, если он не узнает или не захочет узнать себя в этом портрете.
В случае с Вальтером Бартелем и Эрнстом Буссе дело обстоит иначе.
Мне было совершенно необходимо сохранить их настоящие фамилии и подлинные имена. Каким бы ни было их место в повествовании, в данном случае меня интересует историческая правда. Потому что Бартель и Буссе – реальные лица. Исследователи, специалисты по истории концентрационных лагерей вообще и Бухенвальда в частности уже наткнулись или скоро наткнутся на их имена. Архивные документы, где они упоминаются, уже опубликованы, другие наверняка будут опубликованы позднее. Исследователям еще предстоит определить их роль в истории Бухенвальда и в коммунистическом режиме Восточной Германии.
Даже если сцена, о которой я вспоминаю, будет рассказана со всей возможной точностью, глубинная правда была бы разрушена или подпорчена, если бы я по недосмотру или легкомыслию дал Бартелю и Буссе вымышленные имена. Или побоялся бы взять на себя ответственность включить их под настоящими именами в рассказ о событиях, доказательств которых я не могу привести, так как все свидетели мертвы.
Все, кроме меня, естественно. Во всяком случае, сейчас, когда я пишу эти строки, я еще жив – пятьдесят шесть лет спустя после описываемых событий, почти день в день.
Впервые Бартель говорил со мной.
Естественно, я знал его в лицо. Он иногда заходил поговорить с Зайфертом с глазу на глаз в его небольшую каптерку в Arbeit. Это был невысокий блондин лет сорока с румяным, подвижным лицом, полным жизненной силы. Он не носил ни одну из нарукавных повязок, отличавших высших чинов из внутренней администрации лагеря. Ни капо, ни Vorarbeiter, ни Lagerschutz. Наверняка формально он был прикомандирован к какому-нибудь общему отряду по снабжению, поэтому беспрепятственно ходил по всему лагерю.
Даже без внешних признаков власти его полномочия были очевидны.
Именно он начал допрос – так как, похоже, речь шла именно о допросе.
– Ты знаешь посла Франко в Париже? – без предисловий спросил он.
– Я с ним не знаком, – ответил я, едва придя в себя от изумления. – Но я его знаю!
– Какая разница? – рявкнул он, пожав плечами.
– Огромная, – уточнил я. – Ни один из вас, конечно, не знаком в Риббентропом… Но вы все его знаете!
Взгляд Вальтера Бартеля потемнел. Он не любил таких шуток.
Краем глаза я наблюдал за остальными. Ньето одобрительно кивнул. Каминский старался казаться безразличным, но в его взгляде сквозило дружелюбие. А Эрнст Буссе вообще не проявлял интереса к происходящему.
– Вот именно, Риббентроп! – вскричал Бартель.
Это восклицание повисло в воздухе. Бартель вернулся к своей мысли:
– Стало быть, ты знаешь посла Франко в Париже!
– Я знаю, кто это, вот и все! Хосе Феликс де Лекверика. Баск, католик, франкист. Мой отец тоже католик, но антифранкист, левый либерал, дипломат Республики. Хосе Мария де Семпрун Гурреа! До гражданской войны, возможно, наши семьи общались. По крайней мере, знали друг друга. Наверное, встречались, вполне возможно.
Бартель увидел в моем ответе лишь подтверждение своей идеи.
– Так ты знаешь семью франкистского посла?
Смутно помню, что я раздраженно пожал плечами.
– Не я, мой отец! Может быть… И это было до гражданской войны!
– Не ты, твой отец! – взорвался Бартель. – Это тобой интересуется франкистский посол в Париже!
Я и так уже почти догадался, о чем идет речь. В том запросе из Берлина, который они смогли прочесть целиком только сегодня утром, до того как отправить в гестапо Бухенвальда, требовали сведений обо мне от имени посла Франко в Париже Хосе Феликса де Лекверики.
Я прекрасно представлял себе, как это произошло.
Волнуясь, что не получает от меня писем (вся переписка с родными, разрешенная раз в месяц, исключительно по-немецки и с цензурой была прервана с освобождением Франции в августе 1944 года), мой отец наверняка пытался связаться со своим старым знакомым – ныне послом Хосе Феликсом де Лекверикой. И тот, в течение войны склонившийся на сторону союзников, счел небесполезным и вполне уместным пойти навстречу моему отцу и разузнать обо мне по дипломатическим каналам.
– Итак, – мягко произнес Бартель, – тебя не удивляет, что франкистский посол интересуется тобой?
Он так просто от меня не отстанет, понял я.
– Меня не удивляет, что мои родные пытаются узнать, что со мной!
Но Вальтер Бартель не давал сбить себя с намеченного пути:
– Что фашистский посол наводит справки о здоровье коммуниста – это тебя не удивляет?
– Если его попросил разузнать обо мне мой отец, то он наверняка не сказал послу, что я коммунист… Он, скорее всего, говорил о Сопротивлении вообще. И потом, моя сеть даже не голлистская, она зависит от британских служб…
Сказать ему такое было ошибкой, я тут же прикусил язык. Невольно я дал новый повод для тревог и подозрений.
Неожиданно Бартель взорвался:
– Британских? Так ты британский агент?
Но тут решительно вмешался Хаиме Ньето.
Каминский подтверждал его слова. Они просили не терять времени: все эти вопросы мне уже задавали, когда я только прибыл в Бухенвальд. Все было тщательно проверено: мои связи с подпольной испанской компартией в Париже, контроль «Рабочих иммигрантов» за моей деятельностью и прочее.
Вальтера Бартеля это не удовлетворило. Кажется, он предпочел бы поглубже вникнуть в эту тему.








