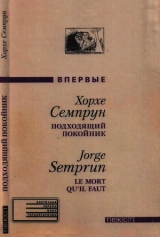
Текст книги "Подходящий покойник"
Автор книги: Хорхе Семпрун
Жанры:
Исторические детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Но пел не Мангляно. Пел Пакито, молоденький испанец.
Пакито арестовали на юге Франции, когда немецкая армия прочесывала окрестности. Уж не помню, почему – а может, и вообще не знаю – родители отдали Пакито какому-то дальнему дядюшке или старшему двоюродному брату, который работал в лагере испанских дровосеков в Арьеже. Но этот лагерь служил базой и прикрытием для отряда герильерос, так что нацистские жандармы и армия устроили облаву в том районе.
Так Пакито в шестнадцать лет оказался в Бухенвальде.
Он был грациозным и хрупким юношей. Его определили в Schneiderei, в пошивочную мастерскую, где латали наши шмотки. И где Prominent со средствами (табак, маргарин, спиртное) могли подогнать одежку по мерке.
Спасенный от голода и непосильно тяжелых работ, Пакито прославился, когда мы, испанцы, стали организовывать спектакли. Потому что он играл женские роли. Точнее, женскую роль, единственную роль вечной женщины, Ewigweibliche[31].
Худой, с тонкой талией, загримированный и в парике, одетый в андалузское платье в горошек с воланами, которое он сам сшил из обрезков шифона; добавьте к этому голос – красивый и все еще по-детски ломающийся, – такой Пакито мог хоть кого ввести в заблуждение.
Он был воплощенной иллюзией, волнующей иллюзией женственности.
Вообще-то наши спектакли были рассчитаны на небольшую испанскую общину, которой они могли бы принести ностальгическое утешение, общую память. Часто заходили заключенные-французы – нас роднила культурная и политическая близость. Особенно французы из приграничных областей – Окситании и Страны басков.
Выступления Пакито имели успех, и слух о нем быстро разлетелся по лагерю. В одночасье он стал знаменитостью. В иные воскресенья не все желающие могли попасть на представление.
Как нетрудно догадаться, его успех был довольно двусмысленным. Естественно, он объяснялся не только любовью к поэзии и народным песням. В столовых блоков, где все это происходило, или в залах побольше – в санчасти или кино, которые нам иногда предоставляла внутренняя администрация, Пакито зажигал в глазах зрителей безумный огонь желания.
Те, кто любил женщин, глядя на это мальчишеское – но при этом и женственное – лицо, испытывали острую боль, вспоминали свои неутоленные желания и свои нереализованные сны. Доступ в бордель имели только несколько сотен заключенных-немцев, тысячи остальных были обречены на воспоминания и онанизм, который скученность, истощение и отчаяние сделали практически невозможным для плебеев Бухенвальда – по крайней мере, трудно было довести дело до конца, до вспышки молнии.
Чтобы ублажать себя, требуется прежде всего одиночество. Нужна – как, впрочем, и для гомосексуальных утех, личная каптерка – рай, доступный лишь старостам блоков и капо.
Так что половая жизнь в Бухенвальде, как и все остальное, определялась классовыми различиями.
Скорее даже – кастовыми.
Те, кто никогда не любили женщин или потеряли к ним интерес, кого ураган этих желаний после долгих лет в ограниченном, грубом, безжалостном мужском мире уже не тревожил, смотрели на Пакито вытаращенными, блуждающими, печальными глазами, потирая ширинку, пытаясь угадать за женской мишурой молодое гибкое тело мальчика, являвшегося им в фантазиях.
Иногда обстановка накалялась до драматизма: дыхание зала становилось свистящим, воздух – удушливым. Кончилось тем, что Пакито испугался и решил прекратить эту игру. В последнем спектакле – в том, который мы как раз репетировали, – он неподвижно стоял на импровизированной сцене, не крутя ни бедрами, ни пышной юбкой, и просто пел a cappella несколько стихотворений Лорки.
Среди них это, которое он как раз разучивал в то декабрьское воскресенье, в дальнем конце столовой.
¡Ay que trabajo me cuesta
Quererte сото te quiero!
Por tu amor me duele el aire,
El corazón
Y el sombrero.
Это стихотворение очаровало нас еще в Мадриде в эфемерном раю детских открытий. Нас заворожили эти забавные, не укладывающиеся в рамки обыденного строчки («Трудно, ах, как это трудно – / Любить тебя и не плакать! / Мне боль причиняет воздух / Сердце / И даже шляпа»[32]); к тому же мы видели Лорку у нас дома, в огромной столовой, обставленной мебелью из красного дерева и палисандра, когда он пришел на обед вместе с другими гостями. И это прибавляло прелести его стихам.
В доме Семпрунов мы читали эти стихи для красавицы кузины Мораимы – она смеялась над нашими признаниями в любви, но не могла обижаться.
Особенно нас восхищал конец стихотворения:
…у esta tristeza de hilo
bianco, para hacer panuelos…
Эти две последние строчки («…И белую нить печали, чтобы соткать платок») заставляли нас мечтать на пороге тайны поэзии.
Столько лет прошло, а это все еще живо.
В столовой в крыле С сорокового блока в Бухенвальде я слушал мелодичный голос Пакито, поющего стихотворение Лорки, и живой трепет прошлого заставил забыть непроницаемую усталость от жизни, тошноту, вызванную постоянным голодом, на секунду оживив душу, тело которой уже не хотело ничего, только покоя навеки.
– Надеюсь, этот сукин сын поставит нам пластинки Зары Леандер! – воскликнул Себастьян.
Я удивился. Зачем? Неужели ему не надоели вечные воскресные куплеты?
Он пожал плечами и категорично заявил:
– На слова мне наплевать! Все равно я ничего не понимаю… Зато голос возбуждает… Она помогает мне дрочить!
Себастьян Мангляно напомнил мне сорванцов из Валлекас, детей рабочих окраин или безработных, которые когда-то приходили из бедных кварталов Мадрида в сад Ретиро, чтобы помешать нам – сынкам буржуев из Саламанки – гонять мяч на зимнем солнышке под голубым небом. Как и они, Себастьян говорил о сексе с грубой простотой.
– В воскресенье после обеда, – объяснил он мне, – для меня это классно. Ты-то исчезаешь до самого отбоя, у тебя всякие там собрания, обсуждения, партия, друганы, твой старый препод – флаг тебе в руки. А я твою партию в гробу видал, плевать мне на все это пустозвонство. Пусть мне скажут, что делать, и хорош. И не надо слишком много бубнить. Помнишь песню Коминтерна? «Хлеба, и никаких рассуждений!» Это моя точка зрения. Видишь, я даже поднабрался кое-каких ваших выражений. Все просто – есть точка зрения, ее нужно отстаивать. А враг, черт возьми, тоже ясно кто – фашо…
Тут я должен сделать небольшое отступление. Что бы вы ни подумали, «Фашо» – это не анахронизм. Хотя, конечно, это известное сокращение от слова «фашисты» появилось гораздо позднее нашего разговора с Себастьяном Мангляно, но тем не менее это не анахронизм, а перевод. По-испански еще со времен Гражданской войны 1936 года фашистов называют fachas. На нашем языке Себастьян произнес: «Y el enemigo, coco, уа se sabe: los fachas!» Так что «фашо», чтобы перевести fachas. Мой собственный, вполне приемлемый вариант перевода.
– Врагов-то мы, черт возьми, знаем, – продолжал Мангляно, – фашо! Так что когда в сборочном цехе завода Густлов староста-немец, мой кореш, за спиной гражданских Meister и унтеров СС просит подпортить деталь автоматической винтовки, которые мы собираем, мне не нужно долго растолковывать! Я знаю, что он пойдет поговорить со слесарями, фрезеровщиками, и так по всей ленте, я знаю, что мы лучшие специалисты, что все мы коммунисты, каждый из нас на детали, которую он делает, допустит ошибочку на миллиметр и в конечном счете к концу ленты автомат придет негодным… Вот это я понимаю, для этого я здесь и есть, спрятался у Густлова за пазухой! Ну так вот, о чем бишь я… В воскресенье после обеда – это клево! Ты уходишь, мне одному остаются целые нары… После супа с лапшой – сиеста. Да это просто счастье, старик! И для начала – хорошая солома!
Нет, тут я оплошал. Солома – по-испански pajo. Буквальный перевод. Однако неточный. Потому что paja, hacerse ипа paja, «делать себе солому» – значит мастурбировать. Не так-то просто передать богатый народный язык Мангляно, который сказал: «Después de la sopa de pasta, una siesta: la dicha, macho. A tocarse la picha, la gran paja!»
И тут как раз является Зара Леандер. Точнее, ее голос. Мангляно находит его возбуждающим – что ж, с ним солома мягче!
Мы докуривали бычок, последняя затяжка обожгла губы. Я пожелал ему удачи – чтобы дежурным на сторожевой вышке сегодня был любитель песен Зары Леандер, чтобы его Александр был в форме. Алехандро – так Мангляно называл свой член. Когда я спросил почему, он посмотрел на меня сочувственно:
– Pero vamos: Alejandro Magno!
«Что же тут непонятного – Александр Великий!»
Мангляно совсем по-детски гордился размером своего инструмента. Хочешь не хочешь, приходилось поддерживать его в форме. В последнее время Алехандро часто давал слабину, и Себастьян страшно переживал из-за этого. Впрочем, Алехандро всегда восставал из бессилия, по крайней мере до этого декабрьского воскресенья.
Вдруг рупор в столовой глухо забулькал. И тут же послышался чистый, низкий, волнующий голос Зары Леандер:
So stelle ich mir die Liebe vor,
Ich bin nicht mehr allein…
– Давай, – крикнул я ему. – Давай, Себастьян! Самое время для соломы!
И он, дико захохотав, действительно помчался в барак – к приятному воскресному одиночеству на нарах.
* * *
– В шесть часов в Revier, – сказал Каминский.
Вот и я.
Заключенные толпились у входа в санитарный барак, пытаясь протиснуться внутрь. Толкались, ругались на всех возможных языках. Если немецкий – урезанный, естественно, до нескольких приказных и общеупотребительных слов – был основным языком Бухенвальда, стало быть, языком начальства, то для выражения страха или ярости, чтобы изрыгнуть проклятия, каждый переходил на свое родное наречие.
За порядком следили молодые русские санитары – пуская в ход окрики и зуботычины, они направляли поток прибывших и контролировали вход.
Не пускали в первую очередь тех, кто забыл или не смог очистить башмаки от грязного снега, который неминуемо налипал, стоило только выйти из барака. На этот счет правила СС были суровы – никто не войдет в барак в грязной обуви.
Особенно строго это правило соблюдалось в санчасти.
Revier было единственным внутрилагерным учреждением, где эсэсовцы до сих пор систематически, ежедневно устраивали проверки. Так что всегда можно было ожидать наказаний. Слишком много грязных сапог или башмаков в санитарном бараке могло иметь непредвиденные, но, естественно, неприятные последствия.
Так что тех, у кого была грязная обувь, выгоняли на улицу поскрести башмаки о железные прутья, предназначенные специально, чтобы счищать снег и глину.
Во вторую очередь русские санитары наметанным глазом вышибал из ночных клубов, казино и прочих привилегированных увеселительных заведений высматривали и выпроваживали тех, кто слишком часто заглядывал в Revier в надежде получить бумажку о Schonung – освобождении от работы.
Жестом, криком, ругательством – всегда одним и тем же: отсылали к чьей-то матери – русские выгоняли таких, едва завидев, из толпы просителей, словно опасных пройдох.
И только после этого начиналась настоящая сортировка. Вновь став санитарами, молодые русские осматривали заключенных, которые действительно пришли за медицинской помощью.
Некоторых, даже если они впервые переступили порог санчасти и были в чистых башмаках – два основных условия, чтобы обойти первое препятствие, – сразу же отсылали обратно в блок. Они не выглядели достаточно слабыми для того, чтобы позволить им отлынивать от работы, хоть и демонстрировали рубцы на коже от плохо заживших фурункулов, синяки от дубинок эсэсовских унтеров или рехнувшихся капо, разбитые от неумелого обращения с молотком или клещами пальцы – ведь они были не рабочие, а – как знать? – возможно, университетские профессора.
Этого было недостаточно – их временная нетрудоспособность была неочевидна.
Молодые русские санитары судили по внешним признакам – на глаз. В их обязанности не входило выслушивать долгие жалобы потерявших надежду людей. Можно ли вообразить себе, что один из этих русских парней на секунду перестанет раздавать направо и налево тычки, поддерживая видимость порядка, и прислушается к просьбе, которую и не выскажешь толком в этой чудовищной сутолоке?
Все, что просители могли сказать – очень быстро и на примитивном всеобщем жаргоне, – было одновременно слишком общо и слишком расплывчато. Понять их было невозможно. Они показывали разбитые пальцы или гноящиеся от непрекращающегося фурункулеза подмышки, но болело-то у них все. Все тело, отказывающееся жить в подобных условиях, уставшее от трудностей и молившее о снисхождении. День-другой Schonung’a, освобождения от работы, – все равно что утопающему высунуть голову из воды и глотнуть воздуха. Глубокий вдох, солнечный пейзаж – и вот уже появилось немного сил, чтобы продолжать борьбу против бурлящего потока. День Schonung’a – даже для человека, который не знал немецкого и не мог осознать всех лексических коннотаций[33], – несколько лишних часов сна повышали вероятность выживания. Ведь в концентрационных лагерях (я, естественно, не имею в виду лагеря в Польше с их газовыми камерами, нацеленные в первую очередь на истребление евреев) из десятков тысяч политических заключенных, участников Сопротивления из всех стран Европы, партизан из всех лесов, со всех гор большинство умирало не от избиения, пыток или массовых расстрелов. Умирали от истощения, от упадка сил, от усталости, умирали, сломленные изнеможением, медленным угасанием энергии и надежды.
Я подошел к двери Revier в надежде увидеть фигуру Каминского за живой стеной из молодых русских санитаров. Собачиться с ними, чтобы войти в барак, мне не улыбалось.
Каминский, естественно, уже был там.
Он увидел меня и сделал знак одному из русских, с которым разговаривал.
Русский растолкал разделявшую нас толпу и заорал, чтобы меня пропустили. Заключенные расступились, я прошел. Вдруг я почувствовал на себе его пристальный взгляд – он рассматривал мой номер и букву S над ним. Тихо, почти неслышно, когда я проходил мимо него, молодой русский санитар произнес:
– Der Akkordeonspieler ist da drinnen!
И кивком головы указал внутрь барака. Аккордеонист там.
Аккордеонист? Раз санитар в курсе этой истории, значит, он из банды Николая.
Я уже был рядом с Каминским, когда услышал, как кто-то окликнул меня:
– Жерар, Жерар!
Я обернулся.
В первом ряду заключенных, ломившихся в барак на консультацию, я заметил француза. Он назвал меня Жераром, значит, мог быть товарищем по партии. Но нет, их я всех помнил в лицо. Во всяком случае, лица тех, кто мог бы, обращаясь ко мне, назвать меня Жераром, тех, кто знал эту кличку из Сопротивления. Но может быть, он просто знал меня по Сопротивлению, а в партии не состоял. Из Жуаньи? Из партизанского отряда в Табу? Из тюрьмы в Осере? Я не узнал его с первого взгляда, но понемногу его образ стал всплывать со дна моей памяти, – скорее всего, я познакомился с ним в тюрьме в Осере. Да, точно, это Оливье, высокий, худой Оливье из тюрьмы в Осере, проходивший по делу братьев Орте.
Я подошел к нему. Каминский заметно нервничал, но ничего не сказал.
– Оливье! – позвал я.
Он задрожал от радости, лицо его осветилось. Измученное, старое, изрытое морщинами, измятое жизнью лицо. Потому что именно жизнь, такая жизнь, наша жизнь здесь выполняла работу смерти.
– Ты меня узнал! – воскликнул он.
Нет, я его не узнал. Узнать его было невозможно. Я обошел его, мысленно навесил на него лишние килограммы, представил себе, каким он был до лагеря. Оливье Кретте, механик в гараже в Вильнёв-сюр-Йонн, из отряда братьев Орте. Я был в Осере, в Осерской тюрьме, когда расстреляли одного из братьев Орте. Вся немецкая часть тюрьмы выкрикивала антифашистские и патриотические лозунги, пела «Марсельезу», прощаясь с самым юным из братьев Орте. Шум стоял неописуемый – крики, песни, удары плошками по решетке.
Нет, я не узнал его. Но я не мог сказать ему, насколько он изменился.
– Естественно, – ответил я. – Оливье Кретте, механик.
Бедняга расплакался. Полагаю, от радости. От радости, что он больше не одинок.
Я обернулся к Каминскому. Здесь мой друг, немец из Германской империи, Reichsdeutscher, со своей нарукавной повязкой Lagerschutz представлял реальную власть. Я обратился к нему по-испански.
– Aquel francés que entre, – сказал я ему. – Le conozco: resistente.
«Тот француз, – сказал я ему, – пусть его пропустят, я его знаю, он из Сопротивления».
– Aquel viejito?
«Тот старикашка?» – спросил он. Ну да, тот самый старикашка, Оливье Кретте, механик, ему было от силы тридцать лет.
Каминский отдал несколько коротких приказов. По-русски, для быстроты. Он как раз и произнес несколько раз слово «быстро». Санитар – тот самый, из банды Николая – пропустил Оливье через последний кордон, отделявший его от медицинской консультации.
– Спасибо, старина! – поблагодарил меня Оливье. Он внимательно посмотрел на мой номер, на букву, обозначающую национальную принадлежность. – Ты испанец? А я и не знал… Но ты принадлежишь к сливкам общества. – Он покачал головой. – Одно могу сказать: меня это не удивляет!
Загадочно. Но у меня не было времени прояснить вопрос. Как, впрочем, и желания. Каминский нетерпеливо переминался с ноги на ногу.
– Что у тебя? – спросил я Оливье.
– Понос. Я просто исхожу дерьмом, не могу больше!
– Где ты работаешь?
– То здесь, то там, по мелочи! Там, где есть свободные рабочие места или куда начальство пошлет, все решается утром на плацу…
– Разве ты не механик?
– Механик. Но кого это здесь волнует?
– Меня, – ответил я.
Он широко раскрыл глаза.
– Ладно, иди лечись. И приходи ко мне в Arbeit, я там работаю. В любой день, сразу до или после вечерней переклички.
– Спросить Жерара?
– Если наткнешься на француза, спроси Жерара, если на кого другого, спроси испанца. Не ошибешься, я всегда там, ты меня увидишь!
Каминскому надоело ждать. Он схватил Оливье за руку и потащил в приемную. Но все-таки был великодушным до конца: впихнул его в очередь к дежурившему в тот день врачу-французу – чтобы Оливье мог объясниться с ним.
Для начала Каминский отвел меня к капо санчасти Эрнсту Буссе, немецкому коммунисту. Одному из ветеранов-коммунистов в Бухенвальде, насколько я понял.
Кряжистый, бритоголовый, с квадратной челюстью – Буссе был крепышом. Я уже видел его однажды в Arbeit, когда он заходил к Зайферту. Мне врезался в память его взгляд – столько решительной, безнадежной холодности, такая ледяная проницательность.
Он не стал терять времени на болтовню.
– Мы положим тебя к безнадежным, – сказал он мне. – Рядом с твоим будущим трупом.
И махнул рукой, вроде как извиняясь. Но я понял, и он видел, что я понял, и продолжил:
– Ты родился причесанным, кстати сказать. Mit der Glückshaube bist du geboren!
Я обратил внимание, что французское выражение звучит так же, как немецкое. Но я настаиваю, что испанский «цветок в заднице» гораздо забавнее для обозначения удачи. Я тогда еще не знал, что есть и французские выражения, где упоминается задница. Им обучил меня мой друг Фернан Баризон, металлург, сражавшийся в интербригадах, здесь же, в Бухенвальде. Позднее, много позднее одна красивая, очень красивая женщина – единственная из тех, кого я знал, произносившая естественно, не жеманно и не манерно, словечки и выражения из парижского жаргона, изобретательного наречия, полного юмора и лингвистических находок, – употребила при мне это выражение, обозначавшее удачу: «У тебя задница медалями увешана!» И еще более странное и более непристойное: «У тебя вся задница в лапше!»
Как бы то ни было, но в кабинете Буссе в санчасти Бухенвальда у меня не было ни времени, ни возможности пускаться в компаративно-лингвистические отступления.
Буссе продолжал:
– Молодой француз не переживет сегодняшнюю ночь. Завтра утром у нас будет время, в зависимости от новостей из Берлина, записать смерть под его или твоим именем…
Я был в курсе, Каминский мне уже объяснил все детали. Вероятно, Эрнст Буссе хотел подчеркнуть свою роль в этом деле.
– Есть одна закавыка, – продолжал он, – сегодня в санчасти у эсэсовцев попойка. Они отмечают день рождения одного из врачей. Напьются в дымину. В таких случаях они иногда заявляются с проверкой, в любое время… Им нравится копаться в дерьме. Если что, сделаем тебе укол. Не беспокойся, у тебя просто будет сильный жар, и все. Завтра не будешь как огурчик, зато живой.
Он посмотрел на меня.
– Да, толстяком тебя не назовешь, но ты совсем не похож на умирающего, совершенно… Советую тебе в случае чего бредить. Если они придут, скажем, что в твоем случае мы опасаемся заразной болезни. Они их до ужаса боятся…
Вот и все, он жестом отпустил нас. Мы с Каминским вышли из кабинета, он повел меня по коридорам санчасти.
– Твой давешний старый француз, – вдруг сказал он. – Без толку… Он все равно не жилец!
Это было похоже на правду, но я разозлился:
– Во-первых, он не старый! И потом, никогда не знаешь, как все обернется!
Каминский пожал плечами:
– Да нет, тут все ясно, все слишком ясно… Ты видел его глаза? Он сломлен.
Да, глаза. Когда в человеке появляется трещина, когда душа погружается в уныние, мы замечаем это по глазам. Тогда взгляд тускнеет, и в нем сквозит безразличие. В нем не отражается больше ни страха, ни страдания – ничего. Этот взгляд всего лишь говорит – меня нет, я не здесь. И вот тогда уже окончательно ясно – человек сдался, в нем нет больше жажды жизни. Ты помнил, как в этих глазах мелькало любопытство, возмущение, радость, – а теперь видишь, что их обладатель, кем бы он ни был, безмолвно обрушивается в головокружительное небытие. Его нет, он поддался чарам Горгоны.
– Без толку, – повторил Каминский.
Я начал закипать. Вероятно, он был прав, но я злился.
– А для меня есть толк, – раздраженно ответил я.
Он остановился и уставился на меня, нахмурив брови.
– Что ты хочешь сказать?
– Только то, что сказал. Что для меня будет толк, если я хоть как-то ему помогу, пусть даже самую малость.
– Ты чувствуешь себя лучше, так, что ли? Может быть, ты чувствуешь себя лучше всех?
– Не в этом дело. А если и так, это что, запрещено?
– Не запрещено. Но бессмысленно. Мелкобуржуазная роскошь.
Он не сказал «kleinbürgerlich», он сказал хуже. Он произнес «spiessbürgerlich», углубив коннотации мелочности, узости мышления, эгоизма – тех качеств, которые подразумевает это прилагательное «мелкобуржуазный».
Я знал, что он имеет в виду, мы все это уже обсуждали. Для него доставить себе удовольствие, совершив доброе дело, – это мелочь, не стоит усилий. Если он и признавал что-то, то никак не жалость, не сострадание, еще меньше нравственный закон. Каминский верил только в солидарность. Солидарность в сопротивлении, естественно – это была вера в коллективное сопротивление. На время, конечно, но она налагала определенные ограничения. Она непредставима в других исторических условиях, но необходима в Бухенвальде.
– С тех пор как ты здесь, – спросил я его, – неужели тебе ни разу не приходилось делить свой кусок хлеба с товарищем, для которого было уже слишком поздно? Неужели ты никогда не совершал бессмысленных – с точки зрения выживания другого человека – поступков?
Он пожал плечами, – естественно, такое с ним случалось.
– Были другие времена… Командовали тогда «зеленые треугольники» – уголовники, у нас не было такого организованного сопротивления, как теперь. Личный поступок, личный пример был решающим…
Я перебил его:
– Организация, о которой ты говоришь, подпольная… Ее действия, какими бы эффективными они ни были, не всегда заметны – большинство заключенных не знают о ней либо понимают не так. Зато очень заметен ваш особый статус, ваши привилегии Prominenten… Один красивый бесполезный жест время от времени – никому хуже не будет…
Но мы уже дошли до конца коридора санчасти. Он показал мне дверь:
– Это там. Тебя ждут.
Он сжал мне руку.
– Ночь будет длинной среди всех этих смертников и трупаков… И потом, там смердит, воняет дерьмом и мертвечиной… О чем ты будешь думать, чтобы забыться?
Это был не вопрос – прощание. Я вошел в палату санчасти, где меня ждали.
Мне велели оставить одежду в подобии гардероба и выдали взамен узкую рубашку из грубой ткани, без воротника и слишком короткую – она не прикрывала мой срам, как я написал бы по-испански (иначе говоря, моих половых органов).
Меня уложили рядом с умирающим, место которого я должен был занять, если потребуется.
Я буду жить под его именем, а он умрет под моим. В общем, он отдаст мне свою смерть, чтобы я мог жить. Мы обменяемся именами, это к чему-то обязывает. Его сожгут под моим именем, а я выживу под его, если придется.
Холодок пробежал по спине – вдобавок я чуть не зашелся сумасшедшим, скрипучим смехом, – когда я узнал, какое имя буду носить, если запрос из Берлина в самом деле окажется серьезным.
Едва растянувшись на нарах рядом с «подходящим покойником», как сказал Каминский сегодня утром (покойник этот, впрочем, оказался всего лишь умирающим), я захотел увидеть его лицо. Законное любопытство, согласитесь.
Но он лежал ко мне спиной, худой, голый – возможно, шершавые рубашки снимали с тех, кто был уже вне этой жизни, – скелет, обтянутый серой, морщинистой кожей, бедра и ягодицы покрыты слоем жидких, уже засохших, но все еще воняющих фекалий.
Я медленно повернул к себе голый торс.
Этого можно было ожидать.
«Столько же лет, сколько тебе, почти день в день, – сказал мне Каминский сегодня утром о покойнике, который подходил мне по всем параметрам. – Невероятно, студент как и ты, и к тому же парижанин!»
Я мог бы догадаться раньше. Слишком красиво, чтобы быть правдоподобным, но оказалось правдой.
Я лежал рядом с молодым мусульманином-французом, уже два воскресенья не появлявшимся в сортирном бараке, где я встретил его впервые. Я лежал рядом с Франсуа Л.
Я ведь все-таки узнал его имя, он сам мне сказал. И именно из-за этого я готов был скрежетать зубами и ужасаться насмешке судьбы.
Потому что Франсуа, который прибыл в Бухенвальд тем же транспортом из Компьеня, что и я – его лагерный номер совсем немного отличался от моего, – был сыном – естественно, мятежным, отвергнутым, но все же сыном – одного из самых активных и гнусных главарей французской милиции[34].
В случае чего, чтобы выжить, мне придется взять имя пронацистского ополченца.
Я повернул его к себе, чтобы посмотреть на его лицо.
Не только затем, чтобы не видеть его бедер, испачканных жидким, но теперь засохшим калом. Еще и для того, чтобы уловить возможное биение жизни, если можно назвать так это короткое, почти неуловимое дыхание, это слабое пульсирование крови, эти спазматические движения.
Чтобы услышать его последние слова, если они будут.
Лежа рядом с ним, я искал на его лице последние признаки жизни.
В «Надежде» Мальро, которую я перечитал за пару недель до ареста, меня потряс один эпизод.
Подбитый во время атаки франкистов самолет интернациональной эскадрильи, созданной и руководимой Андре Мальро, в огне возвращается на базу. Охваченный пламенем, он все же приземляется. Из-под обломков самолета извлекают раненых и трупы. В том числе – труп Марселино. «Марселино был убит пулей, попавшей ему в затылок, – пишет Мальро, – потому крови вытекло немного. Несмотря на трагическую пристальность глаз, которых никто не закрыл, несмотря на мертвенное освещение, маска была красивой».
Труп Марселино уложили на стол в баре аэропорта. Глядя на него, одна из официанток-испанок сказала: «Надо подождать еще час, самое малое, только тогда начинаешь видеть душу». И Мальро чуть ниже делает вывод: «Лишь через час после смерти из-под маски человека начинает проступать его истинное лицо».
Я смотрел на Франсуа Л. и думал об этих словах из «Надежды».
Я был уверен, что душа уже покинула его. Его настоящее лицо – осунувшееся, разрушенное – уже никогда не возникнет из этой ужасной маски. Не трагической, но непристойной. Никакая безмятежность не сможет разгладить искаженные, обезображенные черты лица Франсуа. Никакой покой больше немыслим в этом взгляде – ошеломленном, возмущенном, исполненном бессмысленного гнева. Франсуа еще не умер, но уже был оставлен.
Господи Боже, кем? Душа ли покинула истерзанное, оскверненное тело – хрупкий, ломкий остов, словно мертвое дерево, которое уже совсем скоро сожгут в печи крематория? Но кто оставил эту гордую, благородную, влюбленную в справедливость душу?
Когда гестапо схватило его, рассказывал мне Франсуа, и когда они поняли, с кем имеют дело, немецкие полицейские обратились к его отцу, верному союзнику, активному коллаборационисту: как им поступить с его сыном? Освободить? Они готовы были сделать исключение. «Пусть с ним обращаются так же, как с остальными, так же, как со всеми врагами, без всякой пощады», – ответил отец, профессор филологии, страстный почитатель античности и французской литературы. «Просто потрясающе, как совершенство прозы притягивает правых!» – усмехнулся Франсуа во время нашего разговора в сортире. Это был тот самый наш единственный бесконечно долгий разговор. В тот день он рассказывал мне о Жаке Шардонне, в частности о его участии два года назад в конференции писателей под руководством Йозефа Геббельса в Веймаре. «Ты не читал текстов Шардонна в „Нувель ревю франсэз“?» – спросил меня Франсуа.
Нет, не читал, во всяком случае, не запомнил.
Отец Франсуа был сторонником Мораса, просвещенным антисемитом – я имею в виду, что в его случае уместнее отсылки к Вольтеру, чем к Селину, – он обличал «злокозненность евреев, безродных по природе своей», «неспособных к патриотизму и поклоняющихся лишь Золотому тельцу» (это были стандартные формулировки). После поражения 1940 года он примкнул к нацистам, его активность подпитывалась разрухой и антибуржуазным нигилизмом.
Культурный человек превратился в убежденного милитариста. Раз надо было сражаться, то уж на передовой, с оружием в руках и в милиции Дарнанда[35].
«Пусть с ним обращаются так же, как с остальными, так же, как со всеми врагами», – сказал отец Франсуа гестаповцам.
Возможно, ему казалось, что он следует моральным заветам стоиков.
Так что Франсуа допрашивали как всех, как любого другого – беспощадно.
Я смотрел на Франсуа Л. и думал, что так и не дождусь появления его души, его настоящего лица. Слишком поздно. Я начинал понимать, что смерть в лагере, смерть заключенных не совсем обычна. Это не просто – как любая другая смерть, как все смерти, насильственные или естественные, – скорбный или утешительный, но неизбежный конец. Смерть заключенных не приходит в конце жизни, как ее завершение. В некотором смысле после смерти на лице усопшего проявляется видимость отдыха, безмятежность. Когда умирает заключенный, не проявляется душа, не проступает истинное лицо из-под маски жизни, которую человек сам себе выбрал и которая его же раздавила. Смерть более не является ответом человека на вопрос о смысле жизни – ответом устрашающим или оскорбительным для каждого в отдельности, но понятным всем, точнее, всем, принадлежащим к роду человеческому. Потому что осознание конечности существования свойственно людям в той мере, в какой они человечны, в какой они отличаются от животного. Потому что сознание того, что жизнь конечна, и делает человека человеком. Представим себе на минуту ужас человечества, лишенного этого главного конца, обреченного на ужас бессмертия.








