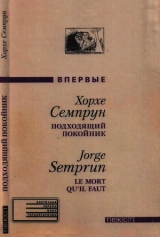
Текст книги "Подходящий покойник"
Автор книги: Хорхе Семпрун
Жанры:
Исторические детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Должно быть, он давал мне совет. Или, скорее, инструктировал. Я не понимал слов, только жесты. Я усек, что он хочет забрать камень, который я тащил, и дать мне свой. Он тут же перешел к делу – взвалил на плечо камень, пригибавший меня к земле, буквально душивший меня. Взамен я взял его ношу. Мне захотелось кричать от радости, таким легким, как перышко, как бабочка, как женская улыбка, как ватное облачко в голубом небе, был этот «камешек»!
– Быстро, быстро! – крикнул русский.
Это-то я хорошо понял. Он хотел, чтоб я поторопился, потому что унтер скоро вернется. Мы спускались вниз по дороге. Теперь мне было легко, я рысцой трусил под уклон. Русский шел так же быстро, как я, несмотря на тяжесть, которую он теперь тащил, – природная силища.
Мы сгрузили свою поклажу на кучу камней, которую другие заключенные следующим нарядом – может быть, даже завтра или попозже – перенесут на прежнее место, чтобы не нарушать порядок ненужных работ. Бессмысленных, но обучающих. Точнее, переобучающих. Не забудем, что Бухенвальд в нацистской системе назывался «исправительно-трудовым лагерем», Umschulungslager.
Русский посмотрел на меня, свеженький, как огурчик, явно довольный шуткой, которую он сыграл с унтером СС. Он что-то сказал мне, и я различил в его речи знакомый глагол. Не услышав слова «мать», которое обычно шло в паре с этим глаголом, я заключил, что на этот раз он выражает радость по поводу того, что удалось «поиметь» эсэсовца.
Как будто этого ему показалось мало, он решил разделить со мной половину самокрутки. Мы курили, веяло весной, и казалось, жизнь продолжается.
Протягивая мне сигарету, он назвал меня «товарищ». В тот момент это окончательно убедило меня в том, что передо мной Новый Советский Человек. Теперь нужны другие гипотезы.
«Товарищ» – он был просто товарищем.
После этого я, естественно, старался избегать работ в карантине.
Я не мог постоянно полагаться на удачу, которая, казалось, сопутствовала мне. Которая, во всяком случае, меня не оставляла. В Испании, десять лет спустя, в антифранкистском подполье удача все еще была со мной. И там мне говорили, что я везучий, как когда-то заметил Каминский тем давним воскресным днем в Бухенвальде. Но на моем родном языке метафора, обозначающая везение, более телесная, плотская. «Tu si que has naciso con una flor en el culo!» – восклицают испанцы. По-французски – родиться причесанным или с серебряной ложкой во рту; по-испански то же самое – с цветком в заднице. Наверное, можно было бы долго рассуждать о семиотической разнице между этими двумя выражениями, сделать выводы об оральных и анальных тенденциях в этих двух языках. Но пожалуй, не время.
Идея создать группу самозащиты возникла однажды вечером в сортире, после вечернего супа, но еще до комендантского часа. Насколько я помню, нас было трое – Ив Дарье, Серж Миллер и я. Клода Франсис-Бева привел Ив. А Миллер привел Амлена. И только я не привел никого, ведь я никого не знал.
Принцип действия системы самозащиты был прост: надо было всего лишь стараться, чтобы эсэсовцы не застали нас врасплох, когда им приходило в голову сформировать «рабочие» колонны, узнать об этом хотя бы за несколько минут, чтобы успеть укрыться в сортире.
Для этого каждый из нас по очереди нес вахту перед шестьдесят вторым блоком. Прибытие эсэсовцев не могло пройти незамеченным. Еще издали нам было видно, как они собираются на плацу на вершине холма Эттерсберг, на котором раскинулся лагерь. Естественно, отряды эсэсовцев появлялись в лагере не только для того, чтобы выловить заключенных и отправить их на работы. Они приходили, чтобы устроить карательные экспедиции – все более и более редкие, – прочесать бараки, убедиться, что нет симулянтов и сачков. На всякий случай, однако, дозорный всегда сообщал нам о появлении эсэсовцев, и мы спешили укрыться в сортирном бараке. Здесь мы были в безопасности.
Санитарный барак действительно был укрытием и пользовался странным статусом нейтральной территории. Эсэсовцы никогда не преступали его порог. Равно как и капо, насколько я могу судить по своему личному опыту. Только один раз я видел капо – впрочем, это был политзаключенный, «красный треугольник», – прогуливающимся по проходам вдоль сточной канавы, но причины его появления в бараке были особенными.
Этого заключенного-немца, занимавшего важный пост во внутренней администрации, отстранили от любой политической ответственности в подпольной организации лагеря, потому что он был «пылким» педерастом. Прилагательное – leidenschaftlich – употребил сам Зайферт, капо Arbeitsstatistik, когда этот «красный треугольник» явился к нам в контору по каком-то делу. Зайферт отметил своеобразные склонности этого типа с удивлением и уважением одновременно. Я догадался, что капо любит мальчиков совершенной, бескорыстной любовью, что он готов пожертвовать всем ради этой страсти. Он уже пожертвовал членством в компартии, принимая все последствия, которые это могло иметь в Бухенвальде.
Уважение Зайферта, его восхищенное удивление, которое проглядывало в том, как он рассказывал эту историю, имело под собой реальную основу. Зайферт уважал, конечно, не нравы этого капо. Трудно было ожидать понимания или снисходительности, тем более – уважения по такому поводу от ветерана-коммуниста.
Но, как выяснилось, Капо – если я и знал его имя, то совершенно забыл, так что пусть остается Капо с большой буквы, как имя собственное, – несколькими годами ранее вел себя очень мужественно. Около 1942 года, после того как нацисты напали на Советский Союз, некий Вольф, бывший офицер вермахта, стал старшиной лагеря, Lagerältester — самый высокий пост, на который могли рассчитывать заключенные-немцы во внутренней администрации. В тот момент красных в очередной раз потеснили зеленые – уголовники, которые снова вошли в доверие у эсэсовцев.
Отъявленный гомосексуалист, Вольф во всем подчинялся своему молодому любовнику-поляку из ультраправых, ксенофобу и антисемиту. И когда Вольф со своими прихвостнями и милашками пошел войной на красных, чтобы изгнать их со всех важных постов, К. – капо, так и не могу вспомнить его имени! – проявил небывалую храбрость, защищая своих политических соратников от клана Вольфа, и потерял таким образом – из-за приверженности своим взглядам, а вовсе не пристрастиям – всякую надежду получить место во внутренней администрации или хотя бы там удержаться.
Как бы то ни было, правдива легенда Бухенвальда или нет, К. был единственным красным капо, которого я видел однажды прогуливающимся по сортиру в Малом лагере. Он шел по проходу вдоль сточной канавы, разглядывая полуголые тела – все эти бедра, задницы и члены, открытые взгляду.
Сортир посещали не только инвалиды, старики и мусульмане, негодные к работе или полностью изможденные непосильным трудом, сгруженные в бараки для умирающих, из которых пятьдесят шестой блок был, вероятно, самым характерным. В сортире были и лагерные новички из так называемого карантина, то есть заключенные, только что вырванные из мира по ту сторону колючей проволоки, из прежней жизни. В общем, еще сохранившие свежесть. Аппетитные для тех, чей аппетит распространялся на мужские тела.
К. искал добычу, покорную жертву или партнера среди самых молодых. В этом не было ничего невозможного: ищущий взгляд, подаренная или проданная нежность, безнадежность, которую хотелось с кем-то разделить.
Неожиданно мы оказались лицом к лицу. Ему было лет сорок, может, больше. Жгучий брюнет с тусклым цветом лица. Синяки под глазами и пустой взгляд наводили на мысль о внутреннем разладе – результате тщетных поисков. Он увидел меня, узнал. По крайней мере, узнал во мне человека, работающего в Arbeit, которого он уже видел рядом с Зайфертом, военным вельможей в бухенвальдских джунглях.
Что-то мелькнуло в его взгляде. Сначала удивление. Потом понимание – может, я нахожусь здесь по тем же причинам, что и он? И тут же этот понимающий взгляд прорезало черное подозрение – не конкурент ли я на рынке мальчиков?
Я жестом успокоил его. Нет, я здесь не охочусь, ему нечего меня опасаться.
Красные капо в Бухенвальде избегали сортирного барака Малого лагеря – этого двора чудес, купальни Вифезды, базара, где можно обменять все что угодно. Им претило зловоние «скотской бани», «убогой оравы», худющие, покрытые язвами тела вповалку, в униформе из лохмотьев, выпученные глаза на посеревших, изборожденных непомерным страданием лицах.
– Однажды, – говорил мне ошарашенный Каминский, когда узнал, что по воскресеньям я иногда захожу туда, по дороге или после визита к Хальбваксу в пятьдесят шестой блок, – однажды они соберутся все вместе, набросятся на тебя и отберут носки и куртку Prominent. Что ты там забыл, черт возьми?
Объяснять ему было бесполезно.
Я и в самом деле пытался найти то, что его так пугало, ужасало: гротескный, волнующий и жаркий жизненный хаос смерти, с которым нам пришлось столкнуться. Ее прямо-таки осязаемое движение делало этих несчастных близкими и родными. Это мы сами умрем от истощения и дерьма в этой вонище. Это здесь мы можем обрести опыт чужой смерти для расширения собственного кругозора – быть-вместе-в-смерти, Mitsein zum Tode.
Можно, однако, понять, почему красные капо избегали этого барака.
То было единственное место в Бухенвальде, на которое им не удалось распространить свое влияние, куда не протянула свои щупальца созданная ими система сопротивления. Ведь происходившее здесь указывало на то, что их провал всегда возможен. Что им всегда угрожает поражение. Они знали, что их власть, в сущности, хрупка и беззащитна перед капризами и непредвиденными вывертами берлинской политики подавления.
И мусульмане олицетворяли собой возможность поражения, неудачи сопротивления, которой красные капо всегда боялись. Самим своим существованием мусульмане словно предупреждали, что победа эсэсовцев вполне возможна. Они ведь считали нас дерьмом, меньше-чем-ничто, недочеловеками? Вид мусульман лучше всего мог убедить их в этом.
И именно поэтому совершенно непонятно, почему эсэсовцы также чурались сортира Малого лагеря, до такой степени, что сделали из него – естественно, сами того не желая – прибежище свободы. Почему это, интересно, эсэсовцы избегали зрелища, которое должно было бы их радовать и вдохновлять, – зрелища сломленных врагов?
В сортире Малого лагеря в Бухенвальде они могли бы наслаждаться видом недочеловеков, существование которых оправдывало их идеологическую и расистскую надменность. Но нет, они остерегались сюда заходить – парадоксальным образом это место, где так наглядно демонстрировалась их возможная победа, было проклято. Как ели бы СС – в таком случае это было последним сигналом, последним проблеском их человечности (несомненно, год в Бухенвальде наглядно объяснил мне учение Канта о том, что Зло не бесчеловечно, а, напротив того, крайнее выражение человеческой свободы), так вот, как если бы СС закрыло глаза на свою собственную победу, не выдержав картины мира, который они хотели установить с помощью тысячелетнего рейха.
* * *
– Как ты думаешь, удержатся американцы в Бастони? – неожиданно спросил Вальтер.
Прошлой ночью, с субботы на воскресенье, в комендантский час я явился на работу в Arbeitsstatistik, как и было предусмотрено. Там занялся привычной работой – сначала занес в главную картотеку маршруты перемещения рабочих, о которых сообщали разные службы. Выписал имена больных, освобожденных от работы. Затем ластиком стер имена умерших – личные карточки велись карандашом. Так проще – перемещений было много, и поэтому приходилось бесконечно стирать и переписывать. Наконец я вписал имена новеньких в чистые карточки или в те, что освободились после отмучившихся.
Через некоторое время я присоединился к Вальтеру в задней комнате Arbeitsstatistik. «Старина Вальтер», – подумал я. В сущности, стариком он не был. Просто состарился раньше времени. Он застал первые годы в Бухенвальде – сейчас это и представить себе невозможно. Тогда лагерь еще не был санаторием. В 1934 году, когда его арестовали, на допросе в гестапо ему сломали челюсть.
Он до сих пор страдал от болей и совсем не мог жевать. Каждый день ему приходилось таскаться в Revier за плошкой кашеобразного сладкого супа.
Вальтер был одним из немногих немецких коммунистов-ветеранов, с которым еще можно было разговаривать. Одним из тех, кто не сошел с ума. Не превратился в буйнопомешанного, во всяком случае. Я пользовался этим и расспрашивал его о том, как раньше выглядел лагерь. Он отвечал. Мои знания о прошлом Бухенвальда почерпнуты в основном из его долгих ночных рассказов.
Только об одном эпизоде мне не удалось вытянуть из него ни слова, хотя я очень настаивал. Он вообще отказывался говорить о 1939–1941 годах, периоде советско-немецкого пакта. А было бы интересно узнать, что им пришлось почувствовать в то время, им, немецким коммунистам, которых отправлял в лагерь Гитлер, союзник Сталина! Как они пережили этот разрыв? Объективно – единственный раз это нелепое наречие пришлось впору! – так вот, объективно, как повлиял этот немецко-советский пакт на Бухенвальд?
Ничего, ни единого слова, упрямое молчание, деланно тупой взгляд, как будто он не понимал моих вопросов или ему действительно нечего было сказать. Как будто вообще и не было этого дружественного пакта между Сталиным и Гитлером.
Вальтер, как и я, работал в главной картотеке, поэтому мы могли общаться. А еще мы часто одновременно попадали в ночную смену.
Он подогрел два стаканчика черноватой жидкости, которую я и дальше буду называть «кофе».
Ночь за окном была спокойной. Голубоватый снег мерцал под лучами вращающихся прожекторов, которые через регулярные промежутки времени обшаривали улицы лагеря. Но сегодня мы не услышим, как Rapportführer СС хриплым, измученным голосом приказывает выключить печи, Krematorium ausmachen. Этой ночью нечего было и надеяться на воздушную тревогу. Авиации союзников есть чем заняться в другом месте, на Арденнском фронте.
– Как ты считаешь, удержатся американцы в Бастони? – спросил Вальтер.
Можно подумать, он читал мои мысли. Впрочем, в этом не было ничего удивительного – последние несколько дней мы только об этом и говорили.
Под командованием фон Рундштедта, возродившего стратегию нацистского генерального штаба, которая стала решающей в 1940-м, немецкие войска перешли в контрнаступление на Арденнском фронте. Им удалось потеснить войска союзников – и теперь исход сражения зависел от того, выстоят ли американцы.
Бухенвальд гудел как растревоженный улей.
Никому из нас не приходило в голову, что немцам удастся выиграть эту войну. Но сама перспектива того, что они смогут ее продолжить, затянуть агонию, отсрочить победу союзников, была для нас невыносима. Если Бастонь не удержится, наши шансы на спасение уменьшатся. Силы наши были на исходе. Кто сможет выдержать в лагере еще несколько месяцев голода и изнурительной работы?
На самом деле Вальтер не спрашивал. Это были скорее мольба или пожелание. Я надеюсь, что американцы удержатся в Бастони, – был смысл его реплики.
Все, что мне оставалось, – выразить то же чувство.
– Я надеюсь, – ответил я.
Однако выяснилось, что Вальтер озабочен более сложным вопросом.
– Интересно, американцы умеют воевать? – снова заговорил он. – В самом начале японцы их неплохо прищучили.
– В самом начале и русских неплохо прищучили.
Он кивнул, признавая мою правоту, но явно остался недоволен тем, что я пытаюсь его успокоить таким доводом.
– Может, для того, чтобы уметь воевать, нужно быть немного фанатиком? – произнес Вальтер чуть позже.
Должен признаться, этот вопрос застал меня врасплох. Вальтер тем временем продолжал развивать свою мысль:
– Неужели мы, коммунисты, умеем воевать, просто потому, что мы фанатично преданы идее?
Вальтер говорил тихо-тихо, как будто боялся, что его услышат. Но, кроме нас двоих, в задней комнате Arbeitsstatistik никого не было. Возможно, он сам боялся этих слов, боялся, что кто-то способен произнести такое вслух.
Я посмотрел на старого, уже почти седого Вальтера, на его сломанную гестаповцами челюсть. И подумал о «Надежде», романе Андре Мальро. Когда речь заходит о коммунистах, все вспоминают этот роман. Особенно если только что перечитывали его – как я, всего за несколько дней до ареста в Жуаньи.
Я вспомнил о Манюэле, молодом интеллектуале-коммунисте, ушедшем в армию, который объяснял, что теряет душу, утрачивает человеческие черты ровно настолько, насколько приобретает качества хорошего коммуниста и хорошего военного.
В романе Манюэль отдает приказ о расстреле нескольких дезертиров – молодых антифашистов, добровольцев первого призыва, которые бежали с поля боя, когда на них пошли танки итальянцев-франкистов. С этого момента, понимает он, ему нужно душить в себе благородные чувства, жалость, сострадание, великодушие, умение прощать другим их слабости – чтобы стать настоящим командиром. А ведь для того, чтобы выиграть народную войну против фашизма, нужны настоящие командиры и настоящая армия.
Но не с Вальтером мне обсуждать Мальро и его «Надежду». Я бы мог поговорить об этом с Каминским, который сражался в интербригадах и не понаслышке знал многое из того, что описано в романе Мальро.
У Вальтера память забита примерами из другой эпохи, другой политической культуры, менее открытой миру, с ограниченной сектантской ориентацией, заданной Коминтерном в Германии в тридцатые годы, – класс против класса.
В общем вопрос Вальтера повис б воздухе. Однако же он был более чем уместен, он мог бы завести довольно далеко – неужели мы такие хорошие солдаты, просто потому что мы, коммунисты, – фанатики?
Тут дверь задней комнаты отворилась, и вошел Майнерс. Естественно, в его присутствии разговаривать было уже невозможно.
«Вы…? – Генри Сатпен. – Вы здесь уже…? – Четыре года. – Вы вернулись домой…? – Умирать. Да. – Умирать…? – Да. Умирать. – Вы здесь уже…? – Четыре года. – Вы…? – Генри Сатпен»[19].
Вальтер без особых церемоний повернулся к Майнерсу спиной, а я из задней комнате Arbeit вернулся к своему письменному столу, рядом с главной картотекой. Мне хотелось дочитать роман Фолкнера «Авессалом, Авессалом!».
Я взял его в библиотеке на эту неделю ночной работы.
Я нисколько не сомневаюсь в том, что у некоторых эта фраза вызовет раздражение. Или удивление, или даже тревогу – все это мне прекрасно известно. Много лет назад, когда я написал, что нашел в библиотеке Бухенвальда «Логику» Гегеля и прочел ее при сходных обстоятельствах – во время недели ночного дежурства, Nachtschicht (единственно возможные для чтения время и место, и только если работать в бюро или в обслуге командования; для тех же, например, кто работал в сборочном цехе завода Густлов в три смены, это было немыслимо), я получил несколько негодующих писем. Авторы некоторых сетовали. Как у меня язык повернулся сказать, что в Бухенвальде была библиотека? Что за нелепые выдумки? А может, я просто хочу уверить всех, что лагерь был чем-то вроде дома отдыха?
Более коварные читатели заходили с другой стороны. Ах, стало быть, в Бухенвальде была библиотека? И у вас было время читать? Ну так, значит, все было не так уж чудовищно! Не принято ли несколько преувеличивать, живописуя ужасы нацистских лагерей? А может, это вовсе и не были лагеря смерти?
Конечно, таких писем было не очень много. Само собой, я не стал отвечать ни на одно из них. Если потрясенные или ехидные читатели изначально настроены против меня, то они бы остались глухи к любым моим доводам. Если же они были вполне искренни, им самим стоит убедиться в абсолютной правдивости моего рассказа.
В Бухенвальде действительно была библиотека. Это легко проверить. Например, если у вас есть время и вы любите путешествовать, вы можете посетить Веймар. Чудесное местечко, город Гете. Повсюду видны следы пребывания здесь великого поэта. Так же как и напоминания о Шиллере, Листе, Ницше, Гропиусе – словом, обо всех титанах европейской культуры. И если погода будет солнечной – в самом деле, отчего ж не отправиться в путешествие весной или летом? – можно прогуляться по берегу реки Ильм, протекающей в окрестностях города. На краю небольшой зеленой лесистой долины виднеется летний домик Гете, Gartenhaus. Недалеко от моста через Ильм есть скамейка – потрясающее место для того, чтобы просто присесть и отдохнуть. Мысли, которые снизойдут на вас здесь, наверняка затронут самые чувствительные струны вашей души и навсегда останутся в вашей памяти.
Потому что днем раньше – или утром того же дня, если вы выбрали для прогулки к летнему домику послеобеденное время, – вы пройдете несколько километров, которые отделяют Веймар от концентрационного лагеря Бухенвальд, что на холме Эттерсберг, где и сам Гете так любил прогуливаться в компании несравненного Эккермана.
Вы посетите это место, этот памятник европейской истории позора и бесчестья. Вероятно, вы надолго задержитесь в музее Бухенвальда. Здесь хранятся все сведения о лагерной библиотеке. У вас даже будет возможность полистать тот самый экземпляр той самой «Логики» Гегеля, который я когда-то держал в руках. Зато, к моему великому сожалению, здесь больше нет романа Фолкнера, который я читал в декабре 1944 года, когда началась эта история: экземпляр из библиотеки Бухенвальда до сих пор не обнаружен.
Ну, а если у вас нет ни средств, ни желания, ни времени ехать в Веймар, достаточно пойти в книжный магазин и спросить книгу Ойгена Когона «Страна СС», опубликованную в известной серии. В ней вы найдете документальные сведения о библиотеке Бухенвальда и историю ее создания.
Под заголовком «Организованный ад» эта книга Когона была издана по-французски в 1947 году. Речь идет об очень важном во многих отношениях свидетельстве. Во-первых, потому, что Когон занимал ключевой пост во внутренней администрации Бухенвальда, что позволило ему увидеть систему концентрационных лагерей в целом. Он был помощником главврача СС Дингшулера, ответственным за блок медицинских опытов. На этом посту, проявив находчивость, отвагу и упорство, Когон здорово помог антифашистскому движению в Бухенвальде.
В то же время Ойген Когон – и это делает его свидетельство, его исследование еще более ценным – не был активным коммунистом. Христианский демократ по убеждениям, он был решительным противником марксистской идеологии, и, участвуя в движении Сопротивления в Бухенвальде, рискуя жизнью наравне со своими немецкими товарищами-коммунистами, всегда при этом сохранял моральную независимость.
Вот как объясняет Ойген Когон в своей книге происхождение бухенвальдской библиотеки:
«Библиотека для заключенных была основана в Бухенвальде в начале 1938 года. Чтобы собрать первые три тысячи томов, узникам разрешили получать посылки с книгами из дома; или они должны были внести определенную сумму денег, на которую комендатура закупала национал-социалистические произведения… Сама комендатура безвозмездно выделила библиотеке 246 книг, из которых 60 были экземплярами „Майн кампф“ Адольфа Гитлера и 60 – „Мифом двадцатого века“ Альфреда Розенберга. Все они сохранились в прекрасном состоянии, вопиюще новые, совсем нечитанные. С годами библиотека увеличилась до 13 811 книг в переплете и 2000 брошюр… Зимой 1942–1943 годов я часто добровольно записывался в ночную охрану сорок второго блока в Бухенвальде, где периодически подворовывали хлеб из шкафчиков. Я оставался один с трех до шести утра в караульном помещении – там, в этой прекрасной тишине и покое, я изучал сокровища лагерной библиотеки. Было так странно сидеть одному у занавешенной лампы и читать „Пир“ Платона или „Лебединую песню“ Голсуорси, Гейне, Клабунда или Меринга…»
Я в свою очередь – через два года – провел несколько счастливых декабрьских ночей у подножия пылающего крематория в задней комнате Arbeitsstatistik с романом Фолкнера «Авессалом, Авессалом!».
Я оставил старого Вальтера и вернулся к чтению.
Как раз в тот момент, когда вошел Майнерс, я раздумывал о том, не посоветоваться ли с Вальтером насчет касающегося меня запроса из Берлина. Интересно, что он скажет по этому поводу. В его молчании я был абсолютно уверен.
Но вошел Майнерс, и теперь уже ни о чем нельзя было поговорить.
Этот высокий, пышущий здоровьем красавец напоминал какого-то немецкого актера тридцатых годов, персонажа из комедий студии УФА. Вроде Ханса Альберса, например.
Сходство особенно бросалось в глаза из-за его манеры одеваться, которая разительно отличалась от манеры других заключенных, будь то старосты блоков или Prominenten. Надо было специально приглядываться, чтобы различить на его ладно скроенном спортивном пиджаке или на правой штанине брюк из серой фланели прямоугольник порядкового номера, отличающийся от предписанного. Так же обстояли дела и с треугольником национальной идентификации, особенно заметным на сером твиде, так как он был не кричаще-красный, а черный.
Люди типа Майнерса на административном нацистском жаргоне назывались «асоциальными типами».
Осужденный за несколько краж, мошенничеств и злоупотребление доверием, он играл важную роль в жизни лагеря в те времена, когда комендантом был офицер СС Карл Кох. Будучи ответственным за стол СС, Майнерс много путешествовал по всей Германии, закупая продукты, проворачивая всевозможные махинации и обогащаясь благодаря системе липовых счетов, двойной бухгалтерии и взяток. Своими нелегальными доходами он делился с Кохом и другими офицерами СС.
Жена Коха, Ильзе – если помните, я писал об этом в «Долгом пути», – любила заключенных-красавчиков. Она раздевала их в своей постели, чтобы натешиться с ними и посмотреть на их татуировки. А потом эти татуировки возвращались к ней после казни – из кожи заключенных она заказывала абажуры. Сам Кох стал жертвой внутренних дрязг, которые разъедали Тотенкопф – подразделение СС, специально созданное для наблюдения за концентрационными лагерями. В Польше, где он руководил лагерем, его отстранили от должности, доставили в Веймар-Бухенвальд, судили при закрытых дверях за коррупцию и расстреляли за несколько дней до освобождения лагеря американцами.
Хотя «черный треугольник» Майнерс и остался без поддержки своего сообщника Коха, его тем не менее наказали не слишком сурово – бандит всегда сгодится еще на что-нибудь. Естественно, он лишился своего места в администрации столовой СС, но был переведен в Arbeitsstatistik в качестве противовеса Зайферту, чтобы шпионить за ним и осуществлять общий присмотр.
Но это было ему не по зубам. Против Зайферта, военного вельможи в Бухенвальде, у Майнерса была кишка тонка. И через несколько месяцев, несмотря на поддержку Шварца, ответственного СС за Arbeitseinsatz (рабочую службу), Зайферт сделал из Майнерса простого статиста. Чтобы подорвать влияние красного ядра Arbeitsstatistik, нужны были люди порешительнее, посмелее, да и, кроме всего прочего, порасторопнее, чем Майнерс.
Когда испанская коммунистическая организация направила меня на работу в Arbeitsstatistik, Майнерс уже не пользовался никаким влиянием, он лишь выполнял всякие мелкие поручения. Наверняка в глубине души он был очень доволен, что ему разрешили заниматься темными делишками и при этом оставили ему статус человека привилегированного и ни за что не отвечающего.
Мы с Майнерсом друг друга ненавидели. Люто, но молча – никаких громких скандалов во время случайных разговоров, никаких стычек на людях. Но если бы одному из нас представилась возможность ликвидировать другого, думаю, ни он, ни я не колебались бы ни секунды.
Отчего я презирал его, или, скорее, ненавидел, а это была именно ненависть – безудержная, яростная, ежедневно подпитываемая, – догадаться нетрудно: Майнерс с его внешностью недалекого простачка воплощал для меня все, что я на дух не выносил. Все, что я хотел уничтожить, те гнусные черты, которые мы называем «буржуазными» и против которых я боролся. В каком-то смысле мне повезло (во всяком случае, это было удобно): прямо под рукой, перед глазами я имел доведенный до совершенства образ врага. Конечно, я не забывал, что в нынешних обстоятельствах наш главный враг – СС. Но с другой стороны, думал я, это не более чем преторианская защита эксплуататорского общества, находящегося в кризисе. Сражаться с СС, не пытаясь переделать общество целиком, казалось мне несколько поверхностным. В сущности, мне был близок лозунг некоторых подпольных движений в оккупированной Франции: «От Сопротивления к Революции».
И вот Майнерс вошел в заднюю комнату Arbeitsstatistik. Мы с Вальтером тут же примолкли.
Ему было все равно. Он уже привык к тому, что вокруг него в Arbeit образовался заговор молчания, и знал, что ему нечего рассчитывать на доброжелательный интерес к себе со стороны нашей небольшой агрессивной и космополитичной группы.
Майнерс насвистывал амурный шансон Зары Леандер, один из тех, что Rapportführer СС регулярно запускал по воскресеньям через лагерные громкоговорители. Естественно, хрипловатый голос Зары Леандер нравился мне гораздо больше, чем режущий слух свист Майнерса.
Майнерс полез в свою персональную ячейку, явно с целью подкрепиться. Он расположился на другом конце нашего с Вальтером стола со своим хозяйством – маленькая вышитая скатерка, фаянсовая тарелочка, серебряные вилка и нож. Там же он разложил куски белого хлеба, ветчину, банку паштета… Налил себе большую кружку пива.
Вдруг Майнерс – он как раз намазывал толстым слоем паштет на кусок белого хлеба с маргарином – поперхнулся, поднял голову и уставился на меня выпученными черными глазами.
Видимо, он кое-что вспомнил и ему стало не по себе.
За несколько недель до этого, тоже ночью, мы оказались с ним в задней комнате Arbeit. Вдвоем, с глазу на глаз. Та же церемония, что и сегодня: небольшая вышитая скатерка, скрывающая шершавую поверхность стола, изысканные столовые приборы, разложенная напоказ аппетитнейшая снедь.
Я, со своей стороны, цедил кофеек. Поджаренные картофельные очистки были уже съедены. Я посматривал в его сторону, и вдруг меня охватило непреодолимое желание испортить ему пиршество. «Может, хватит уже жрать свое говно у меня под носом? – взорвался я. – Воняет от твоего паштета!» Растерявшись, он сунул нос в банку с паштетом и принюхался. «Это точно дерьмо, – не унимался я. – Из чего сделан этот твой паштет? Мясо из крематория?» Но и на этом я не остановился. В конце концов Майнерса затошнило, ему явно уже было не до трапезы, и он, как ошпаренный, выскочил из задней комнаты Arbeit.
Вот тогда-то он меня и возненавидел.
Он ненавидел во мне иностранца, коммуниста, будущего победителя. Ненавидел тем сильнее, что не мог меня презирать за незнание немецкого языка. Я говорил по-немецки лучше, чем он. Во всяком случае, мой словарный запас был побогаче. Иногда, чтобы позлить его, я начинал громко декламировать немецкие стихи, о которых он не имел ни малейшего понятия. В такие моменты лицо его от ярости наливалось кровью.








