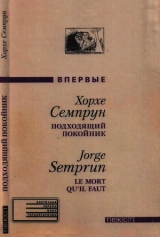
Текст книги "Подходящий покойник"
Автор книги: Хорхе Семпрун
Жанры:
Исторические детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
(Умереть? О чем это она говорит? Ведь я же неуязвим!)
Итак, оружие: его сбрасывали на парашютах. Партизаны в Бургундии, «Жан-Мари Аксьон». С согласия «Рабочих иммигрантов» я перешел в сеть Букмастера. Но из соображений безопасности надо было оборвать все прежние связи. Каждый у себя, никаких встреч, губительных в случае ареста!
Уж не знаю почему – может быть, потому, что все уже было сказано, потому, что это была последняя встреча, потому, что наши дороги должны были разойтись, да, наверно, все вместе, – Джулию потянуло на откровения.
Конечно, ничего конкретного, ничего по-настоящему личного. Лишь намеки, комментарии по поводу книг, по которым можно было о чем-то догадаться, воссоздать какие-то события ее жизни. Я уже знал, что она из Австрии; из Вены; возможно, еврейка. Скорее всего, еще очень молодой – когда я с ней познакомился, ей было около тридцати лет – она работала в аппарате Коминтерна.
Я уже имел возможность оценить, насколько она подкована в теории. Но я понятия не имел о ее литературных вкусах. В частности, в поэзии. В тот вечер она рассказывала мне о Бертольде Брехте, о котором я почти ничего не знал. Она читала мне наизусть стихи Брехта. Некоторые строчки навсегда врезались в память. А я читал ей стихи Рафаэля Альберти и тут же переводил. Особенно ей понравилось слушать его по-испански – из-за звучности, музыки языка.
От стихотворения к стихотворению, от открытия к открытию, и вдруг оказалось, что уже слишком поздно и наступил комендантский час. Тем не менее я попытался уйти с улицы Висконти и добраться до своего тогдашнего жилища, прижимаясь к стенам. Напрасный труд – на улице Бонапарта ночную тишину тут же прорезали полицейские свистки.
Со всех ног я кинулся обратно.
Перед моим поспешным и неудачным уходом мы успели повздорить. Вообще-то Джулия просто хотела, чтобы я вернул ей книгу, она мне дала почитать. Точнее, дала мне возможность взять ее почитать. В последнее время раз в неделю в определенный день, в определенный час я мог приходить в богатую квартиру в седьмом округе. Дверь открывала пожилая дама, надо было сказать пароль. Хозяйка провожала меня до скрытой за тяжелым ковром двери, которая вела в комнату, полную книг.
Это была настоящая библиотека Али-Бабы: все марксистские книги, изданные к тому времени. Исключительно на немецком. Там я смог углубить свое знакомство с философскими произведениями самого Маркса и прочесть некоторые из полемических и теоретических текстов авторов, ставших с тех пор мифическими и проклятыми. Часто то и другое вместе.
Из всех этих книг самое большое впечатление на меня произвела книга Лукача «История и классовое сознание» («Geschichte und Klassenbewusstsein») – она поразила меня как гром среди ясного неба. В той подпольной библиотеке на улице Лас-Казес было два экземпляра.
Тот, который я взял почитать, и стал яблоком раздора между мной и Джулией. Она хотела, чтобы я вернул его перед тем, как оборвать все контакты. Я доказывал, что эта книга нужна мне для марксистского образования. Она говорила, что это эссе Лукача подверглось резкой критике со стороны теоретиков Коминтерна, что лучше бы не использовать столь еретическую книгу в целях теоретического образования. Я отвечал, что если Лукач еретик, то надо немедленно изъять его книгу из подпольной библиотеки, чтобы не распространять заразу среди читателей. А у меня она будет недоступна для слабых душ!
Она обозвала меня софистом, но невольно улыбнулась.
Во время спора – наконец Джулия махнула рукой и разрешила мне оставить у себя экземпляр эссе Лукача, к сожалению, он сгинул в водовороте тех лет, как и вся моя юношеская библиотека с улицы Бленвиль, – уж не знаю зачем, я рассказал ей о моих философских достижениях на конкурсе. Наверное, для того, чтобы доказать ей, что я имею полное моральное право оставить у себя эту книгу.
И тут она захотела узнать все об этой награде.
У меня перед глазами мое сочинение, написанное в мае 1941 года.
Несколько лет назад министерство национального образования в преддверии официальной церемонии по случаю юбилея создания вышеупомянутого конкурса – столетия? стопятидесятилетия? точно не помню – прислало мне этот текст.
Чествования были отменены, уж не знаю почему, может быть, просто за это время портфель министра национального образования перешел в другие руки, и я уже не помню, зачем мне прислали ксерокопию и чего от меня хотели по этому странному поводу.
Но сочинение свое я перечитал.
Все в этом тексте сбивало меня с толку, приводило в замешательство. Я не узнавал семнадцатилетнего юношу – себя тогдашнего, – который все это написал. Я не соотносил себя с ним. Я не узнавал ни почерк, ни мышление, ни метод, ни философский подход.
Что меня особенно поразило – позвольте мне это недолгое самолюбование, – в моем тексте не было ни единой цитаты. Все философские идеи – впрочем, легко расшифровываемые – были глубоко усвоены, вплетены в мой собственный дискурс. В семнадцать лет – преподаватели, долгие годы проверяющие сочинения, это знают – все пытаются нашпиговать свои сочинения цитатами или ссылками. Цитаты – это костыли для еще не оформившейся мысли.
Но я в них не нуждался, что меня и поразило!
Несмотря на все достоинства, я не узнавал этих страниц. Кто-то другой, а не я, или другой я написал все это. Любопытно.
Впрочем, я был уверен, что, прочти я эти листки в 1943 году, когда мы говорили с Джулией, я испытал бы похожее чувство остраненности.
Между этими двумя датами – 1941 и 1943 – в моей жизни произошло важное событие: я открыл для себя произведения Карла Маркса. «Манифест Коммунистической партии» настоящим ураганом пронесся над моей жизнью, моими мыслями и чувствами.
Я не знаю, как донести до нынешних молодых людей – ни даже возможно ли это или хотя бы нужно ли семнадцатилетнему юноше из философского класса, сегодня, когда коммунизм остался всего лишь дурным сном, предметом археологических раскопок, – как дать современной молодежи почувствовать всей душой, всем телом, чем стало для людей, которым было двадцать лет к моменту Сталинградской битвы, открытие Маркса.
Какой смерч! Какой шанс для ответственной и изобретательной души! Как перевернулись все ценности, когда я наткнулся на Маркса, после того как почитал Ницше – «Заратустру», «Рождение трагедии», «Генеалогию морали»… Черт, словно состарился в одночасье! Какая радость жить, рисковать, сжигать корабли, распевать ночами фразы из «Манифеста»!
Нет, вероятно, это невозможно! Забудем, завершим скорбный труд, открестимся от Маркса, погребенного марксистами под кровавым покровом или постоянным предательством. Невозможно донести знание и смысл, вкус и пламя этого открытия Маркса в семнадцать лет в оккупированном Париже, в ту безумную эпоху, когда мы толпами ходили на «Мух» Сартра, чтобы услышать призыв трагического героя к свободе, когда, начитавшись книг, хотелось взять в руки оружие.
* * *
На рассвете, когда закончился комендантский час, после всех наших ночных разговоров, мы стояли на пороге квартиры на улице Висконти.
– Только не умирай, – сказала вдруг Джулия и нежно погладила меня по щеке.
Я отпрянул – о чем это она? Что за чепуха! Как только ей в голову могло прийти, что я могу умереть?
– Пожалуйста, не умирай, – повторила она.
В Бухенвальде я вспомнил о Джулии, когда разговаривал с Ленуаром. Мы беседовали о Лукаче, и я вспоминал Джулию. Воспоминания о Джулии всегда всплывают в тот момент, когда я произношу имя Лукача. Когда я опубликовал свой первый роман «Долгий путь», немолодой уже Лукач прочел его по-немецки, заинтересовался и издал свой комментарий к роману. С тех пор – это было в середине шестидесятых годов – он регулярно направлял ко мне своих студентов и студенток из Будапешта.
Звонок в дверь, на пороге юный незнакомец. Или незнакомка. Я тотчас же узнаю взгляд этих юных незнакомцев, юношей и девушек. Этот ясный, братский взгляд, в котором читается отчаяние. Взгляд с той стороны, с Востока, из Европы, которую мы бросили варварам. Östlich der Hoffnung, на востоке надежды?
Все они были посланниками Лукача, с ними можно было поговорить – и это могло стать началом настоящей дружбы.
И всегда я вспоминал Джулию, ее руку на моей щеке, ее шепот, то утро.
– Может быть, Бог просто устал, – говорил тем временем Ленуар. – У Него больше нет сил. Он ушел из Истории, или История покинула Его. Его молчание не говорит о Его отсутствии, а служит доказательством Его слабости, Его бессилия…
Мы втроем – Ленуар, Отто и я – укрылись в сортирном бараке. На обратном пути из пятьдесят шестого блока, где остался Морис Хальбвакс, в Большой лагерь нас неожиданно застигла метель.
Отто, последний из нашей троицы, был «фиолетовым треугольником», Bibelforscher, свидетелем Иеговы. Он появился в нашем воскресном кружке две недели назад. Кто сообщил ему о наших тайных сборищах? Мы так никогда об этом и не узнали. Он сразу же покорил нас своей твердостью и радикальным мышлением.
В первый же раз он решительно прервал одного из нас, рассуждавшего о чем-то незначительном.
– Послушайте, – примерно так обратился он к нам, – мы ведь не для того собрались здесь в воскресенье – при том, что все время недосыпаем, мучаемся от голода и страха перед завтрашним днем, – чтобы повторять банальности. Если так, то давайте лучше разойдемся по своим блокам после полуденного гонга, вернемся к своему супу с лапшой и попробуем покемарить несколько лишних часов. Тем более что кто спит, тот обедает…
Последние слова он произнес по-французски, обернувшись к Ленуару, – он не мог знать, что тот из Вены, и к тому же еврей, потому что Ленуар носил красный треугольник с буквой F.
Ленуар отреагировал весьма неожиданно: он протараторил одну за другой несколько поговорок.
– Действительно, кто спит, тот обедает, – выпалил он. – Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Наше счастье – дождь и ненастье.
Мы с изумлением посмотрели на него.
Но Отто, свидетеля Иеговы, не так-то легко было сбить с толку.
– Есть одна тема – только одна! – которая заслуживает того, чтобы пожертвовать ради нее несколькими часами сна!
Ему удалось обратить на себя наше внимание, завладеть беседой.
– Испытание Злом. Это наше самое главное испытание в Бухенвальде… Оно даже важнее испытания смертью, которое может стать решающим…
Так случилось, что одной из последних книг, которые я читал перед арестом, было эссе Канта «Религия в пределах только разума» – в 1943 году оно было только что переведено. Гестапо наверняка обнаружило его в комнате, где я иногда ночевал, в квартире Ирен Россель, в Эпизи, пригороде Жуаньи. Книгу Канта и «Надежду» Мальро.
– Das radical Böse, радикальное испытание злом, почему бы нет, – ответил я Отто.
Тот посмотрел на меня, явно довольный:
– Ну да, вот именно! Ты был студентом философского факультета?
Его philosophiestudent что-то мне смутно напомнило. Ну конечно, слова Зайферта, когда он в первый раз принял меня в Arbeitsstatistik, в своей каптерке. «Я впервые вижу здесь студента философского факультета, – сказал он мне. – Обычно ко мне присылают рабочих». (Die Kumpel, die zu mir geschickt werden, sind Proleten.)
Но Отто считал, что нельзя ограничиваться лишь Кантом. Он настаивал, что при исследовании радикального Зла нужно также учитывать мнение Шеллинга, его «Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с нею предметов».
– Я нашел в нашей чертовой библиотеке экземпляр этой книги, – добавил он.
Мой собственный экземпляр исчез после разгрома квартиры на улице Бленвиль вместе со всеми остальными книгами. Это был томик, выпущенный издательством «Ридер» в середине двадцатых годов. Перевод с немецкого Жоржа Политцера, предисловие Анри Лефевра.
Эссе Шеллинга попало мне в руки как раз из-за переводчика, впрочем, из-за автора предисловия тоже. Мой приятель по лицею – мы с ним участвовали в демонстрации 11 ноября 1940 года на Елисейских Полях и вместе ускользнули от облавы французской милиции и батальона вермахта, которые нацистское командование направило на зачистку квартала, – так вот, мой приятель, учившийся в параллельном классе (философию у него преподавал не Бертран, а Рене Моблан, учитель-марксист, – я всегда вспоминаю о нем с радостью и благодарностью), посоветовал мне прочесть Шеллинга как раз ради Политцера и Лефевра.
В общем, я прочел эссе Шеллинга, от него у меня осталось воспоминание о несомненном теоретическом блеске и жестком стержне из новаторских идей, скрытом мишурой темного, почти мистического языка.
Через несколько дней после этого воскресного разговора, который состоялся у нар Мориса Хальбвакса, Отто зашел ко мне в Arbeitsstatistik во время полуденного перерыва.
Я был в задней комнате, читал газеты. Мне поручили составить обзор нацистской прессы для тройки испанской партии – в единственном, написанном от руки экземпляре, который Ньето давал читать Фалько и Эрнандесу (под такими именами в партии были известны Лукас и Селада).
Я отбирал самые важные статьи из газеты «Völkischer Beobachter»[29] и журнала «Das Reich» и конспектировал их либо цитировал целые куски, естественно, в переводе.
В тот день у меня совсем не осталось еды – никакой. Зато была сигарета. Я курил половину бычка махорки – кажется, Зайферт подарил мне ее, – потягивая при этом фирменное бухенвальдское горячее пойло из стаканчика.
Дверь открылась, вошел Вальтер, за ним – Отто.
– К тебе гости, – сообщил Вальтер и тут же ретировался.
У Отто в руках была книга, то самое эссе Шеллинга. Он заговорил о нем, зачитывая отрывки, которые выбрал специально для меня. «Черный треугольник» Майнерс пялился на нас. Мы, естественно, повернулись к нему спиной. Но он специально пересел, чтобы наблюдать за нами, выпучив от возмущения глаза.
Отто, водя пальцем по строчкам лежащей перед нами книги, читал мне вслух выбранные отрывки из Шеллинга. Он хотел доказать мне, что концепция Зла Шеллинга неизмеримо богаче, значительнее и содержательнее концепции Канта.
«Как Бог в качестве нравственного существа относится ко злу, возможность и действительность которого зависят от самооткровения Бога? Хотел ли Бог и зла, когда он хотел откровения, и как сочетать это воление с его святостью и высшим совершенством, или, пользуясь обычным выражением, как оправдать Бога в том, что он допускает зло?»
Действительно, существенный вопрос, который все теологи, особенно томисты, пытались обойти или затемнить. Охраняя Бога, они навсегда развели его со Злом.
Я слушал, как Отто объясняет мне глубинный смысл этого отрывка, и краем глаза посматривал на Майнерса, на его ненавидящий оскал.
Отто продолжал чтение:
«Бог не препятствует воле основы или не уничтожает ее. Хотеть этого значило бы хотеть, чтобы Бог уничтожил условие своего существования, то есть уничтожил свою собственную личность. Чтобы не существовало зла, необходимо было бы, чтобы не существовало и самого Бога»[30].
Майнерс среагировал именно в этот момент. Он прорычал – невнятно, но явно что-то не слишком лестное.
Я обернулся к нему:
– Was murmelst du? Otto ist doch ein Reichsdeutscher!
«Что ты там бормочешь? – сказал я ему. – Отто ведь немец Германской империи!»
В который раз я попал в яблочко. Майнерс сгреб свои манатки и удалился, изрыгая поток ругательств.
Отто не удивился, не задал ни одного вопроса.
– Дерьмо, – только и сказал он. – Я его знаю. Надеюсь, что его засудят. Хотя на него даже пули жалко!
Библия Библией, но это не помешало Отто вынести Майнерсу недвусмысленный приговор!
Чуть позже Отто прочел мне фразу Шеллинга, которая навсегда врезалась мне в память, слово в слово. А вот из тех, что я только что процитировал, остался только общий смысл, мне пришлось восстанавливать их по книге метафизических произведений Шеллинга, опубликованной недавно в авторитетной философской серии и в более современном переводе, чем перевод Политцера.
Как бы то ни было, тогда, в задней комнате Arbeit, Отто изложил мне ключевое для Шеллинга понятие, согласно которому порядок и форма не представляют чего-то изначального, ибо космологическая и экзистенциальная сущность была образована из первозданного хаоса. И заключил формулой, которая задела во мне что-то самое сокровенное, до такой степени, что я запомнил ее навсегда: «Без предшествующего мрака нет реальности твари; тьма – ее необходимое наследие».
Не только тьма страдания, чисто пассивная, подумал я, но и тьма Зла – активный импульс изначальной свободы человека.
Так в наши разговоры, происходившие вокруг нар Мориса Хальбвакса, вторгся Бог. Как просто – воскресенье, день супа с лапшой и чудных коротких мгновений досуга, день Господа.
– Может быть, Бог утомился, выдохся, может быть, у Него больше нет сил. Тогда Его молчание – всего лишь знак Его слабости, а не отсутствия, не того, что Его нет, – это сказал Ленуар, венский еврей, в ответ на какой-то вопрос Отто.
По дороге из пятьдесят шестого блока мы втроем – Ленуар, Отто и я – завернули в сортирный барак. Была половина шестого, темнело. Скоро я узнаю, какой мертвец в случае необходимости получит мое имя, чтобы я получил его жизнь.
Мы двинулись вперед, чтобы согреться в центре барака, в горячих, зловонных испарениях. Думаю, ни один из нас не обращал никакого внимания на обычную картину: десятки заключенных со спущенными штанами испражнялись, сидя на помосте. И хотя мы говорили о молчании Бога, о Его слабости, мнимой или настоящей, урчание кишечников, терзаемых поносом, омерзительное и слишком близкое, не задевало нас – ну почти не задевало.
Нельзя сказать, что я испытывал метафизическое беспокойство по поводу молчания Бога. Действительно, чего уж в этом такого удивительного? Когда Он говорил? По поводу какой бойни Он высказался? Покарал ли Он какого-либо свирепого завоевателя или жестокого военачальника?
Если библейские рассказы для нас больше, чем просто сказки, если мы верим, что они имеют хоть какое-нибудь отношение к исторической реальности, мы увидим, что последний раз Бог разговаривал с человечеством на горе Синай. Что же удивительного в том, что Он продолжает хранить молчание? И к чему изумляться, возмущаться или приходить в ужас от этого более чем привычного молчания, такого укорененного в Истории, да что там – сотворившего нашу историю, с того момента, как она – эта История – перестала быть священной?
Что в самом деле важно, сказал я этим двоим, так это не молчание Бога, а молчание человека. По поводу нацизма, например, абсолютного Зла. Слишком долгое, слишком трусливое молчание человека.
И тут нас неожиданно прервали.
Мимо нас по направлению к выгребной яме торопился заключенный, то и дело спотыкаясь в неудобных башмаках на деревянной подошве. Он так спешил, что прямо на бегу расстегивал штаны.
Но ему не суждено было добраться до ямы. Еще до того, как он успел развернуться, чтобы рухнуть задницей на опорную перекладину, струя тошнотворной липкой жижи брызнула из его утробы, запачкав одежду трех или четырех заключенных, кружком сидевших неподалеку и куривших бычок.
Послышались возмущенные крики, брань, невольного виновника отлупили, а там и бросили в выгребную яму – пусть в дерьме поплещется. Через секунду сцепились все присутствующие.
Угодивший в дерьмо горемыка был французом, а курильщики – поляками: стычка приобрела этнический характер.
Все французы, тяжело дыша, захромали на помощь своему соотечественнику – вытащить его из ямы и наказать обидчиков-поляков. Те, в свою очередь, тоже сбились в стаю, пользуясь случаем отомстить французам – в Бухенвальде выходцы из Центральной и Восточной Европы особенно ненавидели их за позорное поражение в 1940-м от немецкой армии. Мы были бы уже свободны, если бы эти чертовы французы выстояли, – таков был общий приговор Центральной Европы.
Появление группы молодых здоровых русских из Stubendienst, которые жили в Малом лагере, положило конец драке, и все вернулись к привычным воскресным занятиям в вонючих испарениях «общей бани», «военной прачечной».
– Скажи своему раскольнику, чтоб отошел на минутку… Мне надо с тобой поговорить один на один!
Это Николай, Stubendiest из пятьдесят шестого блока.
Мы с Отто остались в сортирном бараке. Ленуар под шумок смылся: у него не было ни малейшего желания вмешиваться в драку поляков с французами. Черная буква F на красном треугольнике обязывала, но для него – венского еврея – это было бы чересчур.
Николай пальцем показал на Отто – свидетеля Иеговы. Как обычно, он говорил по-немецки, но слово «раскольник» произнес по-русски.
Мы уже выходили из сортира. Мне пора было в Revier на встречу с Каминским, чтобы узнать наконец, место какого мертвеца я должен занять. И кто, стало быть, займет мое.
Николай выглядел, как всегда, безукоризненно: блестящие, несмотря на снег и слякоть, сапоги, кавалерийские штаны, на голове фуражка советского офицера. Я сразу заметил его среди русских, которые грубо, но быстро навели порядок в сортирном бараке.
Отто махнул рукой:
– Я пошел, – и, обращаясь к Николаю, добавил: – «Раскольник» – не самый лучший перевод для Bibelforscher.
– Не такой уж плохой, раз ты меня понял!
Отто растворился в темноте.
– Ну? – спросил я Николая. – Только покороче, я тороплюсь!
– У тебя свидание?
Это меня развеселило.
– Может быть, – ответил я. – В каком-то смысле.
Мне на память пришли испанские стихи. Стихи Антонио Мачадо, написанные на расстрел Лорки. Смерть – любимая девушка. Или влюбленная. Любовница-смерть, почему бы и нет?
– Кстати, – продолжил Николай, – если хочешь отодрать мальчонку, ты только скажи!
– Спирт, кожаные сапоги, мальчики – фирма гарантирует!
– Пиво, маргарин, похабные картинки, задницы, – дополнил Николай. Его взгляд сделался жестким. – Деньги тоже. Валюта, естественно.
Он так и произнес «валюта», слово, заимствованное русскими. Германизм, между прочим.
– Даже доллары? Ведь вам нужны доллары, войну-то выиграют американцы.
Он выругался, посылая кого-то к какой-то матери. Боюсь, что меня. Но я решил не зацикливаться на этом.
Растянув губы в хищной улыбке, он обнажил острые белые зубы:
– Точно, доллары!
И схватил меня правой рукой за лацкан синей куртки. Этот жест можно было расценить как угрозу. Или как предостережение.
– Мы хотим, чтобы ты кое-что передал Аккордеонисту.
Этот переход от «я» к «мы» говорил о многом. Непрямое сообщение: он не один – это группа, шайка, банда. Сила, одним словом.
– Я слушаю.
Я не спрашивал, что за аккордеонист, – он был один на весь Бухенвальд. Во всяком случае, единственный, кто пользовался своим искусством. Француз. Он бродил между бараками до самого комендантского часа, особенно в воскресенье после обеда. Давал короткие концерты в обмен на пайку хлеба, супа или маргарина. Его привечали многие старосты блоков, это развлекало заключенных, приободряло их. Аккордеон был бесплатным заменителем опиума для народа.
Еще когда мы были в карантине в шестьдесят втором блоке, Ив Дарье познакомил меня Аккордеонистом.
– У него доллары где-то припрятаны, – продолжал Николай. – Это мы вытащили его инструмент из Effektenkammer. Если он хочет играть и дальше и зарабатывать себе на хлеб с маслом, пусть платит нам, сколько мы скажем. И пусть только попробует нас надуть. Это последнее предупреждение – дальше начнем ломать пальцы, по одному в день.
– Почему я?
– Что – почему ты?
Я уточнил:
– Почему ты выбрал именно меня…
Он не дал мне договорить:
– Мы тебя выбрали! Потому что ты знаешь его еще с карантина, потому что он знает, да и мы тоже, что у тебя в этом деле нет никакого интереса, никакой корысти. И потом, ты Prominent, на хорошем счету у Зайферта, это мы знаем, тебе можно доверять.
Я мог бы быть польщен, но почему-то не был. Только этого мне не хватало.
А может, Каминский все-таки вытащит меня из этого дерьма – ведь мне придется исчезнуть.
– Что-то мне не хочется влезать в это дерьмо, – ответил я. – Дай мне пару дней на размышление.
– Пара дней – это как?
– Это сорок восемь часов. Сегодня воскресенье, во вторник я тебе отвечу. А пока оставьте его в покое!
Он кивнул.
– Ладно, но мы пока что будем за ним приглядывать. Пусть не пытается перепрятать доллары, мы с него глаз не спустим!
Я думаю, доллары, если они и были – а они должны были быть! – хранились в самом аккордеоне, с которым он не расставался ни в тюрьмах, ни на этапах.
Но это уж не моя забота.
Николай ушел, но тотчас же вернулся.
– Твой профессор больше не открывает глаз!
– Не открывает, – согласился я. – Зато видит. Он ясно видит с закрытыми глазами.
Николай ничего не понял, ну и ладно.
– Зови своего раскольника. Но ему ни слова!
И он растворился в ночи.
– Ты обратил внимание на его фуражку? – спросил Отто через несколько минут.
Мы снова встретились. Пора было идти в Revier.
– Фуражка НКВД! Николай ею очень гордится. Фуражка офицера органов госбезопасности…
– Не меняя фуражки, – прервал меня Отто, – он мог бы сменить статус – вместо того чтобы быть заключенным в нацистском лагере, он мог бы быть охранником в советском!
Повеяло арктическим холодом.
– Что ты хочешь этим сказать, Отто?
– Только то, что сказал, – что в Советском Союзе тоже есть лагеря…
Я попытался возразить:
– Я знаю… Писатели говорили об этом… Горький писал о них в связи со строительством Беломор-канала. Уголовников отправляют в лагерь, чтоб они работали там на благо общества, вместо того чтобы попусту торчать в тюрьмах. Лагеря, где исправляют трудом…
И тут до меня дошло, что только что я произнес роковое слово из нацистского лексикона – Umschulung, исправительно-трудовой лагерь.
Отто улыбнулся:
– Ну да… Umschulung… У диктатур страсть к исправительным лагерям! Но что с тобой спорить, ты же ничего не хочешь слышать. Я могу познакомить тебя с одним русским, замечательный парень. Он как раз настоящий раскольник. Свидетель, но не только Христа… Он расскажет тебе о Сибири.
– Знаю я Сибирь! – огрызнулся я. – Я читал Толстого, Достоевского…
– То была каторга при царском режиме… Мой раскольник расскажет тебе про советскую каторгу!
У меня не было ни минуты – Каминский будет рвать и метать, если я опоздаю.
– Послушай, у меня важная встреча, прямо сейчас, в Revier… Давай в следующее воскресенье!
Отто пошел прочь, подняв воротник куртки, втянув голову в плечи, чтобы хоть как-то защититься от пронизывающего ледяного ветра.
В следующее воскресенье он ждал меня у нар Мориса Хальбвакса.
– Ну? – спросил я. – Когда я увижу твоего раскольника?
Ему было явно не по себе, он старался не встречаться со мной взглядом. Долго мялся и наконец сказал:
– Он не хочет.
Я ждал продолжения, но его все не было. Наконец Отто выпалил:
– Он не будет говорить с коммунистом, – и попытался улыбнуться. – Даже с молодым испанским коммунистом он не хочет разговаривать!
– Что за чушь?
– Ты не захочешь услышать правду. И потом, он боится, что ты расскажешь об этом своим друзьям, немецким коммунистам, у которых тут есть право приговаривать к смерти. Когда он узнал, что ты работаешь в Arbeitsstatistik, то отказался наотрез!
Я слегка растерялся и разозлился.
– И ты не пытался его разубедить? Что ты ему сказал?
Покачав головой, он положил руку мне на плечо:
– Что, скорее всего, ты ему не поверишь. Но будешь держать это при себе, никому не растреплешь.
– Странный свидетель, этот твой раскольник, – попытался отыграться я. – Тот еще храбрец…
– Он знал, что ты это скажешь, – произнес Отто. – И просил передать тебе, что дело не в храбрости, а в том, что совершенно бесполезно разговаривать с человеком, который не хочет слушать и не слышит. Он уверен, что когда-нибудь и для тебя придет время.
Мы молча стояли у нар Мориса Хальбвакса.
Это правда, я не захотел бы услышать раскольника, не смог бы к нему прислушаться. Если уж быть искренним до конца, мне кажется, я даже почувствовал некоторое облегчение, узнав о его отказе. Благодаря его молчанию я остался в уютном покое добровольной глухоты.
Часть вторая
Schön war die Zeit
Da wir uns so geliebt…
Я спотыкался на заснеженной дороге. Может быть, от удивления или от потрясения.
И немудрено.
Голос Зары Леандер неожиданно настиг меня, когда я бежал к рощице, где находился Revier. Он накрыл меня, горячий, волнующий, золотистый; он окутывал меня нежностью, как теплая рука на плече, как теплый шарф из мягкого шелка.
Казалось, она поет только для меня, шепча мне на ухо слова любви: «Счастливое время, когда мы так любили друг друга» – пронизывающая банальность, всеобъемлющая, ностальгическая бессодержательность.
На самом деле это репродукторы, предназначенные для громкой трансляции приказов СС, разносили по всему лагерю теплый голос Зары Леандер. Его было слышно в бараках, в столовых, в каптерках блочных старост и капо, в рабочих кабинетах внутреннего командования, равно как и на плацу. Повсюду, в самых дальних уголках Бухенвальда.
Кроме сортирного барака Малого лагеря, единственного не подключенного к системе репродукторов строения, которого не касались приказы СС.
Наверху, на сторожевой вышке, возвышавшейся над монументальным входом в лагерь, Rapportführer поставил пластинку, и по лагерю разнесся этот громовой голос, который проникал в самые дальние уголки нашего сознания, обращался к нашему одиночеству.
Мои шаги стали тверже, мысли тоже.
Когда этот голос настиг меня – голос, певший только для меня, хотя он разливался над всем холмом Эттерсберг, я был уже на краю рощицы, окружавшей барак санчасти – Revier. Здесь же было огромное помещение, служившее для разных нужд: по необходимости оно было то кинозалом, то комнатой, где собирали заключенных, которых куда-нибудь отправляли – например, на работу или на прививки.
В тот день я спешил в санчасть. У меня было свидание с Каминским – а также с подходящим для меня мертвецом.
– Надеюсь, этот сукин сын унтер поставит нам Зару Леандер, как каждое воскресенье! – воскликнул Себастьян Мангляно.
В столовой сорокового блока продолжалась репетиция. Но мы вдвоем сидели поодаль и смолили бычок махорки. Каждому по затяжке, с точностью до миллиграмма. Не было и речи о том, чтобы смухлевать, ставка была слишком высока. Дружба дружбой, но каждый придирчиво следил за продвижением горящего красного кружка по тонкому цилиндрику сигареты. Не было и речи о том, чтобы позволить другому слишком долгую затяжку.
¡Ay que trabajo me cuesta
Quererte сото te quiero!
В столовой снова звучали строки Лорки, но на этот раз читал их не Мангляно.
Их, впрочем, вообще никто не читал, их пели. Стихотворение Лорки, такое близкое к народной андалузской copla по внутреннему ритму, по скрытой музыкальной фразировке, очень легко было спеть.








