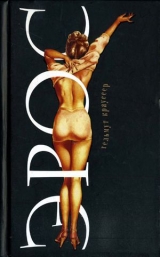
Текст книги "Эрос"
Автор книги: Хельмут Крауссер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Немецкая опера
– В Берлин приезжает шах.
Генри прочитал об этом в газете и теперь, за завтраком, передает эту новость Софи. Та не сразу понимает, почему и для кого так важно это событие.
– Ну и что? – спрашивает она.
– Ох, и пойдут дела! Софи все еще не понимает, какие именно дела пойдут и отчего…
– В Берлин приезжает шах, – сообщил мне по телефону голос Лукиана. – Мы получили приглашение в оперу.
– Чудесно. Поедем. – Я был рад любому поводу прошвырнуться.
– Поедем?…
– Я так устал сидеть здесь один как сыч.
Мерингдамм, 31 мая 1967 года. Звонок в дверь.
Генри беззаботно открывает – и в квартиру врывается наряд вооруженных полицейских. Миг – и Генри с Софи оказываются в наручниках. Без каких-либо объяснений…
Лукиан встречал нас с Сильвией в аэропорту. В одиннадцать мы узнали об аресте Софи и уже около четырех часов приземлились в берлинском аэропорту Тегель – на два дня раньше намеченного срока. Сильвия выразила готовность сопровождать меня.
– В каком она состоянии?
– Так, в нормальном.
Лукиану не удалось успокоить меня.
– О ней позаботилась сестра.
– Этого мало! – сразу заявил я, но тут же понял, что на данный момент вмешательства Биргит все же более чем достаточно.
Биргит вызволила Софи из-под ареста, приложив для этого неимоверные усилия. Она добилась, чтобы ей показали материалы обвинения, переговорила с дамой-прокурором и постучала кулаком по столу, дав понять, что с ней шутки плохи.
Сотрудник изолятора открывает дверь в камеру Софи и делает знак рукой:
– Давай выходи. Собирай свои манатки. Ты свободна.
Софи задевает, что ей «тыкают», но она сдерживается и молча следует за тюремщиком. Вещей у нее нет, поэтому собирать нечего. Они следуют по длинному коридору, и внутри у арестантки все клокочет от гнева на полицейское государство, чьей жертвой она стала.
Биргит ожидает ее у выхода, обнимает, сажает в машину и везет Софи в свою контору. Всю поездку Биргит тщетно ждет хотя бы словечка благодарности, но вместо этого сестрица спрашивает:
– Что с Генри?
– Сидит.
– Почему меня ты вытащила, а Генри – нет?
– Его арестовали за дело.
– За какое дело? Я ничего не знаю.
– Угон машины, нанесение телесных повреждений, вандализм. Мало тебе?
– Что же теперь будет?
Обе молчат. Биргит взяла за правило никогда не спорить в машине, ведь так недолго и в аварию попасть.
Добравшись до адвокатской конторы, где Софи Целых четыре недели отсутствовала без уважительной причины, подруги садятся пить кофе. За время столь длительного прогула в помещении успели сделать основательный ремонт, и Софи с трудом узнает свое прежнее рабочее место. Все облагородилось, стало таким стильным… Победительница Биргит вынуждена пахать с утра до ночи, зарабатывая деньги.
– Значит, слушай сюда. Из-за этого персидского паши берлинская полиция взяла на заметку всех агрессивных демонстрантов. Я побеседовала с прокуроршей и сумела убедить ее в том, что от тебя, дорогуша, вреда не больше, чем от маленького ягненка. И она проговорилась, что им особенно нечем крыть, ведь особого материального вреда ты не нанесла. Так что из-за незначительности твоего проступка дело пока закрыто, но будь уж так добра: не позируй больше с камнем в руке! Ты что? Это так глупо, так… заурядно! На твоего дружка заведено уголовное дело за неоплаченный счет в ресторане и кражу. Пару-тройку дней его еще подержат на нарах, затем освободят как миленького. Ничего, переживет!
– О'кей, и это все?
Софи неприятен покровительственный и высокомерный тон, каким разговаривает с ней Биргит. Но Биргит выбрала этот тон не случайно, а в педагогических целях.
– Можешь не благодарить. Если ты намерена и дальше работать у нас, то милости просим, выходи со следующей недели.
Ничего не ответив, Софи встает и идет прочь.
Позже ей станет стыдно за свое молчание, но сейчас она не может ничего с собой поделать. Оказавшись на улице, она сгибается пополам и заходится в истерическом плаче.
Самое главное, Софи снова на свободе, а Генри за решеткой. Честно говоря, я наслаждался подобным раскладом. В камере предварительного заключения Генри сильно били сокамерники люмпен-пролетарского происхождения, которые не вынесли его самовлюбленности. Клянусь, что к этому я не имел никакого отношения. Зачем мне избивать Генри, если по одному моему слову его могли просто убить?
Представьте, я не видел Софи добрых пятнадцать лет, за исключением фотографий. И мне так хотелось снова увидеть ее, заглянуть ей в глаза. Сомнений в том, что она отправится на улицу протестовать против визита шаха, у меня не было. В номере отеля «Бристоль Кемпински» я вел переговоры с человеком из группы, которую нанял для присмотра за Софи во время акции протеста. В эту группу входило семь человек, прекрасно натренированных физически и хорошо образованных, и далеко не все из ее состава знали, на кого работают.
– Ты сможешь показать ее мне?
Речь шла о том, чтобы рассмотреть Софи с приличного расстояния через театральный бинокль, с которым я собирался идти в оперу.
– Нет проблем, шеф. У меня в руках будет транспарант зеленого цвета. Я встану рядом с ней.
– Отлично.
И не качайте головой, пожалуйста! Это было такое безобидное мероприятие.
Однако чего мы не могли предугадать, так это агрессии со стороны персидских спецслужб. Их отряд, состоявший более чем из ста человек, уже в полдень второго июня принялся избивать демонстрантов, что митинговали на площади перед ратушей Шёнеберга. Это было что-то невообразимое! Берлинская полиция не приняла абсолютно никаких мер, просто палец о палец не ударила для защиты своих сограждан от озверевших охранников высокого иностранного гостя, что молотили беззащитных людей палками и дубинками. А ведь демонстрация началась мирно, безо всякого насилия со стороны митингующих – протесты выражались лишь вербально. Уму непостижимо. Некоторое время спустя полиция даже взялась помогать воинственным персам – до чего позорный шаг! К вечеру обстановка накалилась до предела. Шах Реза Пехлеви, похоже, являлся безжалостным убийцей, палачом и мучителем людей, но желтая пресса изображала его и прелестную персиянку по имени Фара Диба королевской парой из волшебной сказки.
Очень многие граждане посчитали тогда протестующих студентов непрошеными выскочками, которые сами во всем виноваты. Глас народа широко освещался в прессе, газетные статьи подогревали страсти, развертывая травлю против всех недовольных системой, а тех, кто участвовал в волнениях, называли бандами плохо воспитанных дикарей. Я не имел четкой позиции по этому вопросу – в политическом отношении я был по большому счету невеждой. К социализму я с самого начала относился с недоверием, обычным для крупных предпринимателей, и сохранил это отношение до сих пор. Однако расскажу по порядку об этом дне.
У портика Немецкой оперы собрались сливки берлинского общества, желающие насладиться звуками «Волшебной флейты» Моцарта. Когда к зданию оперы подъехал шах, его встретил оглушительный свист и улюлюканье. Некоторые держали над головой бумажные пакеты с карикатурным изображением шаха, чтобы тиран и кровавый убийца посмотрел в глаза самому себе. Особый эффект производило и то обстоятельство, что лица демонстрантов были закрыты масками. Из толпы полетели пакеты с краской и даже несколько камней. А я, судорожно вцепившись в театральный бинокль, все искал в толпе Софи или человека с зеленым транспарантом. Может, вы перестанете смеяться?…
Я и не ожидал, что толпа протестующих будет такой огромной. Теперь они швыряли яйца и дымовые свечи, но все это не причиняло шаху никакого вреда – площадь перед оперой с большим запасом оцепили кордоны немецких полицейских и персидских спецслужб. Мои глаза нервно бегали, выискивая зеленый транспарант. Прямо передо мной стоял бургомистр Альбертц, и он сказал шефу полиции Дюнзингу:
– Это что такое у вас творится? Пройти невозможно. Чтобы все было чисто, понятно?
– Будет сделано, господин бургомистр! – пролаял Дюнзинг и скомандовал одному из своих подчиненных: – Дубинками их, к чертовой матери!
Сильвия потрясла меня за руку:
– Так мы идем слушать оперу или нет?
– Идите пока с Лукианом, – отозвался я и передал Лукиану два пригласительных билета из трех.
Понимаете, я не знал точно, что там происходит. В бинокль я видел, как крепкие молодчики восточной внешности избивают железными прутьями митингующую толпу. Я очень боялся за Софи, ее безопасность была для меня превыше «Волшебной флейты». Я побежал в направлении Эрнст-Ройтер-Плац и бежал до тех пор, пока не закончилось оцепление и появилась возможность перейти улицу. Без единого телохранителя я стоял у черты, за которой начинались хаос и паника, одетый в торжественный фрак. Через несколько мгновений я стянул его с себя, чтобы не выглядеть в этой пиковой ситуации белой вороной.
Софи потрясена необузданным насилием в отношении мирных демонстрантов. Мужчина с перекошенным от ярости лицом оголтело машет вокруг себя металлическим прутом. Льется кровь, люди с криками падают на землю. Софи нагибается над одним раненым студентом, прижимает носовой платок к его ноздрям, откуда ручьем бежит кровь. Нечеловек с железным прутом приплясывает на месте, будто дервиш в трансе, размахивает своим страшным оружием, и вдруг все отступают и Софи с раненым студентом оказываются совершенно беззащитными на небольшом открытом пространстве. Боевик прекратил свои пляски и неумолимо надвигается на них с занесенным над головой прутом. Все, это конец, понимает Софи, и сжимается в комок, но вдруг из толпы выскакивают двое молодых мужчин, крепко сбитых верзил. Они хватают боевика, заламывают ему руки и валят на землю.
Один из спасителей наклоняется над Софи, поднимает ее с колен и тащит ее к стене дома:
– А ну, пошли отсюда. В этой каше тебе не место.
Едва Софи, вся трясясь, бормочет слова благодарности, как на площадь врываются сотни полицейских. Они тут же набрасываются на ее избавителей, и после короткой потасовки те оказываются в наручниках. Чудом избежав ареста, Софи убегает по маленькой боковой улочке.
Я оставался в стороне от событий. Но не из-за трусости – просто с расстояния лучше видна целостная картина. Я сорвал с себя галстук-бабочку и вытянул низ рубашки, чтобы меньше привлекать внимание. Весь тротуар былусыпан оторванными пуговицами. Скоро я нашел моего человека – того самого, с зеленым транспарантом против войны во Вьетнаме. Сильно избитый, он стоял, тяжело привалившись спиной к афишной тумбе. Полотно транспаранта разорвано, древко поломано. В каких-то пятидесяти метрах от нас полиция хватала всех, кто попадался ей под руку, и кому-то из демонстрантов просто физически некуда было деваться.
– Ты как?
– Шеф, вы-то что здесь делаете?
Он говорил, словно в бреду: его верхняя губа сильно разбита.
– Держитесь за меня. Вперед!
Я подставил ему плечо, и мы прошли несколько шагов, но этому человеку было действительно худо, он нуждался в помощи врача. Ноги отказывали ему, и я, протащив несколько метров, оставил его лежать у подъезда близлежащего дома. Я решил, что полиция не станет добивать человека, находящегося в тяжелом состоянии.
И тут я краешком глаза увидел ее – в арке, ведущей на задний двор. Моя любимая изо всех сил дубасила кулаками по чьему-то почтовому ящику, давая выход гневу. По маленькой боковой улочке полицейские гнались за последними жертвами, и это чем-то напоминало испанскую Памплону, где люди, правда по доброй воле, бегают по улицам от разъяренных быков.
Я подбежал к ней и закричал:
– Скорее! Скорее пойдем отсюда!
Существовала опасность, что Софи узнает меня, но я тогда об этом не думал. Вообще-то я специально отрастил бороду и надел темные очки, кроме того, с годами мое лицо несколько изменилось. Из дома вышла толстая женщина в голубом переднике и громадными черными бородавками у самого носа (но про бородавки можете не упоминать). Она закричала, что нам нечего тут делать, шатается здесь всякий сброд и чтобы мы немедленно убирались отсюда подобру-поздорову.
На улицах завывали сирены. На подгибающихся ногах мы перебежали с одного заднего двора на другой. Если там стены сотрясались от шума и ты едва слышал собственный голос, то здесь оказалось на удивление тихо и мирно. Ко мне подбежал высокий парень из нанятой мною команды – наверное, последний, кого еще не арестовали.
– Все в порядке, шеф?! – задыхаясь, прокричал он.
Кивнув, я приложил палец к губам – «тише». На счастье, Софи не могла слышать, как он меня назвал. Ее глаза сильно опухли, она явно находилась в шоке. Втроем мы вошли в первый попавшийся подъезд, поднялись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж и перевели дух. Я все время старался отвернуться от Софи, но этого не требовалось, ведь в подъезде было почти совсем темно. Мы закурили, и я старался изменить голос, когда требовалось что-то сказать. Софи захотела узнать, кто мы. Мойчеловек сказал, что его зовут Мартин. Так ли это на самом деле, не знаю. А я спонтанно представился Борисом. [22]22
Так звали тогдашнего чемпиона мира по шахматам. Снова бросается в глаза временное несоответствие. Казалось бы, в главе изображаются реальные политические события (второго июня 1967 года), но советский гроссмейстер Борис Спасский впервые стал чемпионом мира только в 1969 году. (Примеч. пер.)
[Закрыть]
Снаружи донесся звук выстрела. Софи рвалась посмотреть, что случилось, но мы сдерживали ее. Внизу забегали люди. Сердце мое колотилось как бешеное, я боялся, что потеряю сознание. Моя любимая находилась от меня так же близко, как и много лет назад, в страшные ночи бомбежек.
Разговаривали очень мало – слишком велик был риск того, что она меня узнает. О чем мы говорили? Так, повторяли всякую ерунду. Нас переполняли эмоции, впечатления о только что пережитом, и мы общались в основном с помощью малозначащих междометий. А еще беспрерывно курили. Несколько минут я держал Софи за руку. Только, пожалуйста, не придумывайте за меня, как я чувствовал себя при этом. Я и сам не знаю, думаю, что на описание не способен никто.
Мы вполголоса напели несколько песен. Это пение звучало весьма странно, и вовсе не потому, что мы фальшивили, а потому, что каждый пел свое. Меня охватила непонятная тоска.
За несколько минут до десяти вечера я поднялся, похлопал по плечу Мартина, похлопал по плечу Софи и, не прощаясь, сбежал вниз по лестнице. По улице сновали возбужденные люди, а я бежал в направлении Курфюрстендамм, иногда окольными путями, потому что вокруг продолжалась бойня. На одном из углов стояла карета «скорой помощи» с включенной сиреной. Позже я узнал, что в этой машине лежало тело студента Бенно Онезорга, ни в чем не повинного двадцатисемилетнего юноши, застреленного офицером полиции Курассом. На следующий день пресса гнусно передернула все факты, нападая на студентов, которые якобы сами были виноваты в роковом исходе событий. Ночь со второго на третье июня стала считаться началом самой настоящей революции.
Сильвия и Лукиан ждали меня в отеле. Опера была замечательной, но они все время боялись за меня. Что же творилось за пределами концертного зала? Они не слышали ничего, кроме музыки. Втроем мы отправились в гриль-бар рядом с отелем «Кемпински» потому что он работал допоздна. Мы заказали еду, но я не мог проглотить ни кусочка. Напротив располагался банк, и сквозь огромное окно-витрину я видел, как оттуда вышли два пожилых господина в дорогих костюмах и со смехом удалились в несколько ускорен «ном темпе, словно в немом кино. В этот самый момент я решил кардинально поменять свою жизнь. Жизнь, которой правят деньги, – это особая форма рабства, и такому существованию грош цена. Именно так я думал тогда – по-детски наивно. Не пытайтесь придать этой мысли глубину. И давайте закончим сегодня пораньше. Мне что-то нехорошо.
Этот вечер у меня получился свободным. Голос фон Брюккена стал хриплым, а обезболивающие, которые он принимал, не лучшим образом действовали на его память. Поэтому он предпочел промучиться целый день и распорядился сделать себе укол лишь вечером.
Ужинать пришлось в одиночестве. Аппетит у моего хозяина отсутствовал, так что он садился со мною за стол скорее из вежливости. А теперь, когда его самочувствие ухудшилось, он уже не мог и не хотел соблюдать правила этикета.
В эту холодную, ясную ночь я решил сходить в парк и осмотреть будущий мавзолей, хотя появляться там без приглашения было невежливо с моей стороны. То, что происходило в парке, совершенно меня не касалось и напоминало визит в чужую спальню. Однако никаких запретов по этому поводу я тоже не получал. Люди имеют обыкновение находить оправдание любым своим поступкам. Вот и я решил, что мое любопытство можно легко выдать за сопереживание. Я вышел из дома через главный вход. Неподалеку от подъездной дороги стоял охранник и что-то тихонько говорил в миниатюрное переговорное устройство. Но он не сделал ни малейшей попытки помешать моей вечерней прогулке.
Чтобы дойти до края парка, пришлось пересечь большой заснеженный газон. Поскрипывание снега под ногами казалось мне невероятно громким. На невысоких опорах, расположенных в непонятном геометрическом порядке, были установлены электрические лампочки, отбрасывавшие белый свет. Дойдя до пихт, я обернулся, чтобы посмотреть, не идет ли за мной кто-нибудь, и никого не увидел.
Со стороны широкого луга доносился привычный строительный шум. После хвойных пошли посадки лиственных деревьев, в том числе островки берез, конечно, сейчас совершенно голых, но летом они наверняка загораживали вид на луг и делали его не таким живописным. Работы велись при свете мощных ламп. Я различил очертания здания, закругленного наверху, будто хижина иглу, но скорее цилиндрической формы. Сооружение напоминало шлем воина испанской Армады или голову монстра из фильма «Чужой». Копошились рабочие, стояли грузовики, тракторы, экскаваторы и другой спецтранспорт. Мое появление не осталось незамеченным, однако никто меня не прогонял. Работяги приветствовали меня, касаясь виска пальцами правой руки.
Вдруг навстречу шагнула какая-то фигура в длинном темном пальто. Руки у этого человека были спрятаны в карманы.
– Не можете уснуть?
Это был Лукиан. Либо он оказался здесь по делу, либо узнал о моей экскурсии от охранника и окольным путем добрался сюда быстрее, чем я.
– Могу. – Врать не имело смысла. – Уснуть я могу, но мне стало любопытно.
– Чудесно. Александр наверняка одобрит этот шаг. Но вы пришли слишком рано.
– Мне нельзя посмотреть, как идет строительство?
– Почему же? Можно. – Лукиан взял меня под руку – довольно доверительный жест с его стороны, но тем не менее в этом движении чувствовалось некое насилие. – Можно, но только не сейчас. Сооружение еще не готово. Поэтому мы очень просим вас набраться терпения. Поймите, вы – единственный, кто допущен ко всем тайнам Александра. Он выбрал вас не случайно, он доверяет вам во всем, так что, пожалуйста, потерпите. Всему свое время.
Он попросил меня вернуться в дом. Насколько я успел заметить при ночном освещении, эта конструкция, напоминающая хижину, мавзолей и испанский шлем одновременно, возводилась из черного порфира.
Я спросил у Лукиана, не помнит ли он что-нибудь про Берлин 1967 года. Шеф обозначил его роль лишь пунктиром, подразумевая, что Лукиан находился в столице уже немалое время. Задав вопрос, я поймал себя на том, что впервые назвал фон Брюккена шефом – и внутренне запротестовал против этого обозначения.
Лукиан не отвечал. Мы шли обратно к дому, и после долгого молчания он сказал, что мне не удастся воспроизвести жизнь во всей ее сложности, впрочем, никто не сможет сделать этого. Но ничего страшного, ведь мой работодатель – Александр фон Брюккен, а не сама жизнь, и я должен лишь попытаться придать литературную форму тому, что мне рассказывают. Это совсем не легкая задача, а значит, мне неизбежно придется что-то додумывать, ведь всякая история по-своему бесконечна, И можно легко заблудиться в ее многочисленных ответвлениях, перескакивая с пятого на десятое.
– Простите, но ваш ответ меня не удовлетворяет.
– Не удовлетворяет? – Лукиан повторил это слово с легким отвращением в голосе.
– Вы просто не хотите нам помогать.
– Александр рассказывает вам лишь сотую долю того, что происходило, и вам должно быть абсолютно все равно, вспомню я еще какую-нибудь незначительную деталь или нет, – парировал Лукиан, однако его тон немного смягчился.
Не вынимая рук из карманов пальто, он резко повернулся, потом сказал, что все бывает только однажды и ни одно событие нельзя вернуть, смоделировать заново. Каждый момент жизни неповторим, и даже самый искусный художник может воспроизвести его лишь отчасти. Кроме того, жизнь имеет свойство разочаровывать, и человеку отпущены считанные мгновения счастья.
Что он имел в виду? Трудно сказать. С одной стороны, он словно хотел, чтобы я еще раз попросил его об одолжении, с другой – Лукиан выглядел скромным фаталистом, который давно примирился с прошлым и не хочет без особойнужды ворошить былое. Но почему тогда он вообще идет на контакт со мной? Лукиан проводил меня до двери комнаты и проследил, чтобы я заперся изнутри. После нашего разговора я чувствовал себя как малый ребенок, которого опекают и ставят на место все кому не лень. Однако все говорило в пользу того, что Лукиан неравнодушен к моей работе, он признаёт меня и считает последним камушком в мозаике этой истории.








