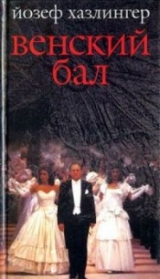
Текст книги "Венский бал"
Автор книги: Хазлингер Йозеф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц)
Освобождение
Массовые захоронения и горы трупов всю жизнь, как проклятье, преследуют меня. Первой на моей памяти фотографией был снимок братской могилы. Сотни мертвых тел в траншее, голых и полуодетых. По телам расхаживают четверо мужчин, это – бывшие эсэсовцы из охранного подразделения концлагеря Берген-Бельзен. Война закончилась. Но этих задержали, заставив убирать отходы их собственного, так сказать, производства. Это выглядело так, будто после обильного ужина они забыли помыть посуду. На переднем плане – береза, в центре – эсэсовец, явно утомленный укладкой трупов, а слева – человек в британской военной форме, с винтовкой и насаженным на нее штыком.
Всего у отца было четыре фото, привезенных из Берген-Бельзена. На одном из них – крупный план – та самая братская могила. Груда обтянутых кожей, искривленных скелетов напоминает завязанную узлами цепь. Не так просто разобрать, где чья нога или голова, с каким торсом сочленяется тот или иной тазобедренный сустав. Кое-где тела прикрыты лоскутьями одежды. На другом снимке – бульдозер, толкающий груду человеческих тел к краю ямы. И последнее фото – обернутая одеялом женщина. Мертвая голова обтянута белым платком. Руки сложены на животе. Застывший взгляд устремлен куда-то в сторону. Снимок сделан в тифозном бараке лагеря.
Во времена моего детства отец показывал эти фотографии каждому, кто бы ни побывал в нашем доме. Комментируя первый снимок, он неизменно указывал на британского офицера и пояснял: «Это я».
Гости сидели как воды в рот набрав, когда отец говорил о сладковатом трупном смраде, который облаком окутывал концлагерь и чувствовался даже издалека. Он рассказывал о горах трупов, обнаруженных англичанами в Берген-Бельзене. В первые дни после освобождения эти груды только росли, поскольку ежедневно трупов поступало больше, чем успевали захоронить. Одна женщина заплакала, увидев снимок братской могилы. Она искала на ней тело своей матери.
К нам приходило много людей. Почти все говорили по-немецки. В нашей части Хэмпстеда улицы уже именовали «штрассами» – настолько велик был приток эмигрантов. Немцев и австрийцев я делил на две группы: на хорошую – это были люди, заходившие к нам, – и плохую, состоящую из убийц, которым чуждо все человеческое, но эти жили далеко от нас, на континенте. Я знал, где отец хранит фотографии, и часто рассматривал их. Будучи старым австрийским коммунистом, отец отлучил меня от всякого религиозного воспитания. И хотя в детском саду и в школе меня приучали к мысли о том, что после смерти люди либо возносятся на небо к Господу Богу, либо попадают в преисподнюю, к дьяволу, у меня была каша в голове. Я видел склеенные глиной глыбы трупов, видел бульдозер, перекатывавший их по земле, ломая черепа и кости, а ведь это всё были хорошие люди, чьи родственники навещали нас. И как же они могли вдруг очутиться в другом месте, если лежали здесь. Всемогущий Бог смахивал на Гитлера. Он был большим пальцем гигантской руки, который в любой момент мог показаться в небе и раздавить меня.
Однажды отец рассказал, как спустя несколько дней после освобождения он нашел среди трупов живого человека. Бульдозер сгребал смердящие тела в яму, а отец следил за тем, чтобы эсэсовцы не работали спустя рукава. И тут он заметил ладонь, она шевелилась, несмотря на то что бульдозер еще не поддел клубок трупов, из которого она торчала. Он дал команду «стоп» и по мертвым телам взобрался наверх, где мелькнула рука. Она была теплой. Так удалось выяснить, что при освобождении среди мертвых могли оказаться и живые, которых еще теплыми просто сваливали в штабеля. А у них не хватало сил даже на то, чтобы голосом или шевелением подать какие-то признаки жизни. И меня преследовала картина: я лежу живым среди трупов, а бульдозер гонит этот вал к могиле.
Когда мне было лет двенадцать-тринадцать, фотографии притягивали меня уже по иной причине. Теперь для меня было важнее то обстоятельство, что я видел обнаженные тела. Я пытался определить, какой труп мужской, а какой женский. Это удавалось лишь в редких случаях, так как женщины от истощения стали совершенно плоскогрудыми. Но были и исключения. На переднем плане лежало сплошь измазанное глиной тело с большой грудью. Женщина не успела исхудать, должно быть, ее убили сразу, как только приконвоировали в лагерь. Я нашел это тело и на снимке с крупным планом. Тут она лежала головой вниз, опрокинутые груди свисали до плеч, ноги были раскинуты. Рядом – вздыбленное вверх задом женское тело, верхняя часть фигуры погружена в скопище трупов, отчетливо видны гениталии. Эти трупы были первыми обнаженными женщинами, которых я видел.
Отец всю жизнь гордился тем, что был в числе освободителей Берген-Бельзена. Даже в почтенном возрасте, знакомясь с каким-нибудь человеком, он первым делом упоминал этот факт. Профессор колледжа, ученый-германист, он благодаря своей книге о Рильке снискал международное признание. Но почитатели Рильке встретили ее, естественно, без восторга, поскольку отец осмелился немного поскоблить отполированный до блеска олеографический образ немецкого святого от поэзии. В книге обстоятельно говорится о консервативных политических взглядах Рильке, о его преклонении перед Муссолини и об антисемитских выпадах поэта. Но не книга была предметом отцовской гордости. Однажды он сказал: «По воле случая я просто оказался первым, кто исследовал это».
Друзьям он предпочитал дарить не книгу о Рильке, а копии тех самых фотографий, где был запечатлен в качестве освободителя. А то, что в начале войны его как подозрительного иностранца англичане интернировали, препроводив на остров Мэн, где пришлось голодать и спать на холодном полу, он, кажется, простил им. Хотя голод запомнился навсегда. Когда я возвращался домой из школы или со спортплощадки и говорил, что голоден, отец всегда поправлял: «Не голоден, а проголодался. Голод, сынок, – это совсем иное».
В Лондоне, еще до высылки на остров, он познакомился с чешкой по имени Бланка, то есть с моей матерью. Она была на несколько лет старше его и считалась квалифицированной преподавательницей английского. Свои симпатии к коммунистам, разделяемые столь многими эмигрантами, она благоразумно скрывала от властей. А поскольку она была чешкой, к ней относились лучше, чем к немецким или австрийским эмигрантам. Понятие Enemy alien [9]не стало ее клеймом. В ту пору, когда интернировали австрийцев и немцев, она получила место школьной учительницы. Отца она всячески опекала: поначалу он не знал ни одного английского слова. И вплоть до высылки она оплачивала его учебу в Лондоне. Вернувшись с острова, отец сразу же записался в действующую армию. У него была возможность отправиться по воде в Канаду вместе с другими эмигрантами. Он не захотел. Оставалось воевать со своими бывшими соотечественниками.
Мать рассказывала мне, что во время краткосрочного отпуска – это было еще до его участия в боевых действиях – отец уговаривал ее выйти за него замуж. Она же решила с этим повременить до окончания войны. Но когда война шла к концу, на свет появился я. А отец после войны еще почти год пробыл в Германии. Как военнослужащий британских войск, он пользовался свободой передвижения. В армии он получил псевдоним. На самом деле его звали Куртом Фейербахом. А в британской армии отца перекрестили в Керка Фрэйзера. Фамилию он сохранил и после войны. Мать мечтала о возвращении в Богемию. Отца же тянуло в Вену. В октябре 1945 года он туда уехал. Через две недели снова оказался в Германии. А в начале 1946 года вернулся в Лондон и женился на моей матери. И его английская фамилия стала моей тоже.
В Вену он рвался по трем причинам. Во-первых, для того, чтобы разыскать родителей, связь с которыми оборвалась в 1939 году. Во-вторых, хотелось взглянуть на квартиру, где он вырос. Кроме того, он был готов возобновить контакт с Коммунистической партией Австрии.
В квартире жили чужие люди. Они делали вид, что понятия не имеют, кто нанимал ее раньше. Другие жильцы тоже не могли вспомнить, когда и почему отсюда съехали родители отца. «Давно это было, взяли вдруг и уехали» – вот и все, что он услышал. Депортационные списки конфисковали американцы, к тому же списки были неполными. Отец оставил матери в Лондоне все данные и адрес. Позднее от американцев пришло письмо, подтвердившее самое страшное. Стариков депортировали в Освенцим. Потом английская Комиссия по Освенциму, пользуясь данными, полученными от американцев, точно установила день, когда мои венские дед и бабушка погибли в газовой камере.
Вернуть старую квартиру не удалось. И хотя отец заполнил какую-то бумагу в какой-то венской конторе и оставил там свой лондонский адрес, эта контора больше не давала о себе знать.
С коммунистами у него тоже ничего хорошего не получилось. Старые товарищи посмотрели на его британский мундир и удостоили особого задания. Ему поручили вести агитацию среди попутчиков нацизма перед первыми выборами, убеждая голосовать за коммунистов. Как солдат армии западных союзников, он мог бы рассчитывать на большее доверие австрийских граждан, чем, скажем, какой-нибудь эмигрант из Москвы. Отец сердечно поблагодарил былых соратников за почетное поручение и вернулся в свой гарнизон на территории Германии.
Пробиться в круг преподавателей колледжа первой сумела мать. В английской школе она получила столь лестные рекомендации, что ей доверили вести весь курс богемистики. Она заняла должность ассистента профессора. Мать не жалела усилий, чтобы выхлопотать отцу место на отделении германской филологии. Тут, несомненно, сыграли свою роль и его испытание войной, и заслуженные им отличия. Формально он закончил свою учебу, будучи уже преподавателем со стажем.
Позднее мне довелось прослушать несколько его лекций. Я думаю, он был хорошим профессором. Студенты чувствовали себя с ним, что называется, на короткой ноге. Многих из них он то и дело приводил домой. И наверное, за сорок лет его преподавательской работы в Ридженс-колледже не было ни одного германиста, кому он не показывал бы фотоснимков, сделанных в Берген-Бельзене.
Шестидесятые годы были не самым удачным временем для завершения учебы. Мне, во всяком случае, это так и не удалось – я предпочитал околачиваться на Портобелло-роуд и ездить на остров Уайт, где проходили фестивали под открытым небом. Всякие попытки заняться учебой очень быстро заканчивались провалом. Когда отец перестал оплачивать мои расходы, я на Портобелло-роуд занялся продажей курительных принадлежностей и всевозможной заправки для них, какой баловались в ту пору. 1969 год провел в Индии. Откуда вернулся домой с отуманенными гашишем мозгами. Но и не без некоторых плодов познания. Продолжать учебу значило исполнять волю отца, а не следовать собственной.
В Лондоне я узнал, что полгода назад американцы высадились на Луне. В индийских селениях и в колониях хиппи эта новость до меня все-таки дошла.
Я получил место технического ассистента в отделе кинодокументалистики Би-би-си. Вначале мне надо было всего лишь возиться с кабелем и таскать алюминиевые чемоданы. У меня оставались длинные лохмы и окладистая борода. Но тогда среди младшего персонала Би-би-си волосатиков хватало. Мне приходилось выполнять скучную работу, но производство документальных фильмов очень интересовало меня. Я подавал голос на совещаниях. Меня заметили. Я был освобожден от выездных работ и переведен в отдел планирования. При этом сыграло свою роль мое знание немецкого. Кроме того, я немного понимал и чешскую речь. Хотя говорить не умел. Когда мать заговаривала со мной по-чешски, отец почти всегда отвечал вместо меня: «Я тебя не понимаю». Потом она и со мной стала говорить только по-немецки. После женитьбы я иногда переходил в разговоре с ними на английский. Мать не испытывала при этом никаких затруднений. А отец поначалу противился такой практике.
«Говори по-немецки!» – осадил он меня однажды во время какого-то спора. Со мной он говорил исключительно по-немецки и надеялся, что я сохраню эту традицию в общении со своим сыном. Когда Фред был малышом, я еще старался придерживаться ее. Но не успел он усвоить первые немецкие слова, как меня уже стала утомлять такая воспитательная программа.
Теперь мои обязанности на Би-би-си состояли в чтении иностранной прессы, прежде всего немецкоязычной, и прослушивании радиопередач на немецком языке. Каждую неделю я зачитывал на редакционном совещании обширный перечень тем, которые стоило отразить в информационных программах телевидения. Мои предложения охотно подхватывали. Я не ограничивался перечислением возможных тем, но всякий раз дополнял его своими соображениями относительно интервьюируемых персон и места съемки. Я стал, можно сказать, незаменим. Семья разваливалась, а профессиональные дела шли в гору.
Следующий карьерный взлет произошел в марте 1988 года, когда я раскритиковал документальный материал о поражении палестинского восстания и выступил против его запуска в эфир. При съемках использовались только контакты с палестинцами. На мой взгляд, фильм настолько однобоко представил суть конфликта, что это могло вызвать целый поток протестов и затруднить нашу работу в Израиле. При этом я не ставил под сомнение направленность фильма, я видел его недостаток лишь в том, что авторы не потрудились дать слово ни одному из членов израильского правительства и никому из еврейских поселенцев. С этого дня директор картины стал моим злейшим врагом. Но шеф отдела уже успел проникнуться ко мне таким доверием, что передал эту работу мне, поручив довести ее до кондиции. Я обратился в посольство Израиля и открыто изложил суть проблемы. Дело закончилось тем, что мне целую неделю пришлось помотаться по передовым подразделениям израильской армии. Я брал интервью у военных, политиков и поселенцев, один из которых был уверен в том, что палестинцев, всех до одного, лучше перебить сегодня, чем завтра, чтобы не получилось наоборот. Отснятый материал обошел весь мир.
Несколько месяцев спустя я впервые оказался на усеянном трупами поле. Приехав в Локерби, я целыми днями снимал лишь один сюжет: собирание мертвых тел и останков, разбросанных по территории диаметром в несколько километров после теракта на борту самолета компании «Пан Америкэн».
С тех пор все мои маршруты вели в те места, где убивали людей. Во время войны в Заливе я принадлежал к избранному кругу репортеров, которых американцы допускали к работе на театре военных действий. Но мы не были фронтовыми корреспондентами, мы сидели в расположении части и ежедневно получали подачки в виде готовых, отфильтрованных текстов и видеосюжетов – самые эффектные хиты. В кинопроекторской царило приподнятое настроение. Демонстрация успехов сопровождалась горячими аплодисментами. Никто из нас не знал, что на самом деле происходило за пределами части. Самостоятельные действия и всякие попытки добыть информацию на линии фронта совершенно исключались. Спустя месяцы мы узнали, что некоторые из отпразднованных удач оказались мыльными пузырями.
Мои репортажи были не лучше, но и не хуже работ моих коллег. Хороший материал удалось отснять только к концу войны, после того как иракская армия при отступлении несла большие потери в результате бомбардировок. Мы попали на дорогу, где не было видно конца искореженной и сгоревшей военной технике. Это были главным образом автомобили снабжения, но можно было разглядеть несколько приданных пехоте танков и совсем немного орудий. Повсюду лежали обугленные или растерзанные взрывами тела. Некоторые черными мумиями застыли за рулями машин, на месте глаз – выгоревшие впадины. Наш вездеход двигался вдоль дороги в нескольких километрах от нее. Картина, в сущности, не менялась. Мы не нашли ни одного выжившего. Кассетные бомбы оставляют лишь небольшие воронки, но разрывают на куски всякого, кто пытается унести ноги из ада выжигаемой земли. Из отснятого материала удалось переслать только кое-какие фрагменты, так как британское правительство присоединилось к цензурному кодексу американских войск.
В то время как журналисты со всего мира устремились в Югославию, я готовил свой козырной ход. Мне удалось получить разрешение на съемки в Южном Ираке, который официально контролировался ООН, а на самом деле – американцами. Пентагон отказал мне. После заявлений, сделанных в ООН, решение было пересмотрено. Между тем поступали очень обстоятельные свидетельства о ходе войны. Выяснилось, что постоянно внушаемая нам, фронтовым журналистам, и подпираемая киноотчетами военных картина «чистой войны» – не более чем легенда. Один американский журналист установил, что иракским подразделениям, окопавшимся в песках пустыни, не оставили шанса сдаться. Их просто засыпали песком с помощью гигантски бронированных бульдозеров.
«А что вы хотите? – гремел рассерженный генерал по Си-эн-эн. – Война есть война. И это была чистая стратегия. По-вашему, лучше, если бы мы их перещелкали поодиночке?»
Я потратил недели на сбор материалов о маршрутах выдвижения войск, наступавших со стороны Залива. На место прибыл в составе необычайно многочисленной команды, включавшей в себя топографа и четырех строителей, которых я хорошо подготовил к стоявшей перед ними задаче. Самая большая трудность состояла для меня в том, чтобы избавиться от сопровождения, для которого нам выделяли отряд охраны. Мы дали подписку, засвидетельствовав тот факт, что предпринимаем экспедицию на свой страх и риск и отказываемся от настойчиво предлагаемого сопровождения. Легко было догадаться, какое мы тем самым вызвали недоверие. Еще от нас потребовалось обязательство не покидать территорию, находившуюся под контролем ООН.
На трех вездеходах мы пересекли иракскую границу. Двигались по скрупулезно выверенной нашим топографом зигзагообразной линии того маршрута, по которому десять месяцев назад наступали танковые части американцев. Уже в первый день мы наткнулись на бронемашину, которая с виду не имела особых повреждений. Очевидно, она застряла и ее попросту бросили. На третий день мы оказались в таком месте, откуда можно было разглядеть два танка и один бронетранспортер, занесенные песком больше чем наполовину. Наши строители откопали их. Пластины корпуса были изрядно повреждены, цепи разорваны. Ясно, что огонь по ним вели с северовосточных рубежей. Мы развернулись в ту сторону и по пути следования стали прощупывать песок составными зондами. Пройдя около километра, мы почувствовали, что щупы наткнулись на что-то твердое. Два дня мы исследовали грунт зондами. Таким образом удалось составить представление о размерах бункера. В длину он равнялся нескольким сотням, а в ширину – местами пяти, а кое-где и двадцати метрам. Вероятно, это была система довольно больших помещений, соединенных узкими ходами. Кое-где мы обнаружили ответвления, но отследили их не до конца. Топограф чертил диспозиции. Предстояло решить самую трудную задачу – найти вход. Можно было предположить, что вход, если он действительно засыпан, должен выглядеть скорее как холмик, нежели как углубление. Двухдневные поиски ни к чему не привели.
Вечером, когда наша усталая команда собралась вместе, чтобы опустошить жестяные миски с ужином, один из строителей сказал: «Если это не отдельный бункер, а целая система, то вход может быть где-то в другом месте. А лучше всего прощупать каждый холм в округе».
И на другой день нам повезло. Вход находился под пятиметровой, никак не меньше, толщей песка. Мы встали цепочкой: впереди – строители, за ними – топограф, а потом – мы, съемочная группа. Поскольку у нас не было никакого материала, чтобы соорудить опалубку, пришлось прорывать очень широкую штольню. Но скоро мы поняли, что это напрасный труд. Когда ручьи пота и нешуточная усталость вынуждали нас сделать передышку, чтобы полить друг другу головы питьевой водой из канистры, стены вырытого нами колодца начинали на глазах осыпаться. Вечером поднялся ветер. А утром и без того ничтожный результат нашей работы был вовсе сведен к нулю. Мы предприняли еще одну попытку. Пришлось снять дверцы и капоты с наших вездеходов и использовать их в качестве опалубки. На сей раз мы проделывали узкий лаз, чтобы можно было хотя бы протиснуться. Стенки подпирали домкратами и пустыми канистрами. А потом в ход пошли даже запасные колеса и автомобильные сиденья. В полдень над нами начал кружить вертолет. Мы догадывались, что это могло означать. И попытались ускорить процесс работы. Даже когда наши машины остались без колес и ветровых стекол, входа все еще не было видно.
Вертолет приземлился, к нам пожаловали гости – американская военная полиция. Без лишних слов нас арестовали. Пришлось все бросить как было. Вертолет доставил нас на территорию какой-то части в Кувейте. Там нас распихали по отдельным камерам, где офицеры Службы безопасности непрерывно допрашивали каждого. Ночью, после двухчасового сна, меня разбудили, чтобы еще раз задать всё те же вопросы. Им надо было во что бы то ни стало выяснить, на кого мы работаем. В то, что я затеял экспедицию по собственной инициативе, пусть даже и с ведома руководителя отдела, офицеры не хотели верить. Обходились с нами неплохо, хотя, конечно, не деликатничали, кормили нормально и силу не применяли. Донимали только бесконечными допросами. На четвертый день в мою камеру вошел британский офицер войск ООН. Он сказал, что мы можем лететь домой. Вся отснятая пленка конфискована. Мой ответ звучал так: «Никакой пленки мне не требуется, достаточно того, что у меня в голове и что могут показать свидетели. Я расскажу о том, что ООН помешала мне обнаружить массовое захоронение».
На этом и расстались. Следующие два дня нас не беспокоили. В это время, как я узнал позднее, наш премьер-министр Джон Мейджор лично звонил моему шефу вне себя от ярости. Я оказался виновником дипломатической перепалки на самом высоком уровне. После двухнедельной отсидки нас освободили и перевели на жительство в гостевую казарму с кондиционерами, телевизорами и телефоном.
Женщина в погонах объяснила, какой код надо набирать, чтобы позвонить в Англию. Один first lieutenant [10]пригласил меня на ужин в казино. Протянув руку, он сказал: «Call me Dick». [11]
Извинился за то, что нас продержали под арестом. По его словам, это была вынужденная мера, так как своими действиями мы создали большую угрозу – он сказал даже calamity [12]– для интернационального контингента. Наши намерения они раскрыли с самого начала, но решили изъять пленки лишь после того, как мы добьемся какого-то результата. Ведь они сами весьма заинтересованы в изучении практических следствий своей боевой тактики. К сожалению, за нами вела наблюдение и иракская сторона, а потому пришлось вмешаться.
– Ну, и что теперь? – спросил я.
Он дожевал свою курицу и запил апельсиновым соком. В офицерском казино – сухой закон.
– Предстоят переговоры, – сказал офицер. – Для Саддама Хусейна нет никакого резона в том, чтобы его соотечественники видели, каким образом погибли их сыновья и братья. Никто не знает, как долго им удалось протянуть там, внизу. А нас это, естественно, интересует.
Потом first lieutenant пригласил меня к себе, в свою двухкомнатную квартиру. Одна из стен была сплошь увешана семейными фотографиями, другая – отведена милашкам из мужских журналов. У меня в глазах зарябило от этого парада обнаженных женщин. У каждой – сочные, слегка выпяченные губы, почти у всех – приоткрытые рты. Мой хозяин вел меня от портрета к портрету.
– Я отобрал их у солдат. Здесь мы должны хоть немного считаться с законами страны. Но жалюзи у меня всегда опущены.
Когда я повернулся к стене с семейными сюжетами, он полез в платяной шкаф и из груды носков и подштанников извлек бутылку «Бурбона».
– Все в наших руках, – сказал он. – Нужна лишь толика организационного таланта.
Он открыл бутылку и наполнил бокалы почти по ободок, будто разливал яблочный сок. Затем поставил пластинку с Уилли Нельсоном. Поначалу просто слушал, потом начал подпевать.
– Ах, Америка, – сказал он. – Это – единственное, чего мне здесь не хватает.
– А женщины?
– При чем тут женщины? Хочешь перепихнуться?
– А здесь это возможно?
– Все в наших руках. Могу устроить. Но только уж не сегодня.
Он мог устроить все. В тот вечер он не раз предлагал мне марихуану. Когда я прилично захмелел, он поинтересовался моим происхождением. Я сказал:
– Мой отец освобождал Берген-Бельзен.
Для него это был пустой звук. Я пояснил: так когда-то назывался один концлагерь. Он прищелкнул языком и понимающе кивнул.
– Эти, евреи. Они не желают воевать по субботам. Найдется ли во всем мире самый разнесчастный христианин, который отказался бы воевать в воскресенье?
– Я наполовину еврей. И не стал бы воевать даже в будний день.
– А кто дал тебе твою свободу?
– Мою – что?
– Сукин ты сын! – рявкнул он. – Захотел и прикатил в Ирак трупы выкапывать! И еще спрашиваешь, что такое свобода?
Я ударил себя в грудь:
– Моя свобода здесь, внутри.
– Внутри у тебя кровь с дерьмом. Без нас ты был бы сейчас красной вонючей лепешкой на песке. А потом тебя бы сожгли бедуины.
– А люди в бункере?
– Это были наши враги, кретин.
– А как быть с их свободой?
Он вытащил пистолет и крикнул:
– Пошел вон, ублюдок!
Я встал и направился к двери, успев на ходу сказать:
– Благодарю за увлекательную беседу. Commander [13]узнает о ней.
Он бросился за мною вслед:
– Я не хотел обидеть тебя, fellow. [14]Мне надо было разговорить тебя. Ну подзавелся малость. – Он на спортивный манер выбросил вперед руку, чтобы шлепнуть меня по ладони: – Give me five! [15]
Я подставил ему ладонь. Он крепко ухватился за нее и втащил меня в комнату.
– А странная ты все же задница, – с некоторым недоумением произнес он. – Еврей, которого колышет свобода арабов.
– Я наполовину еврей. Другую мою половину колышет твоя свобода.
Он выпустил мою руку.
– Вот. Бери две бутылки «Бурбона». Для себя и своих друзей. А теперь вали отсюда.
Так нам и подфартило пять дней валять дурака, пить «Бурбон», любоваться кувейтскими принцами на телеэкране и ждать. Потом наконец было принято решение.
Наша небольшая колонна выехала к иракской границе. Компанию нам составляли уже знакомый британский офицер и один французский – из частей ООН. Кроме того, нас сопровождали несколько солдат, first lieutenant и священник. Колонна состояла из двух бронетранспортеров, танка повышенной проходимости, седельного тягача на гусеничном ходу с экскаватором наверху и двух мощных грузовиков. За иракской границей нас ждали два бронетранспортера и порожние самосвалы. Горизонтальные поверхности машин были окрашены в белый и синий цвета – для того чтобы проносящиеся над нами самолеты-разведчики признали в нас подразделение ООН. Иракские военные встретили нас коротким и подчеркнуто официальным приветствием. Лейтенант протянул руку иракскому офицеру. Солдаты отдали честь. Дальше мы ехали вместе. Иракцы – во главе колонны. К тому месту, где мы начали раскапывать песок, прибыли вечером. Наших вездеходов там уже не было. Американцы собрали их по частям и переправили назад, в Саудовскую Аравию. Маленькая щель в песке осталась единственным свидетельством наших усилий. Мы уселись вокруг костра и принялись жевать ломти мяса, а иракцы молились, встав на колени возле своих палаток.
На следующий день заработал экскаватор. Мы снимали. Лейтенант строго контролировал нас. Входить в бункер нам запретили. Мы могли снимать его только снаружи. В течение нескольких часов экскаватор нагружал песком самосвалы, которые ссыпали его в сотнях метров от входа. Постепенно открывались недра подземной крепости. Образовалась воронка, в центре которой косо торчала бетонная плита. Затем ковш подцепил мертвую ногу. Иракцы остановили работу экскаватора. Они начали вытаскивать трупы соотечественников и укладывать их на песок. Потом начали работать лопатами. Строители из моей телевизионной команды тоже в этом участвовали. Откапывали тело за телом. Вход в бункер был забит трупами и песком. Когда удалось прорыть сквозную брешь, в нос ударил омерзительно-сладковатый смрад. Нам было поручено вести как можно более крупноплановую съемку и освещать своими приборами вход в бункер на максимальную глубину. Тела хорошо сохранились. Многие были облачены в униформу и выглядели столь же истощенными, как и узники Берген-Бельзена. Не оставалось никаких сомнений в том, что люди до последнего пытались преодолеть толщу песка, зачерпывая и отсыпая его касками. У некоторых на затылках виднелись огнестрельные раны, кто-то сжимал в руке четки. Мы старались высветить начало коридора. Но все, что мы видели и снимали, представляло собой одну и ту же картину: огромные насыпи песка и усохшие трупы на них.
Иракцы стояли вдоль длинной вереницы мертвых тел и пели молитвы. Их офицер следил за тем, чтобы мы не входили в бункер. Наш священник беспомощно топтался поодаль, прикрывал нос платком и чуть слышно что-то бормотал.
Сотня трупов тех, кто в смертельном отчаянии ввинчивался в гору песка, – вот и все, что мы могли заснять. Как это выглядело в самом бункере, сколько там погребено мертвых тел и в каком они состоянии – об этом нам оставалось только догадываться.
Однако наш документальный материал имел мировой успех. Благодаря этому однажды мне позвонил из Парижа шеф частного телеканала ЕТВ Мишель Ребуассон. Вскоре он прилетел в Лондон и пригласил меня в свой отель на ужин. На поразительно хорошем американском английском он сообщил, что намеревается открыть в Вене отделение по вещанию на Восточную и Центральную Европу. И сказал, что считает меня созревшим для этого проекта.








