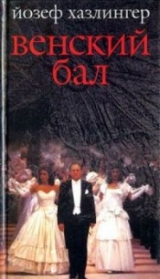
Текст книги "Венский бал"
Автор книги: Хазлингер Йозеф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц)
Инженер
Пленка 1
«Всякая культура имеет право развиваться без помех, всякая культура имеет право сохранять свою чистоту».
Эта мысль, как рассказывал нам Нижайший,осенила его в ту пору, когда он приехал в Вену и вынужден был повторить тяжкий путь своего отца. Отец его, деревенский паренек, отпрыск бедного семейства из лесной глухомани, в тринадцать лет был поставлен перед выбором: либо всю жизнь горбатиться батраком, либо пробиваться, стиснув зубы и полагаясь только на себя. Он выбрал второе, увязал свои пожитки и рванул из родных краев.
«Поскольку, – говорил Нижайший, –полвека спустя предстояло то же самое, это служит убедительным доказательством, что мы топчемся на месте, что вся Вторая мировая война была пустой затеей. В семнадцать лет я вынужден был пойти на то же почти непосильное решение, что принял отец в свои тринадцать. Если уж я решил пробиваться, надо было забыть про все остальное».
Есть некая нетронутая чистота души, «голос характера», как это называл Нижайший,что сильнее всякого опыта. Отца все урезонивали, отговаривали, хотели даже силком удержать дома. Батраков, видно, не радовало, что один из них пытается избежать убогой доли. Никакой иной они и представить себе не могли. Наверное, мысль о том, что несчастье их собственной жизни продлится в грядущих поколениях, для них как бальзам на душу.
«Обыкновенная жизнь, – с самого начала внушал нам Нижайший, – судьбопослушна. Не ориентируйтесь на планку обыкновенной жизни. Она видит свои высоты и бездны сквозь голубое бельмо телевизора. Ей до смерти страшно бросить вызов судьбе, ведь она боится честного взгляда на собственное убожество».
Несмотря на то что Нижайшийстрого пенял нам за всякие высказывания о его превосходстве над другими людьми, он не был человеком обыкновенным. И это казалось тем более очевидным именно потому, что подобные суждения возбранялись. Его присутствие было настолько ощутимо, что в этом смысле никто не мог сравниться с ним. Когда он входил, все сразу замечали это, даже не глядя на дверь. Никто не делал из него лидера, главаря: он просто был таковым. Все становились его верноподданными. Часто для этого от него не требовалось ни единого слова. Достаточно было взглянуть ему в глаза, чтобы понять его мысли. Глазами он мог сказать все. Этот язык был не менее значим, чем произнесенные им слова. Может, полным согласием этих двух языков и объяснялась его уникальность. Он был самим собой, и только собой. Нет, он был нами. У меня ни разу не возникало ощущения, что он желает чего-то для себя. Он являл собою наше Движение,воплощая его с предельной полнотой и завершенностью. Мы обретали в нем себя. Не знаю, сумеете ли вы это понять. Ничто не могло укрыться от него. Он был всегда неотступен, что ли, всегда в нас. Когда он смотрел на меня, создавалось впечатление, что он видит насквозь все закоулки моих мыслей. Стоило ему бросить короткий взгляд – и я не знал, куда деваться от стыда. Хотя глаза его были само спокойствие. Включалась тончайшая мимическая техника. Согласованная игра бровей, век, ресниц и всей мускулатуры лица доносила мысль быстрее и непосредственнее всяких слов. В какой-то миг все это слагалось в чеканно-четкий рисунок – и каждый из нас понимал, что это означает. Его глаза поучали и наказывали. Мимолетный взгляд – и порядок восстановлен. Как правило, этого было достаточно. Всем, кроме разве что Файльбёка в более позднее время. Но Файльбёк с самого начала считался у нас заблудшей овцой.
Взгляд Нижайшегомог и воодушевлять. Такой взгляд означал: «Что бы ни случилось, я с тобой. Можешь рассчитывать на меня до конца дней».
А ведь бывали минуты отчаяния, неприятности с полицией, стычки на работе или с прохожими, но стоило попасть в поле зрения Нижайшего– и все собственные болячки и обиды становились вдруг забавными пустяками в сравнении с общими задачами, которые сплачивали нас.
После возвращения Нижайшего,когда я завоевал его доверие, он рассказал мне о своих корнях и своей юности. Чаще всего мы беседовали уже за полночь в его маленькой квартире на Вольлебенгассе. Он наливал мне стаканчик виски и, поглаживая свои длинные пряди волос, говорил о былом. Он писал книгу о своей жизни и учении. Небольшие отрывки читал мне вслух. Рукопись, должно быть, еще где-то хранится. Отца он ценил, описал мне всю его жизнь, но не любил его. О матери я мало что узнал. Но когда он упомянул о ее смерти, я понял, что мать была для него всем. Вопросов я почти не задавал, я слушал. Вообще он часто не давал ответов. Во всяком случае слышимых. Так повелось с самого начала. Но ставил вопросы сам. И если я не знал ответа, он отвечал вместо меня.
После долгих мытарств его отец нашел наконец место ученика в одной из мастерских почтового ведомства Австрии. Он ремонтировал почтовые автобусы и не успевал уворачиваться от оплеух. Через несколько лет сдал экзамен на подмастерье. Думал: теперь все будет иначе. Разве не добился он чего хотел? Он жил в городе, и ремесло было надежное. Однако он не мог отделаться от ощущения, что так и остался куском дерьма. Над ним возвышалась иерархия, которую и глазом не охватить, эта цепочка из бесчисленных звеньев и инстанций завершалась где-то генеральным директором. А внизу были просто сопляки и подсобники, которых он мог мордовать, как раньше мордовали его. И на этом всё? Предел? Нет, он хотел забраться повыше и записался в вечернюю школу. Те, с кем он работал, ходили по вечерам в кино и рестораны, а он корпел над книгами. В необычайно короткое время, за три года, он добился права поступить в высшее учебное заведение. Его отец охотно стал бы тем, кем стал я, – инженером. Но заниматься серьезной учебой после тяжелого рабочего дня было ему просто не по силам. Получалось так, что он сломался на подходе к цели.
– А почему, – спрашивал Нижайший, –он все же чего-то достиг?
Я пожимал плечами.
– Да потому, что была война, – говорил он, – война давала шанс многим, потерявшим всякую надежду, в том числе и отцу.
В генерал-губернаторстве, как тогда называли Польшу, недалеко от Люблина, находились мастерские германского вермахта. Туда-то и был призван отец Нижайшего.У него под началом были в основном поляки, которых в собственной стране называли иностранными рабочими. Отец особо отличился при раскрытии актов саботажа. От его взгляда не ускользали ни подпиленные тормозные провода, ни проколотые уплотнители, ни сточенные грани коленчатых валов. Саботажников он вылавливал целыми партиями. О новых способах покушения на материальную часть германского вермахта он писал в подробных докладных с приложением руководства по наиболее эффективному предотвращению вредительства. И хотя свои письменные сигналы он передавал по инстанции, на них на всех были означены адрес и адресат: Господину генерал-губернатору Гансу Франку, Королевский замок в Кракове. Он слышал, что генерал-губернатор устраивает в Кракове пышные застолья, в то время как в люблинских мастерских на исходе стратегически важные материальные ресурсы.
– Отец не уставал говорить об этом, – заметил Нижайший.Он покачал головой, и в смутном движении его губ промелькнуло нечто вроде иронической улыбки. Видеть, как улыбается Нижайший,доводилось очень редко. Поэтому я так хорошо запомнил тот случай. Он улыбнулся при мысли об отце и сказал: «Это был его подвиг. Об этом он рассказывал постоянно. Мне уже и слушать было невмоготу. Он проставлял на письмах какой-то чудной адрес. В этом выражалась вся отвага его жизни, чего, вероятно, даже никто и не заметил».
В 1944 году отца Нижайшегоназначили начальником центральных мастерских «Ост». Незадолго до вступления в Люблин Красной Армии он заминировал и взорвал всю производственную территорию.
После войны отец Нижайшегооказался в числе самых востребованных кадров. Практически не было такого поста в металлообрабатывающей промышленности, которого бы ему не предлагали. Социалистическая партия хотела доверить ему восстановление «Предприятий Германа Геринга» – тогда еще не придумали нового названия; Народная партия уже видела его директором заводов «Штейр». Шли разговоры о том, не поручить ли ему руководство восстановлением завода авиадвигателей или Федеральных железных дорог Австрии. Но всего заманчивее для него была служба на старом поприще – в почтовом ведомстве.
– Не будь войны, он, возможно, дослужился бы до мастера, – сказал Нижайший. – А тут его как управляющего всеми мастерскими Федеральной почтовой связи вводят в главное управление. Прошло еще несколько лет, и он узаконил свои отношения с одной из секретарш.
Из батраков – в высокопоставленные чиновники. Путь отца начертан красным мелом на стене дома в Литцльберге, на берегу озера Аттерзее, куда семья переехала после выхода отца на пенсию. В последние десять лет службы он вкладывал в этот дом все деньги. Каждую пятницу он отправлялся в Литцльберг. А возвращаясь по воскресеньям, все сокрушался на тот счет, что рабочие в новом доме ни черта не сделали и опять устроили себе санаторную неделю. Тяготы юности настолько приподнимали в его глазах достигнутое позднее, что оно казалось ему еще грандиознее, чем просто следствие его железного упорства и исключительной работоспособности. Это была гордость человека, сотворившего себя собственными руками, она заставляла его желать для своего сына такого же, а лучше бы, конечно, еще более высокого положения в жизни.
Когда отец вышел в отставку и поселился на Аттерзее, Нижайшийотправился в Креме, где поступил в духовную гимназию при известном монастыре. Едва он кое-как приноровился к монастырской жизни, как отцом уже завладела мысль о том, какое учебное поприще сына предстоит финансировать через восемь лет.
– Придет время, будешь изучать право, это откроет перед тобой все горизонты административной деятельности, вплоть до политики.
Так направлял он своего сына. Все ключевые позиции в его окружении занимали юристы. Но Нижайшийхотел стать священником, потом – миссионером и, наконец, прелатом. Его идеалом был аббат ведавшего гимназией монастыря.
Будучи еще учеником младших классов, тринадцатилетним семинаристом, он впервые удостоился особого внимания аббата, который пригласил Нижайшегов прелатские покои, угостил сигаретой и вином и завел разговор о христопродавце Иуде Искариотском.
После его возвращения нам захотелось узнать, кто были его учителя в Америке. Он ответил:
– Аббат из Кремса, и только он, открыл мне глаза. От него во мне возгорелся огонь мысли. А то, чему меня учили в Америке, было уже заложено во мне. Там просто раздували пламя, зажженное в Кремсе.
Аббат производил на Нижайшегостоль сильное впечатление, что он стал обожать его и всячески ему подражать. Тогда он и представить себе не мог более достойной жизненной цели, нежели дорасти до такого сана.
Разумеется, пояснил он в разговоре со мной, он, Нижайший,даже не сознавал, в какие дали простирались мысли аббата. После отступничества от Церкви эти мысли как бы вовсе перестали влиять на ученика. Он намеревался окончательно распрощаться со всякой теологией, и лишь позднее, в Америке, до него дошло, что его разрыв с теологией был не чем иным, как последовательным исповеданием мыслей аббата из Кремса. Когда Нижайшийвернулся и я стал бывать у него чуть ли не каждый вечер, он как-то сказал: «Знаешь, в чем суть учения аббата из Кремса? В том, что будущность дается только через предательство».
Это дало мне пищу для размышлений. Если бы не его вразумление, я не сидел бы сейчас на Мальорке, а числился бы в списке погибших. Да. Как ваш сын. Нет, черт побери! Нижайшийтоже мертв. Я думал, вы хотите знать все. Это был не я. Чем дольше размышляю над этим, тем все более убеждаюсь: это вообще были не наши. Вы хотите поставить точку или можем продолжить?…
Аббат из Кремса, приглашая Нижайшегов прелатские покои выкурить сигаретку и выпить вина, что с годами случалось все чаще, в конце концов дал понять, что поклоняется Иуде Искариотскому. Ведь Иуда – истинный герой христианства. Он принес себя в жертву, дабы свершился искупительный подвиг Христа, который, по словам аббата, стал уже не крепок в духе и, вместо того чтобы добровольно принять крестные муки, дал волю отчаянию в молении о чаше. А посему единственное, что оставалось Иуде, – это наложить на себя руки. Для приверженцев Христа он стал предателем, ненавистнейшим воплощением греха, самого низкого из всех мыслимых. Никого не ненавидят так люто, как предателя, ибо никто, кроме него, не знает столь глубокого сомнения в собственных силах и правильности собственного пути; никто не дерзает так откровенно заявить о своем бессилии и своих блужданиях на ложном пути. Иуда, как неустанно подчеркивал в частных беседах аббат из Кремса, поддержал своими плечами искупительный подвиг. Отрекшись от собственного будущего, он сделал себя орудием христианской истории. Горстки христиан с их революционными идеями, подобно множеству других известных в истории человечества сект, исчезли бы во мгле прошлого, если бы Иуда не послужил толчком к тому, чтобы приверженцы учения Христова крестились не только водой, но и кровью. Великие идеи требуют кровавой дани, иначе они гибнут.
– Толкачи идеи пацифизма, – говорил Нижайший, – в конечном счете вынуждены пустить в ход атомные бомбы.
Это уже не мысли аббата, это, несомненно, их продолжение самим Нижайшим.Он, разумеется, знал, что для меня, как и для прочих, его идеи были своего рода Евангелием, откровением. Но только мне посчастливилось узнать, как они рождались. И сегодня я по-прежнему вижу в этом особое отличие и впредь буду стараться не посрамить учителя.
Потому я и рассказал вам все это. Зарубите себе на носу: Нижайшийбыл не просто какой-то там террорист, которому забавы ради или из ненависти к конкретным лицам вздумалось устроить катастрофу в Опере. В нескольких словах этого не объяснишь. Кремсский монастырь значил для Нижайшего,для его становления гораздо больше, чем обычно думают. Кому в ученические годы привелось вдыхать запах более чем тысячелетней древности и каждое утро слышать песнопения десятого века, тот, может, сам того не понимая, испытывает истинное благоговение перед великими идеями, которые возвышаются над всеми ухабами истории. И какие бы заварухи ни случались в нашей стране за тысячу лет: смена династий и форм правления, потопленные в крови восстания, военные поражения, опустошение деревень, бомбардировки городов, потери целых областей, переименованных на чужеземный лад; какие бы потрясения ни сокрушали все вокруг – монастырь в Кремсе устоял, остался целым и невредимым. В девятнадцатом веке там несколько раз на дню собирались монахи для хорового пения на латыни, то же самое – и в семидесятые годы двадцатого, когда Нижайшийбыл старшим причетником и пользовался особым доверием своего вероучителя аббата. Взгляд на историю с высоты монастырской цитадели был как бы милостиво дарованным правом смотреть вдаль sub specie aeternitatis. [7]И оно было дано Нижайшему,а позднее он научился пользоваться своим неоценимым преимуществом, открывающим новые горизонты мысли, и приобщать к этому нас.
– Истинные идеи, – учил нас Нижайший, –не могут быть поколеблены ни прессой, ни телевидением, ни еженедельными опросами общественного мнения. Они подобны зажженному фитилю. Слабенькое, трепещущее на ветру пламя коптящего огарка в любую минуту может разжечь мировой пожар.
В двенадцативековом незыблемом бытии монастыря Нижайший,вероятно, еще в юные годы увидел предтечу своих главных идей, которые сложились позднее, обоснование священного приоритета собственной культуры.Долговечность всего, что хранят библиотеки, зависит не от качества бумаги, но скорее определяется вне книгохранилищ, доказуется огнем и мечом. Без сожжения ведьм и плахи для еретиков культура монашества не сумела бы сохранить свою чистоту.
В то время, когда отец в специальных журналах и в разговорах с бывшими коллегами добывал информацию о том, какой именно университет выбрать для сына, у того в удаленной от мира обители в корне менялись представления о собственном предназначении. Идеи и предписания Церкви уже не привлекали его, броня ежедневного распорядка с бесконечным повторением давно затверженного и отсутствие всякой надежды когда-нибудь сбросить ее день ото дня становились для него все невыносимее, и он понял, что и аббат вынужден жить закованным в ту же броню, даже если он тайно поклоняется Иуде. Неприятие вечного единообразия питает мечту о предательстве, но Нижайшийбыл не из тех слабаков, которые тешатся мечтами вместо того, чтобы перекраивать свою жизнь. Он хотел целиком посвятить себя своим идеям и жить ими – так созрело в нем желание стать писателем. Втолковать это отцу было невозможно.
– Писатель? – ужасался тот. – Нищий сочинитель? Нет, пока я жив, об этом не может быть и речи.
И так же, как когда-то отец пренебрег советами батрацкой голи, Нижайшийрешил действовать вопреки планам отца. И день ото дня все более укреплялся в своем устремлении. Вскоре начались первые трудности с учебой. Все, что ему давала гимназия, проверялось одним критерием – пригодностью для будущего литературного творчества. А то, что казалось неважным, он отторгал. Табель напоминал мозаику из хороших и плохих отметок. Несколько «очень хорошо» и «хорошо» были вкраплены в длинный ряд «удов» и «неудов». Отец все более напористо требовал подтянуться. И сын подтягивался, только не видел смысла тратить двенадцать лет на зубрежку, чтобы снова забыть зазубренное. Революционную переделку школьной системы он рассматривал позднее как одну из неотложных задач.
– Цель обучения, – говорил он, – нигде и никогдане должна сводиться к затверживанию наспех проглоченных фактов и дат.Суть вовсе не в том, – объяснял он нам, – когда произошла та или иная битва, когда родился такой-то полководец или когда нацепил корону некий монарх (как правило, незначительная личность). Нет. Видит Бог, это не так уж важно.
Но что же важно? Нижайшийдовольно рано понял, что мир монастыря с тысячедвухсотлетней историей и мир за его стенами утратили былое согласие. Здесь ежедневно освежались чистотой собственного учения и держались так, будто следующую тысячу лет можно одолеть играючи, а там был обречен на гибель весь континент. Яд чужекровия разъедалтело европейской культуры на востоке и юге, и даже Вена, старая культурная столица, все больше становилась чужим городом для коренного населения, как можно было заключить из всех поступающих сообщений.
У Нижайшегоуже не было возможности изложить отцу истинные мотивы своевольного решения. Ибо, пока в нем нарастало недовольство интернатской жизнью и монастырской гимназией (хотя он сам еще не дошел до корней своего протеста), отец скончался от апоплексического удара. Неожиданная смерть как будто приостановила духовное развитие Нижайшего.Стремление сменить жизненное поприще ослабело, ибо такая перемена означала бы исполнение отцовской воли.
Теперь аббат был особенно расположен взять под свое крыло Нижайшего.Каждое воскресенье после вечерни тот нажимал на звонок у порога прелатских покоев. Дверь открывалась с помощью электрического устройства, вдоль анфилады из четырех комнат с барочным интерьером и высокими дверями тянулась череда светильников. В кабинете возле письменного стола аббата стояла небольшая вращающаяся этажерка с книгами. На ней же – пепельница и два бокала. И хотя в комнате хватало стульев и пуфов, Нижайшийникогда не садился на них. Всякий раз он усаживался в кресло напротив аббата и рядом с вертушкой, курил сигарету, пил прелатское вино и следил за живой жестикуляцией своего наставника.
Точно такая же кубообразная вертушка с книгами стояла возле дивана в доме на Вольлебенгассе. В ней же хранился и недописанный манускрипт Нижайшего.Он ставил на нее рюмку, наливал мне виски, садился напротив и изображал аббата из Кремса.
– Радикальное христианство, – говорил он, рубя рукой воздух, – не боится смерти. Оно ведет в ее лоно. Но радикальное христианство вовсе не склонно к безрассудным авантюрам. Оно взвешивает свои устремления и выверяет путь, которым лучше всего идти к цели. Не бояться смерти вовсе не значит легкомысленно растрачивать жизнь.
Два последних слова он произнес протяжно и сделал рукой размашистое движение, словно бросая за спину какой-то предмет. Тогдашнего аббата из Кремса, которого, возможно, сменил новый, я никогда не видел, даже на фотографии. Но я мог живо его вообразить.
Аббат убедил Нижайшегов том, что закрыть гимназию более чем целесообразно. Он почти не задумываясь мог назвать тех учителей, которых ненавидел Нижайший.Он рассказывал истории, в которых они представали жалкими, беспомощными тварями. Их бы давить, да куда там, их-то изволь поддерживать, чтобы сделать свободными натурами.
– В полном смысле слова бесхребетные субъекты, – продолжал наставник, – дрожат на всех ветрах и не знают, к чему приткнуться, это и толкает их на учительскую стезю. Школьный порядок и школярские ценности – только это и держит их на плаву. Была очередная встреча выпускников, – в доме на Вольлебенгассе Нижайшийпо памяти воспроизводил слова аббата, – я пригласил молодых людей к себе в прелатские покои. Все свелось к тому, что они не один час читали баллады и пародии на баллады. А это был отнюдь не плохой выпуск, в учебном процессе участвовали профессора высшей школы. И вот бородатые мужи начинают вдруг хихикать, как тринадцатилетние девочки. Посмотрел я на все это и подумал: Господи, кого мы вырастили! Нет, не следует тебе относиться к учителям слишком серьезно. Ты должен просто использовать их, чтобы идти своим путем, но полемизировать с ними не стоит. Иначе будешь топтаться на месте.
На прощание, поведал мне Нижайший,аббат всегда обнимал его, долго держал в объятиях, а потом внезапно отталкивал. Прижимал к себе, громко сопя. И вдруг толчок, после чего душевной доверительности как не бывало. Аббат снова становился аббатом, а Нижайший– обычным воспитанником, коему надлежало уважать субординацию.
Вернувшись из Америки, Нижайший,желая сохранить свой приезд в тайне, менял адреса и не задерживался в одной квартире дольше нескольких недель. Из всей мебели ему сопутствовал лишь один предмет – та самая вертушка с книгами. Я видел ее только на Вольлебенгассе – в одной из его последних квартир. Файльбёк рассказывал нам о ней раньше. Стало быть, ему было позволено навещать Нижайшегои в других квартирах. На Вольлебенгассе он иногда брал с полки какую-нибудь книгу, чтобы подарить ее мне или порекомендовать для прочтения. Случалось, он доставал свою рукопись и читал мне один-два отрывка, не более двух коротких абзацев каждый, словно боясь нарушить творческий процесс, если чуть больше приоткроет его.
– Все действительно важное помещается на этих полках, – сказал он, – остальное можно выбрасывать.
Однажды – пошел уже девятый год жизни нижайшего в Кремсе – аббат сам открыл ему дверь в свои покои. На сей раз не было ни сигарет, ни вина. Аббат сказал:
– Ты должен ехать в Вельс, в больницу, к матушке.
Судя по тому, как он прижал его к себе, как гладил его голову, можно было не сомневаться в том, что мать в безнадежно тяжелом состоянии. Несколько дней она пролежала в коме, потом приборы за ненадобностью отключили. Случилось так, что, выезжая из дома в Литцльберге по узкой, трудной для обзора подъездной дороге, она как-то неожиданно выскочила на шоссе и на ее машину налетел автопоезд. Машину буквально расплющило. Даже если бы матери удалось выжить, она больше никогда не встала бы на ноги. Ей не было и сорока.
Спустя неделю после похорон он вошел в знакомые апартаменты, чтобы проститься со своим учителем. Аббат не смог ни на один день оттянуть его отъезд. Этот момент своей жизни он описывает такими словами:
– Отца я уважал, а матушку любил. Уложив одежду и белье, с одним чемоданом в руке и неколебимой волей в сердце, я поехал в Вену. Я надеялся вырвать у судьбы то, что удалось взять у нее моему отцу полвека назад; и так же, как он, хотел состояться, но только в качествеписателя, а ни в коем случае не чиновника».
Он приехал в Вену, когда был непонятно кем, вернее, никем. Даже образование незаконченное. Сиротская пенсия позволяла выжить. И хотя он ожидал наследства (прежде всего это был дом, в который отец вложил все свои сбережения), оно оставалось пока только мечтой. Нижайшемубыло семнадцать, стало быть, он считался несовершеннолетним.
В Вене он искал квартиру, искал работу. Ни того ни другого не нашел. Времена были те еще. Хочешь квартиру по сходной цене – давай в лапу при заключении договора, а это сумма от двухсот до трехсот тысяч шиллингов как бы в счет погашения будущего долга. А если таких денег нет, как не было их у Нижайшего,оставалось две возможности. Одна заведомо отпадала. Квартиры, за которые не требовалось платить задатка, были, как правило, в хорошем состоянии, но месячная квартплата намного превышала сиротское пособие. Приходилось рассчитывать только на черный рынок жилья.
Пять ночей он шатался по городу, натыкаясь на кодла бездомных бродяг. От них несло алкоголем, даже от тех, что заряжались героином. На пятую ночь он, валясь с ног от усталости, устроил себе ночлег на скамье в городском парке. Проснулся уже без чемодана. Умылся водой из фонтана на Шварценбергплац, а потом весь день расспрашивал прохожих про жилье, останавливая чуть не каждого встречного. Наконец какая-то иностранка дала ему один адресок.
Дом находился на большом дорожном кольце – в квартале Лерхенфельдгюртель, – здесь он прожил почти два года и здесь же основал движение Друзей народа,этот дом мы и спалили, как только Нижайшийсъехал. Тут мы совершили ошибку. И не только потому, что полиция очень быстро напала на наш след. Личная месть, как мы поняли позднее, – самая последняя гнусность. Наоборот, мстить за других, посвятить свою жизнь европейской культуре, а не шкурным интересам – вот на чем воздвигнется будущее христианского Запада. И на этом, после возвращения Нижайшего,утвердилось величие нового движения Непримиримых.
Верите вы или нет – мне по барабану. Повторяю: это был не я. Это не наши. У нас хватило бы пороху провернуть такое, но это были не мы. Мы же не самоубийцы. Если мы о чем таком и помышляли, так это был угарный газ. Чего это вы так осмелели? Припрятали где-то оружие? Нет? А если я пристрелю вас на месте? Что тогда? Ни одна собака не найдет вас в бурьяне за этими стенами. Давайте так: я держусь наших условий, а вы держите язык за зубами.
Нижайшийплатил за подвал на Гюртеле две с половиной тысячи в месяц. У него был свой закуток, в остальных жили два серба, босниец, орава из Сомали, румынская семья, анголка, египтянин и какой-то араб неизвестно откуда. На всех – один сортир, одна кухонная мойка и рожок душа. У двух из этих обитателей катакомб – у боснийца и араба – не было окон, в коридоре напротив входа были вкручены две лампочки, их зажигали и выключали с помощью какой-то замысловатой кочерги. Подвальные окна с одной стороны смотрели прямо на тротуар, с другой – выходили во двор шестиэтажного дома. Трудно сказать, какая сторона лучше. Во дворе было тихо, но два огромных платана загораживали свет, и весь день в комнатах было темно, как в трюме, а потому терялось всякое представление о времени суток. На другой стороне было светлее, но прямо вдоль окон громыхали колеса грузовиков. Однако даже в комнатах этой половины не хватало света, чтобы читать без электричества.
Чтение было тогда основным занятием Нижайшего.Он наблюдал мир и истолковывал его в процессе чтения. Его тогдашнее мученичество стало опорой нашего Движения,гранитной основой, на которой мы строили нашу работу. Он собственной кровью внял опасность, почувствовал нависшую над нами угрозу. В нем в муках познания созревало решение: баста, нельзя больше сидеть сложа руки, когда все идет прахом. Впервые спустившись в этот затхлый крысятник, я своими глазами увидел, как можно испохабить жизнь нищетой, убожеством, грязью, мерзостью запустения, о чем раньше мне только рассказывали, и я заразился тревогой, которая мучила Нижайшего:«Беспечная белая культура. Она погибла, если когда-нибудь на нее обрушится потоквосставших рабов,вылезших из этих жалких нор,чтобы потребовать расплаты».
Найдите рукопись. Тогда вы наконец поймете, что на вашем сыне свет клином не сошелся.








