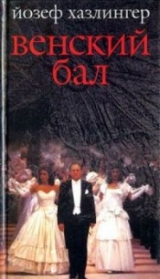
Текст книги "Венский бал"
Автор книги: Хазлингер Йозеф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
Назад, в Старый свет
Кровоточащие бугры с какими-то желтыми маслянистыми вкраплениями. Оголенные кости. Рваное человеческое мясо. Лоскутья одежды. В фокусе – оторванная нога. Скольжение над прикрытой лужей крови. Кто-то приподнимает бумажный покров. Под ним голова с обрубком плеча. Крупным планом – открытые глаза. Стоп. Склейка. Женщины в черном исходят плачем, опираются друг на друга. Крупный план залитого слезами лица. Склейка. Дети с автоматами Калашникова позируют перед камерой.
Зрелище ужасает своей неизменностью. Но к этому невозможно привыкнуть. Мертвые, раненые, плачущие навзрыд, скорбящие, стреляющие и дети. Особым спросом пользуются кадры с окровавленными или вооруженными детьми. Мир не может насытиться добротными лентами с настоящей войной и кровью. Обычная съемка на порядочном удалении от взрывов и огненных сполохов уже никого не устраивает. Чаще всего это – просто портрет корреспондента на фоне местности, он облачен в бронежилет и объясняет зрителям, что, несмотря на достигнутое перемирие, идет перестрелка. Кто ее начал, трудно понять. Таким репортажем с места события, как правило, открывался выпуск новостей. Но всегда давалось понять, что заваруху затевала не та сторона, которая снабдила репортера бронежилетом и указала ему позицию перед камерой. Не для того ЕТВ платило мне вчетверо больше, чем Би-би-си, чтобы я поставлял стандартные зарисовки. От меня требовались кадры с настоящей войной, да еще крупным планом. И мои заказчики получали их.
Мостар и Сараево – этим городам я обязан тем, что мое положение на ЕТВ стало неколебимо прочным. Я слетал в Загреб вместе с оператором и звукотехником. Там нас представили командиру спецподразделения. Его военная форма являла собой пеструю комбинацию из элементов экипировки разных армий, как будто он облачился в то, что насобирал в лавке старьевщика. Говорил он на языке немецких гастарбайтеров, но с баварским акцентом. Глаголы принципиально употреблял только в неопределенной форме: «Я разрешать всего два человек».
Поэтому оператора мы оставили в Загребе. За две ночи нас в составе маленькой группы австрийских и немецких контрактников перебросили в район боевых действий под Мостаром. Разместили во францисканском монастыре. Снимать контрактников я не имел права, но все же я ухитрялся. Для того, в конце концов, и был изобретен телеобъектив. Все они были просто-напросто нацистскими молодчиками не старше двадцати лет. И подались сюда для того, чтобы помочь старому другу – Хорватии одолеть старого врага – Сербию. Но теперь, в Мостаре, воевали не с сербами, а с боснийскими мусульманами. Такая неувязочка, казалось, только распаляла их злобу. Огонь открывали по всему, что движется. Скажи я им, что мой отец еврей, я бы ахнуть не успел. Одного из них я заснял с большого расстояния, когда он подарил девочке-мусульманке гранату. Он усмехнулся и быстро попятился назад, уходя из кадра. Я хотел было направить на него объектив, но меня пронзила мысль о том, что он мог выдернуть чеку. Девочка смотрела на гранату в своем кулачке и не знала, что с ней делать. Через секунду ребенка разорвало в клочья.
Я поклялся себе тогда сделать все, чтобы этот гад предстал перед судом. Но уж очень маловероятно, что ему удалось остаться в живых.
Насколько мне известно, только один наемник из этой австрийской группы молодых нацистов сумел вовремя унести ноги. Остальных после выполнения задания где-то закопали.
Мой материал назывался «Мостарский ад». Его передавали все станции ЕТВ и купили многие страны. Тем не менее я не был доволен им. Мне удались кадры с развалинами городов, с беспомощными и бесприютными жителями, с двумя взлетевшими на воздух арками старого турецкого моста через Неретву, с уничтоженными артиллерией и огнем пожаров мечетями. Кроме того, у меня была ставшая знаменитой картинка с девочкой и гранатой; ее даже использовали в иллюстрированных журналах. Но при этом хорватское спецподразделение и наемники вошли в сюжет короткими и пустоватыми эпизодами – храбрые солдаты на защите францисканского монастыря. Хотя на самом деле в первую же ночь после съемки они покинули монастырь и с целым грузом взрывчатки переправились через Неретву. В восточной части города они взрывали мечети. Я все ждал возможности незаметно заснять их рейд. Но после расправы над девочкой содержимое моей камеры было дороже золота, и я не хотел рисковать. Мы прибились к регулярным частям, которые помогли нам проделать обратный путь в Загреб. За два часа фильм был смонтирован и снабжен комментарием. Техник по спутниковой связи перегнал его в Париж. Первый фрагмент – а это, естественно, был эпизод с погибшей девочкой – показали уже в вечерних новостях. Фильм целиком на следующий день увидела вся Европа. Ввиду спешки с отъездом у меня не было возможности документально подтвердить, что старый мост взорвали немецкие нацисты последнего поколения. Я лишь зафиксировал, как они похвалялись этим. Еще в Загребе я узнал о том, что горит францисканская церковь в Мостаре. Хорватское телевидение показало первый снятый материал. Комментарий мне перевел один немецкий коллега. Это был призыв сражаться до последнего. И я понял, насколько ненадежным было мое прибежище во францисканском монастыре.
Однако материал имел такой успех, что венское бюро ЕТВ могло перейти на полную самоокупаемость. Я даже испугался – не рановато ли мы созрели – и вынужден был оправдываться перед парижским начальством. Позднее же, когда пришел черед Сараева, дальнейшее продвижение моего венского проекта стало делом решенным, несмотря на все трудности, с которыми я столкнулся вначале.
Вернувшись в Вену, я не нашел вокруг ни отголоска, ни эха – если не считать сбора пожертвований в пользу пострадавших жителей Югославии – той войны, что шла в каких-то четырех сотнях километров отсюда. Вена напоминала своего рода большую деревню. Создавалось впечатление, что здесь все знают друг друга. Единственный вопрос, который волновал людей, – это как бы без хлопот и вместе с тем не без некоторого азарта прожить оставшуюся жизнь. У политиков, правда, были свои заботы. Казалось, их профессиональный интерес состоял в том, чтобы увидеть свои лица в передачах ЕТВ. Не успел я провести в Вене и двух недель, как меня уже начали приглашать: бундесканцлер – на теннис, его супруга – на гольф, партийный лидер консерваторов – совершить прогулку в Альпы. Руководитель Национальной партии прислал мне по случаю, так сказать, моего вступления в должность подарок в виде синего шарфа. Я отправил его обратно с чистосердечным признанием, что пока не собираюсь вешаться. После этого он пригласил меня на ужин в «Бристоль». Бургтеатр, Театр Академии и Опера навязывали бесплатные билеты на премьеры. Вскоре их примеру последовали другие театры. Бизнесмены, министры, партийные функционеры, главные редакторы, профсоюзные деятели, муниципальные советники – все, похоже, изо дня в день собирались за праздничными столами. А газеты и журналы, включая жалкие тявкалки, обретали некоторую солидность лишь в тех случаях, когда затрагивали самый нерв столичной жизни, то бишь вопрос о том, кого с кем видели на этих банкетах.
Была и другая сторона городской венской действительности, связанная с так называемым предместьем. В кварталах, построенных городскими общинами и составлявших гордость муниципальной политики социалистов, гуляла теперь дикая! охота Юпа Бэренталя – лидера Национальной партии. В период первоначальной эйфории по случаю разрушения «железного занавеса» имел место бесконтрольный приток беженцев из восточноевропейских стран. Их сменили – когда границу вновь перекрыли, уже с западной стороны, – люди, бежавшие от войны в Югославии. Но потом Съезд был закрыт и для них. Между тем ситуация на окраинах изменилась. Ютящиеся, как правило, в тесных жилищах иностранцы столкнулись с растущей враждебностью местного населения. За два или три года до моего прибытия в Вену был совершен поджог жилого дома, когда погибло двадцать четыре иностранца. Я слышал об этом в Лондоне. Но известие о поджоге затерялось в потоке сообщений о подобных актах в Германии.
Когда я приехал в Вену, ситуация стала как будто поспокойнее. Уровень правонарушений, квалифицируемых как насильственные действия расистов, были здесь ниже, чем в других крупных города к Европы Однако ряды тех, кто горланил: «Благо Австрии прежде де всего» и «Австрия для австрийцев», хотя сами они зачастую были людьми славянского происхождения, продолжали пополняться. Но я, еще не отвыкнув от Лондона, где уличные эксцессы такого рода уже перестали удивлять, не видел особой опасности в вылазках венских экстремистов.
Собственно говоря, Вена была вне сферы моих интересов, разве что я наблюдал ее со стороны. Тем не менее я начал свой журналистский поиск в кварталах, населенных иностранцами, – в 16-м, 17-м и 20-м районах. Я полагал, что иностранцы лучше, чем кто-либо, знают, в чем суть проблем их родины, и таким образом надеялся составить для себя какую-то общую картину. Они же в основном заводили речь о проблемах, с которыми столкнулись здесь. Почти никто не отваживался говорить перед камерой, особенно женщины. Многие из них оказались здесь после того, как их мужьям удалось добыть соответствующие документы, а сами они не имели даже разрешения на жительство. Многие, вероятно, и могли бы получить таковое, но избегали всякого контакта с властями, боясь ареста и высылки.
Когда между хорватами и сербами началась череда перемирий, я совершил поездку по Румынии, Болгарии, Польше и Албании. В конце концов мне поручили заниматься всей Восточной Европой. Только я не мог найти ракурса, в котором эти страны представляли бы интерес для зрителей ЕТВ. Бывшие коммунистические государства сами собой приходили в упадок. Я снимал разруху и нищету. Я разговаривал с людьми, которые жаловались на нехватку всего на свете, ругали политиков, а нуворишей называли «мафией». Ну и что, думал я, а мой сын питается кореньями и улитками. Я снимал скороспелых богатеев, которые разъезжали на шикарных немецких лимузинах и упрекали бедных в инертности: они-де не способны ни к какой инициативе, только и ждут подачек от государства. Кажется, мне это знакомо, думал я. Подождите малость и увидите, что станет с вашей страной, когда у вас появятся наконец свой Рейган и своя Тэтчер. Я снимал политиков, дружно мечтавших о присоединении к Западной Европе. Они могли просто растрогать до слез, когда пели дифирамбы своему свободному рынку и в то же время, заискивая перед западной камерой, молили богатые государства о денежных дотациях.
Мои первые репортажи из Восточной Европы были самыми неинтересными из всех смонтированных мною материалов. Даже ЕТВ не хотело их передавать. Я был рад, когда к немецкой программе, которую мы транслировали сами, пристегивали английскую, а если подпирало, французскую или итальянскую.
После признания Европейским сообществом и США независимого государства Босния и Герцеговина разразилась давно прогнозируемая война в Боснии. Я сразу же очутился в своей стихии. Когда страны Запада стали угрожать все громче и выразительнее, я зарезервировал дополнительный канал через французский спутник связи.
Но вскоре парижская дирекция ЕТВ стала наседать на меня, вынуждая отказаться от этого канала, так как ежедневная плата даже за нерабочее время была слишком высока. А поскольку дирекция пригрозила переложить все расходы на плечи венского бюро, меня начал доставать здешний коммерческий директор.
– Я вас понимаю, – сказал я, – но войны требуют терпения. Лорд Каррингтон сошел с дистанции. С конфликтами в Зимбабве в восьмидесятые годы ему повезло, потому что диктатор Ян Смит и так уже дышал на ладан. Но проныра Караджич ему не по зубам. Да и лорду Оуэну тоже.
– Но это же все мелкие стычки. Кому они и интересны? Если в скором времени они не перерастут во что-то масштабное, мы закроем канал.
– Умоляю, подождите еще несколько недель. Караджич – не политик. Он – писатель, которому надо успешно завершить свой роман. И когда весь мир подыгрывает его стилю, он находит особое удовольствие в том, чтобы отбросить все общепринятые правила. Роман возникает из стремления подмять под себя действительность.
– Так вот какова ваша точка зрения. – Он смерил меня долгим взглядом. И все же я выбил двухнедельный срок.
Я вылетел в Белград, чтобы обеспечить надежный путь в Сараево. Но наша машина со спутниковой тарелкой имела постоянную позицию в Загребе и была привязана к месту. В хорватской столице мне помогала открывать кое-какие двери ссылка на приятельские отношения с австрийским министром иностранных дел. В Белграде же я, наоборот, все время твердил о том, что центр ЕТВ находится в Париже, а не в Вене. Этот аргумент действовал все слабее по мере того, как затягивалось решение, так как французы тем временем усиливали свое давление, требуя разомкнуть кольцо осады Сараево. Мою задачу немного облегчало лишь то, что президент Милошевич хотел использовать ЕТВ в своих интересах. Тем не менее в тот раз я вернулся в Вену с пустыми руками.
Поскольку мне предстояло слетать на четыре дня в Америку, чтобы забрать из Моаба Фреда, я отложил на время дальнейшие попытки пробиться в Сараево. А за два дня до отлета пришел факс из Белграда: в соответствии с женевским соглашением доступ в Сараево предоставлен делегации Красного Креста и некоторым избранным журналистам. На следующий день надлежало быть в Белграде, место сбора – Министерство внутренних дел.
Ни одно из моих решений не было чревато такими угрызениями совести и самоупреками. Я представил себе, как Фред выходит из вертолета в Моабе, как ищет глазами и не находит меня в толпе ликующих и утирающих слезы родственников тех, кто вернулся из лагеря. Если бы я не умолчал в разговоре с Фредом о том, какие суровые испытания предстоят ему в лагере, мне легче далось бы решение отменить свой полет в Колорадо. Ведь я должен был как-то загладить это дело. В Моабе, думалось мне, скорее удалось бы смягчить его досаду отцовской любовью, чем позднее, в Вене. Не будет же он осыпать меня упреками, когда рядом шестеро его товарищей с благодарностью обнимают родителей. И все же я заказал билет на белградский рейс. В Прово я отправил факсом письмо с просьбой передать его Фреду сразу же по прибытии. И еще позвонил матери, чтобы она встретила его в Хитроу, снабдила деньгами и помогла ему пересесть на самолет, вылетающий в Вену. Билет уже дожидался его в бюро заказов Британских авиалиний. В Вене, согласно моему плану, Фред должен был прямо из аэропорта Швехат ехать в мою квартиру. Я все расписал, даже то, что звонок для вызова экономки – внизу, слева от двери. Мать повторила всю инструкцию. Возможно, даже кое-что записала. Потом ей захотелось, чтобы я рассказал о Вене. Я увильнул, сославшись на спешку.
– Времени в обрез. Завтра лечу в Сараево, а у меня еще куча дел.
– Пожалуйста, береги себя.
– Не волнуйся, мама. В Сараеве – перемирие. Вечером я поставил на стол в комнате Фреда вазу с красными розами, блюдо с фруктами и бутылку красного вина.
Потом написал длинное письмо. Я просил Фрела правильно понять меня: получилось так, что я его подвел, но я не видел иного выхода. Я обещал сделать все, чтобы ему хорошо жилось в Вене. Как только вернусь, он сможет приступить к работе в качестве ассистента оператора.
Я вложил в конверт пять тысяч шиллингов и прислонил его к вазе. Запасной ключ от двери отдал экономке. Среди ночи, вспомнив о сигаретах, я встал и отнес две пачки в комнату Фреда.
Хороший военный репортаж – не только ставка на удачу. Надо предусматривать и худшее. Я пытался прокрутить в воображении варианты самой жестокой тактики врага и готовился к этому. Можно было надеяться, что в городе будет сохраняться относительное спокойствие, пока в нем находится делегация Красного Креста. Я заранее подал ходатайство в пресс-службу Министерства внутренних дел с просьбой продлить мне пребывание в Сараево на два-три дня, но в Белграде узнал, что мне отказано. В аэропорту сербские солдаты перетряхнули багаж всех прибывших. Единственное, что разрешили ввезти, кроме одежды и кинотехники, – это две коробки с антибиотиками и анестезирующими средствами для госпиталя. Помимо моей съемочной бригады на борту находились телерепортеры из США, Франции и мои бывшие коллеги по Би-би-си. В Сараево мы летели по маршруту, согласованному с правительствами Сербии и Боснии. До того как нам указали место посадки, мы пересекли артиллерийские позиции. Когда я смотрел в иллюминатор, на душе у меня кошки скребли. От Караджича можно было ожидать чего угодно. Машина села на разбитую и кое-как залатанную полосу. Вместо аэродрома – пустырь с обломками бетона и воронками. Вышка и терминал аэропорта были разрушены. На краю поля лежали вспоротые фюзеляжи и оторванные крылья самолетов. Наша окрашенная в белый цвет машина с опознавательными знаками ООН была здесь единственным исправным самолетом.
Трое мужчин, составлявших делегацию, сели в черный лимузин, а мы, журналисты, – в открытый кузов грузовика. Окраина Сараева напоминала гигантскую руину. В домах, избежавших полного разрушения, еще жили люди. Потом мы углубились в квартал, где на стенах виднелись лишь отметины, оставленные осколками. Стоявшие на улицах люди махали нам руками. Первым делом мы заехали в больницу, верхние этажи которой были разрушены. В подвале оперировали раненых при свете двух велосипедных фар. От этих слабых светильников шли провода в соседнюю комнату, где два парня, сменяя друг друга, крутили педали поставленного на козлы велосипеда. К нему крепились маленькие динамо-машины.
«Натура», которую мы снимали, по существу, не менялась. Изуродованные дома, сожженные фабрики, разрушенные мечети. Бродячие собаки, свиньи и куры, которые рылись в мусоре развалин. Деревья некогда тенистых аллей давно сожгли на дрова. А потом в ход пошли даже корни. На месте газонов – жалкие огородики. На стенах домов – списки погибших. Во всем городе – всего два источника питьевой воды. Очереди за ней огибали несколько кварталов. Нас умоляли показать миру правду. Женщины протягивали нам фотографии своих убитых детей. Изредка попадались автомобили. Все они мчались на большой скорости. В магазинах пусто, некоторые, вероятно, даже разграблены. Но в нашем отеле можно было купить пива.
Ночью накануне отъезда мы услышали взрывы. Я выбежал на улицу, но ничего разглядеть не мог. Утром мы узнали, что аэропорт закрыт. Пришлось ждать счастливого часа, когда власти смогут гарантировать нам безопасность. В полдень тоже время от времени слышались взрывы снарядов и гранат. По улицам бегали парни со стрелковым оружием и поясами из патронных лент. Мои коллеги вместе с делегацией Красного Креста поехали к градоначальнику, собираясь шифрованной радиограммой оповестить мир об отчаянно бедственном положении горожан, а я со своей командой отправился на рынок, чтобы запечатлеть ежедневный быт осажденного города. Мне было совершенно ясно, что, если в последний момент я не сумею снять что-то из ряда вон выходящее, спутниковый канал уже не заполучить. То, что аэропорт стали обстреливать как раз в то время, когда мы находились в Сараеве, было хорошим знаком. Интуиция мне подсказывала: если бы кто-то захотел показать, что он здесь хозяин, то открыл бы огонь не по зданиям, которые и без того уже разрушены, а по скоплению народа у главной артерии жизнеобеспечения города.
Я навел объектив на старуху, разложившую у своих ног несколько пучков дистрофичной моркови. И тут послышался свист и вслед за ним – взрыв. Там, где лежала морковь, зияла яма. Женщину буквально разорвало. Ларек, стоявший позади, рассыпался. Люди с криками бросились прочь. Я успел захватить бегущую толпу. Когда прибыли другие съемочные группы, перед ними были только пятна крови и убитые горем лица.
Ночью американцы бомбили одну из сербских позиций. Это был кратковременный налет. Мы насчитали шесть мощных взрывов и слышали гром артиллерии. На следующий день аэропорт открыли.
Но в Белграде я застрял. Все забронировали себе линии связи на сербском телевидении, только я не позаботился об этом. Наша трансляционная установка находилась в Загребе. Я не учел, насколько трудно будет туда добраться. Воздушное сообщение было прервано. И хотя пресс-атташе ООН заверял меня, что уже завтра я могу отправиться в Загреб вместе с колонной военного транспорта, не было никаких гарантий, что она доедет до места в тот же день. Пока ни одной машине пробиться не удалось. Для репортера нет ничего хуже ситуации, когда у него в руках отличный материал, а передать его нет возможности. Другие из взрыва на рынке, имея даже никудышные кадры, сделали бы настоящую сенсацию. У меня же на кассете был живой реальный эпизод, и я не мог запустить его. На сербском радио мне дали от ворот поворот. Связь с Веной якобы возможна только на следующей неделе. Все мощности зарезервированы. Я позвонил в Париж. Однако я не говорю по-французски. Оставалось надеяться, что первым на том конце провода окажется человек, чей английский можно понять. Даже при разговоре с сотрудниками секретариата дирекции случалось так, что, лишь прослушав несколько французских фраз, я начинал соображать, что это – попытка говорить по-английски. Зато Мишель Ребуассон великолепно владел английским, вернее, американским. Но его, к сожалению, не было в офисе. Я вытребовал номер его автомобильного радиотелефона, и тут мне повезло. Он сказал:
– Но ведь у Си-эн-эн есть трансляционная установка в Белграде.
– И они с восторгом передадут ее конкуренту?
– Мы подарим им право на разовую передачу, равную по хронометражу, а за это пусть запустят пленку через наши спутники.
Идея мне понравилась. Я поехал в контору Си-эн-эн и показал там «гвоздевой» фрагмент своего фильма. Главный соединился с Атлантой, и сделка была заключена. Но в последний момент вся затея чуть не сорвалась, так как американская и французская техника, похоже, вещи несовместимые. Париж сигнализировал о том, что изображение искажено и отсутствует звук. Наконец все наладилось. На Си-эн-эн не ограничились однократным показом страшной гибели старухи, эти кадры крутили каждый час. А в Вене подсчитывали денежные поступления.
Туда я вернулся жарким июльским днем. Город словно вымер. Только на Рингштрассе наблюдалось оживление. Фиакры и автобусы, как обычно, двигались по отведенным им полосам. Я тут же поехал к себе, на Музеумштрассе. Дверь в квартиру оказалась незапертой. Я приоткрыл ее, снова захлопнул и позвонил. Фред не вышел. Но, судя по всему, он жил здесь. В кухне – горы немытой посуды. В комнате – переполненные пепельницы. Пеплом был даже припорошен кое-где паркете запачкан ковер. Мой проигрыватель имел дефект – не мог автоматически отключаться. И продолжавшая крутиться пластинка Боба Дилана каждую секунду отрывисто крякала. Штора валялась на полу за банкеткой. Карниз был выломан из стены. Ванна по самому верху обведена каймой грязи. На кафельном полу – скомканные полотенца. Однако мой кабинет, если не обращать внимания на переставленные в ином порядке книги, выглядел как обычно. А то, что мой компьютер теперь нуждается в замене жесткого диска, я узнал только на следующий день.
Не оставалось ни малейших сомнений – впервые за долгие годы я снова живу вместе с Фредом. Все, что должно было находиться на расстоянии вытянутой руки, он умудрился раскидать по полу. В центре, подобно трофеям, торчали пустые бутылки из-под вина. Ничего не меняя в расположении предметов, я закрыл дверь. Я проветрил квартиру и вымыл посуду. Прошелся пылесосом по полу, опорожнил пепельницы. Затем почистил ванну. И стал ждать. Я долго стоял у окна. Редкие прохожие, которых я мог видеть, направлялись либо к служебному входу в Фолькстеатр, либо шли мимо нашего подъезда к кинотеатру «Беллария». Разморенные парочки с фотоаппаратами двигались в сторону гостиницы «Музеум», мечтая о послеобеденном отдыхе. Я сварил себе кофе. ЕТВ транслировало соревнования на «Большой приз» по боксу из Хоккенгейма. Си-эн-эн занималось саморекламой, предлагая бесконечный перечень отелей, где можно принимать кабельное телевидение. Я решил выпить немного виски. Автоответчик заговорил голосом Габриэлы, изящной брюнетки – ведущей теленовостей, с которой я несколько раз выходил в эфир. Она поздравляла меня с успехом сараевского материала. Я позвонил в студию и поинтересовался рейтингом. Было что отпраздновать. Особый успех передача имела в Германии и Австрии; Не столь сильное, но все же заметное впечатление она произвела на французов и англичан. Во всех странах ее посмотрело огромное число телезрителей.
Я вставил кассету в аппарат и еще раз прокрутил пленку. Когда какой-то из моих фильмов получал такое признание, я не мог удержаться от искушения просмотреть его несколько раз подряд. Это было счастливое состояние. Я мог упиваться им, хвалить самого себя. Но видел при этом все просчеты и упущения. Помню: из закопченной кладки сожженного дома высовывалась длинная, колеблемая ветром антенна, увы, она осталась за кадром. Интересно было бы узнать, кому она принадлежала и каково ее назначение. Очевидно, средства радиосвязи имелись не только у градоначальника.
Фреда я дождался лишь к полуночи. Он был босой и пьяный. Из кармашка футболки торчали сигареты и губная гармошка. Рыжая борода всклокочена. Увидев меня в комнате, Фред рассмеялся:
– The old fart is back. [31]
He могу сказать, что это мне польстило. Я встал и обнял его. Он совсем исхудал. Я обхватил его голову руками и поцеловал в лоб. Лицо напоминало маску из красной вощеной кожи. Глубокие морщины на щеках терялись в гуще запущенной бороды.
– Как ты?
– Сам видишь.
Он поднял руки и бессильно опустил их.
– У тебя действительно все в порядке? Ты справился?
– Я рад, что снова могу курить и пить. Но одно знаю точно: больше никогда ни единой дозы.
Я открыл бутылку «Божоле». Фред махом выпил стакан и налил еще.
– Если бы ты попался мне в первые три недели, – сказал он, – я бы тебя пришил.
Я узнал, что вначале он отказывался от всякой работы и всякой пищи. Он лежал, скрючившись, в своей палатке и чувствовал, как облучение медленно убивает его.
– Джерг не отходил от меня, как бы я его ни посылал. Когда начинались судороги, он массировал мне мышцы. Это ему я обязан тем, что воскрес из мертвых.
Я надеялся, что за это время он хоть в какой-то мере оценит мое участие. Оказалось, что напрасно. Он сказал:
– Ты просто сбагрил меня. Можешь поверить, я чуть не отдал концы.
Я налил ему еще вина. Он положил свои грязные ступни на мою голубую кожаную кушетку. Я старался удержать под спудом свои педагогические идеи. Услужливо подносил ему пепельницу. Но он не стряхивал в нее пепел, как это делал я. Он щелкал указательным пальцем по сигарете, и пепел всегда сыпался мимо.
– Я пригласил Джерга в Вену. Сказал, что ты оплатишь рейс.
– Это не проблема. Он симпатичный парень. Ты видел мой фильм про Сараево?
– Как не видеть. Классная лента, – ответил он и рассмеялся. – Уж не сам ли ты взорвал эту старуху?
Я решил не отвечать.
– Все, кому я называю свою фамилию, спрашивают, не прихожусь ли я тебе родней. Меня это уже заколебало.
Жизнь под одной крышей с Фредом складывалась трудно. Не то чтобы мы уж очень конфликтовали, но мне постоянно приходилось сдерживаться. Он потихоньку начинал приноравливаться к моему распорядку и быту. Например, научился пользоваться вешалкой для полотенец. А после того как вляпался в собачье дерьмо, стал, выходя на улицу, обуваться.
Каждый понедельник приходила прибраться в квартире одна женщина, полька. Но теперь я попросил ее приходить дважды в неделю, потому что только на уборку комнаты Фреда ей требовалось полдня. Как-то раз мне пришлось остаться дома в то время, когда она пылесосила книжную полку в моем кабинете. Она вытаскивала и рассматривала каждую книгу так, будто ее интересует не только степень запыленности. Она то и дело листала английские книги. Я спросил, чем она занималась раньше, когда жила в Польше.
– Actually, I was a pediatrician in a hospital [32]– ответила она на хорошем английском.








