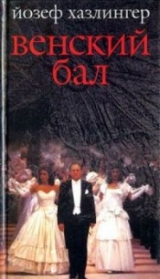
Текст книги "Венский бал"
Автор книги: Хазлингер Йозеф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)
Клаудиа Рёлер, домохозяйка
Пленка 1
Если в пять утра начинал надрываться телефон, значит, звонил мой отец. Была у него такая невозможная манера. Очевидно, раз в несколько дней, и уж по крайней мере раз в неделю, он пробуждался с мыслью обо мне. Не могу сказать, звонил ли он еще кому-то. Моей сестре, во всяком случае, он не звонил. Однажды я не взяла трубку. Тогда он наверстал упущенное после обеда и был явно обижен. Таким глубоко уязвленным я его и представить себе не могла.
Сколько себя я помню, отец ни свет ни заря перебирался в свой кабинет. Никому не дозволялось беспокоить его. Встав с постели, я была вынуждена, как мышка, прошмыгивать мимо его двери. Иногда, заслышав какой-нибудь звук, я останавливалась у двери. Он расхаживал взад и вперед. Под его тяжелыми шагами скрипели половицы, в этом угадывался определенный цикл: от письменного стола к порогу и обратно. Он напоминал тигра в клетке. Мать жестом одергивала меня, как будто я могла потревожить его, стоя под дверью.
– Оставь его в покое, – шептала она. – Он думает.
В ванной пахло одеколоном. Отец каждое утро протирал им лицо. В четверть восьмого, отправляясь в школу, я стучала в его дверь, чтобы напечатлеть прощальный поцелуй. Сам он меня не целовал, только подставлял свои свежевыбритые надушенные щеки; я поочередно касалась их губами. Если при поцелуе не втягивала губы, то, спускаясь по лестнице, чувствовала на них горький привкус.
Когда он позвонил мне во Франкфурт и с утра пораньше сообщил, что хочет пригласить нас на бал в Венской опере, я отбросила всякий политес:
– Не пойдем мы ни на какой бал! Что мы там потеряли? Герберт наверняка будет не в восторге. Да и мне эта идея, честно говоря, не нравится.
Герберт лежал рядом со мной и покачивал головой. Но отец не отступался. Несколько дней спустя, в самом начале рождественских праздников, мы приехали к нему в Берлин с подарками. С тех пор как он остался один, я не раз предлагала ему встретить Сочельник у нас. Он отказывался. Сначала я думала, это из-за Герберта, но он не желал ехать и в Вену к Зигрид, моей сестре.
Впервые мы не взяли с собой обоих наших сыновей. Они вместе с друзьями отправились на Аттерзее, где у нас был дом. Около полудня мы поехали в Берлин, по пути высадив их у Главного вокзала. Отец рассчитывал, что мы приедем с детьми. В комнате Зигрид он положил на кровати два больших пакета для них. Он был разочарован. Раньше он не очень-то заботился о внуках, предоставив это матери. А после ее смерти стал интересоваться ими. Он затевал с детьми долгие беседы. После чего давал мне советы.
Отец не преминул позвонить в ресторан, чтобы заказать столик. Там он, седой как лунь, сидел напротив нас, ухватившись руками за столешницу, и ораторствовал.
Сценарий был неизменен. Сначала он изъявлял желание выслушать нас, узнать, что нового в нашей жизни и каковы наши взаимоотношения. Об этом он спрашивал, не церемонясь. А потом уже говорил только он. Он мог, особенно в подпитии, произносить нескончаемые речи. Правда, бывали моменты, когда отец всерьез опасался наскучить слушателям. Он навис над столом, чтобы дотянуться до наших рук. И при этом сказал:
– Сократ на вопрос: стоит жениться или нет? – якобы ответил так: «Какой бы выбор ты ни сделал, тебе придется раскаяться».
– Не ты ли говорил раньше, что это слова Кьеркегора? – спросила я.
– Он их оприходовал, но изначально изречение приписывается Сократу.
Отец цитировал это сотни раз, даже произнося речь за нашим свадебным столом. И всегда в качестве источника называл Кьеркегора. Вероятно, кто-то раскрыл ему глаза на ошибку.
Потом он опять вдруг заговорил о бале в Опере. Отец рассказывал, что в 1939 году, когда он был молодым доцентом, бал в Опере случайно пришелся на день его рождения – 21 февраля. Он был тогда влюблен в ассистентку кафедры театроведения и пригласил ее на бал.
– И хотя там мозолили глаза свастики на рукавах, – вспоминал он, – и даже пришлось выслушать речи нескольких нацистских шишек, бал все же удался на славу. Твоя мать простит мне, если я скажу, что это была великолепнейшая ночь, это был самый прекрасный день рождения в моей жизни.
Должно быть, он просто боготворил ту девушку. Он продолжал на свой лад мечтать о ней, как будто моя мать, на которой он женился полгода спустя, была для него важна лишь тем, что положила конец его томлениям. В чем заключалась причина его разрыва с ассистенткой – ответа на этот вопрос мы от него так и не добились, несмотря на все наши усилия. В Вене она стала профессором и давно вышла на пенсию – вот и все, что нам удалось узнать.
– Нынешний бал, – сказал отец, – опять случайно совпадает с днем моего рождения.
Герберт коснулся ногой моей ноги и чуть заметно кивнул.
– Хорошо, отец, но боюсь, тебе будет не хватать твоей ассистентки.
– Но в мыслях я буду с ней.
Он снова дотянулся до нас руками и выразил свою благодарность.
– Знаете, я уже настолько стар, что у меня осталось не так много желаний, которые вы можете исполнить.
Добившись нашего согласия, отец пришел в веселое расположение духа. Он заказывал все новые напитки. Затем мы наведались в гостиничный бар. За последние годы я еще не видела в отце такого прилива жизненных сил. Он заказал коньяк и воду. Крепкие напитки он переносил только в том случае, если обильно запивал их водой. Оркестрик в красных ливреях играл что-то тоскливое. Поскольку свободных мест вокруг не было, за наш столик сел еще какой-то мужчина. Отец тут же втянул его в разговор. Это был бывший матрос из бывшей ГДР, который служил теперь агентом страховой фирмы и хорошо зарабатывал. Спрос на страховые услуги был, несомненно, высок. Но наш собеседник все больше говорил о море, рассказывал о суровых нравах и железной дисциплине, царивших на корабле. Отец совершенно неожиданно прервал его репликой:
– Теперь я знаю, что доведу свою книгу до конца!
Вскоре после выхода на пенсию он опубликовал книгу, которая, надо полагать, была прохладно встречена в кругу специалистов. Это было заметно по реакции отца. Он не любил говорить об этом. Отец никогда не говорил о своих неудачах. И тогда у него появилась великая цель – взять реванш за промах. Каждый день ровно в пять утра он садился за письменный стол. Его кабинет ломился от книг. Так уж повелось. Книги закрывали все стены от пола до потолка. Позднее ими стала наполняться и спальня. Помню, как он собирался поставить там первый стеллаж. Мать была против. Какое-то время ей удавалось настаивать на своем – до тех пор, пока для книг уже не осталось места даже в прихожей. Каждый год вызывали столяра, чтобы надстроить стеллаж. Отцу нравился красный цвет книжной мебели. И различные оттенки красного колера выглядели на стеллаже в спальне подобно годовым кольцам. Пять лет назад, после смерти моей матери, кабинет принял иной вид. Прежде его содержали в чистоте и порядке. Всех гостей первым делом вели в кабинет – освежиться аперитивом. Отец всегда умел производить впечатление. Но после смерти матери книжный фонд кабинета настолько разросся, что гостей усадить было некуда. Стол, кресла, все закутки, кушетка, печка на жидком топливе – все было завалено книгами и рукописями, а вскоре их штабеля почти закрыли пол. От письменного стола к двери вел теперь узкий коридор. По нему, как, вероятно, и в прежние времена, отец расхаживал взад и вперед. Наверное, не так быстро и, может быть, стараясь не упустить мысль, которая только что его посетила.
Чтобы дозвониться до него в первой половине дня, надо было звонить ровно в девять. В более раннее время он к телефону не подходил, а позднее отправлялся завтракать в кафе «Эйнштейн». Рано поутру он завтракал дома. Однако после все равно шел в кафе «Эйнштейн», где выпивал еще чашечку кофе. Он говорил, что сохранил эту привычку со времен своей венской жизни. Но мать утверждала, что в Вене он редко посещал кофейни и что в привычку это вошло только в Берлине. Кафе «Эйнштейн» он выбрал не из почтения к знаменитому коллеге, а потому, что оно находилось поблизости от дома, и еще по той причине, как он часто подчеркивал, что там гостей угощали еще и австрийским еженедельником. Мать напоминала ему, что он начал ходить в кафе за несколько лет до того, как еженедельник «Профиль» вообще появился на свет, и не сам ли он добивался расширения печатного ассортимента в кафе за счет австрийского издания. Когда я приезжала в Берлин, мы выбирали местом встречи «Эйнштейн». Мне надлежало подойти позднее, после девяти. Ему было угодно посидеть часок наедине со своими газетами.
Однажды я появилась преждевременно. Я была уверена, что отец заметил меня. Но он и бровью не повел. Я села за другой столик и стала наблюдать за процессом его ознакомления с прессой. Всегда все те же три газеты: «Зюддойче», «Нойе Цюрхер» и «Хералд Трибыон». Он не очень хорошо владел английским, знал его в узкоспециальном объеме, это был английский математических конгрессов. В «Хералд» он вряд ли что читал, кроме заголовков. Больше всего внимания он уделял «Зюддойче», а раз в неделю – и «Профилю». Австрийскими политическими новостями он все еще интересовался больше, чем немецкими, хотя уже тридцать пять лет жил в Берлине. Зигрид, моя сестра, которая вернулась в Вену, вынуждена была часами рассказывать об Австрии. При чтении он надевал массивные роговые очки. Когда они оказывались на столе рядом с кофейной чашкой, это был сигнал, означавший, что я могу к нему подойти. Отец делал вид, что только в эту секунду я попала в его поле зрения, он приобнимал меня и подставлял щеки для поцелуев. После чего становился необычайно щедрым. Каждая встреча с отцом была маленьким праздником. Он неизменно настаивал, чтобы я заказывала как можно больше.
Когда из кафе «Эйнштейн» мы направлялись в большую квартиру, где последние пять лет отец жил один-одинешенек, он часто останавливался на улице, хватая меня за руки. Говорить и идти одновременно он не мог. В последнее время он много мне рассказывал про свои школьные годы, про учителей гимназии «Штубенбастай». Его воспоминания на глазах принимали все более мажорный характер. Раньше его отзывы об учителях были однозначно суровы. Он утверждал, что ребенком оказался во власти кучки тяжелых невротиков и нельзя сказать, что почерпнул там нечто стоящее. Свою гимназию он называл школой оглупления, которая методично калечила наиболее одаренных учеников. И больше всего ему запомнилась школьная тирания. Но потом отец резко изменил свое мнение. И все чаще вспоминал учителей с благодарностью.
Мне показалось, что мы стоим на улице не меньше пяти минут, он держал меня за руку и говорил. В старые времена, когда он еще преподавал математику в Техническом университете, я иногда провожала его на лекцию от самого «Эйнштейна». Это был долгий путь. По городу отец почти всегда ходил пешком. Метро и автобусами старался не пользоваться. Если предстояла дальняя дорога, брал такси. Раньше он двигался очень стремительно. Мне приходилось прилагать усилия, чтобы идти в ногу с ним. Тем труднее было привыкнуть к тому, что он вдруг останавливался на пару слов или с каким-нибудь вопросом. На протяжении многих лет один из них неизменно повторялся:
– Что будет, когда умрет Тито?
Я пыталась успокоить его:
– Да ничего особенного. Они объединятся вокруг нового главы государства, и все пойдет своим чередом.
Похоже, я не убедила его. В ответ он только буркнул что-то. Во время следующей прогулки он опять схватил меня за локоть и спросил:
– Что будет, когда умрет Тито?
Еще тогда, в 70-е годы, его мучили опасения, что после смерти Тито в Югославии начнется разброд народов. А после – он был убежден – в страну войдут русские. Разубедить его было невозможно, во всяком случае мне это не удавалось.
Выпадали дни, когда его лекция начиналась в девять утра и у него не было времени сидеть в «Эйнштейне». Тогда он покупал газеты. А поскольку днем отец не находил для них свободной минуты, он укладывал их в стопки возле письменного стола. Мать не решалась выбросить газеты, так как он уверял, что просмотрит их позднее. Мать старалась контролировать прирост этих кип, время от времени она извлекала самый нижний пласт и отправляла его в мусорный ящик.
На второй день рождественских праздников по дороге домой, во Франкфурт-на-Майне, мы поразмыслили над странным желанием отца.
– Может, он надеется, – предположил Герберт, – что там появится и отставная профессорша-театроведка. А возможно, они даже втайне договорились о встрече. Кто знает, а вдруг он все эти годы встречался с ней, когда ездил на конгрессы в Вену.
Я подумала о том, что конгрессы в Вене он предпочитал всем другим. Так мне вдруг показалось. Но ведь вполне вероятно, что его тянуло туда по другой причине – там жила его дочь, моя сестра. Отец всегда, так сказать, темнил. Я не раз встречала его на улице с женщиной. Он видел только то, что у него прямо перед глазами, иначе просто никого не замечал. Отец всегда был настолько погружен в собственный мир, что не видел даже то, что бросалось в глаза. Многие вещи ему открывали газеты. В начале 80-х, когда был построен Ипотечный банк, разгорелась дискуссия по вопросам архитектуры. Один из критиков назвал здание банка бункером в фашистском вкусе. Отцу захотелось взглянуть на это сооружение. Я сказала тогда: «Ты же каждый день мимо него ходишь».
Однажды, увидев его с женщиной, я пошла вслед за ними. Временами он останавливался точно так же, как на прогулках со мной. И опять-таки держал ее за руку, когда говорил. Я не выпускала их из виду, пока они не исчезли за дверями какого-то ресторана. У отца было два круга друзей. В одном из них чувствовала себя своей и моя мать, о втором же она ничего не знала, а он никогда не рассказывал.
Вскоре после Рождества телефон снова разбудил нас в пять утра. Отец сказал, что заказал два номера в отеле «Империал».
– А почему бы и на этот раз не остановиться у Зигрид? Места хватит на всех.
– В моем возрасте, – ответил отец, – нельзя исключать, что этот бал окажется последним. Поэтому я выбрал «Империал». Но лучше, если я буду знать, что вы живете в соседнем номере.
– История приобретает остросюжетный характер, – сказал Герберт. – Придется идти к Эрве Леже, тебе же нужно соответствующее платье.
– У тебя начинаются заскоки?
Мы отправились к Эрве Леже. Герберт работает в рекламном агентстве. Он хорошо зарабатывает. Но это было самое дорогое платье из всех, которые я когда-либо покупала. Абрикосового цвета, в обтяжку, но до самых каблуков, с разрезом чуть ли не от талии и глубоким декольте. Когда я его надела, трудно было различить, где моя кожа, а где материя.
– Это платье для вечерней тусовки в баре, а не для бала в Опере, – заметила я.
– Броско и бесстыдно, – сказал Герберт. – Так мы и заявимся на бал вместе с твоим отцом.
– И ты думаешь, нас впустят?
– А мы скажем, что я князь Гогенлоэ, а ты графиня Тютю.
В начале года нам вдруг пришлось задуматься, сумеем ли мы вообще пойти на бал. Отец позвонил еще раз. Во Франкфурте-на-Майне был показан гастрольный спектакль венского Бургтеатра по пьесе Томаса Бернхарда «Площадь Героев». Отец непременно хотел его посмотреть. Он был страстным театралом. Хотя современные пьесы редко приходились ему по душе. Томас Бернхард заинтересовал его только после появления пьесы «Площадь Героев», постановку которой в Берлине он не видел. Заинтригованный газетной статьей, он купил книгу с текстом пьесы и начал вовлекать Зигрид в бесконечные разговоры. Зигрид была разочарована венской инсценировкой. А отец считал, что Бернхард точно описал ту страну, которую он знал.
Я собиралась сесть в машину и встретить его на вокзале, поэтому Герберт поехал на работу поездом городской железной дороги. Мы живем в Эшборне, за чертой Франкфурта. Я не хотела, чтобы отцу пришлось одолевать лестницы всяких переходов. К сожалению, в тот день произошла автомобильная катастрофа, и я застряла в пробке. К вокзалу подъехала минуту в минуту, но не могла найти места для парковки. У нас с этим туго, как ни на одном вокзале в мире. Тогда я просто приткнула машину к южному входу, рискуя тем, что, пока я хожу, ее отбуксируют. Платформа постепенно пустела. Отца нигде не было видно. Я шла вдоль вагонов. Не найдя его, я побежала назад, к кассовому залу. Наш вокзал уникален еще и тем, что не дает возможности нормального обзора. Неужели мы разминулись? А если так, то куда направился отец? К северному выходу, к южному? Или пошел через кассовый зал? У пиццерии в конце платформы стояла машина «скорой помощи», рядом топталось несколько человек. Взгляды были направлены на два локомотива, стоявших на соседних путях. Между ними маячил врач, он поднялся на платформу. За ним – два санитара с носилками. На них лежал мой отец.
Он вышел не с той стороны вагона. Дверь должна была быть на запоре. Но оказалась незапертой. Отец упал на щебеночную насыпь и сломал правое бедро. Его доставили в университетскую клинику. Я бывала там каждый день. Поначалу это радовало его, а потом мое присутствие стало ему в тягость. Он стыдился своей оплошности.
– Надо предъявить иск железной дороге, – сказал он. – За то, что открыли не ту дверь.
– Герберт позаботится об этом, – ответила я.
Муж действительно что-то написал. Но вскоре мы усомнились в целесообразности жалобы.
– Здесь не Америка, – рассуждал Герберт. – Жалобой мы, возможно, добьемся увольнения какого-нибудь служащего, но твой отец от этого не разбогатеет.
Однако клиника уже поставила в известность полицию. Началось расследование. Чем оно закончилось, мы так и не узнали – отец отказался от всяких претензий. Мне кажется, он боялся предстать перед судом старым бестолковым неудачником.
Отец хотел выписаться, но его не отпускали, монтируя это тем, что у него не все в порядке с кровью. Во время одного из посещений главный врач предложил мне через час зайти, чтобы исполнить кое-какие формальности, связанные с выпиской, и пояснил, что на днях господина профессора можно будет забрать домой.
– Кому тогда нужны отделения для выздоравливающих? – спросил позднее отец.
– Ты – совсем особый пациент, – ответила я.
Главный врач сообщил мне, что у отца рак. Весь организм в метастазах. Ввиду преклонного возраста и того обстоятельства, что он не особенно страдает, лечение, по мнению врача, вряд ли имеет смысл.
– Есть старики, – сказал он, – которые живут со своим раком еще многие годы и умирают зачастую вовсе не от него.
Я опустилась на стул. Врач сел рядом и прочитал мне длинное письмо, адресованное университетской клинике Берлина. Специальные выражения он переводил на общепонятный язык. Потом спросил, как ему поступить с письмом: отдать его мне или послать самому? Я взяла письмо. Главврач положил мне руку на плечо.
– Это может длиться долго, – сказал он.
Через два дня отца на больничном транспорте доставили в Эшборн. Мы поместили его в гостиной. Он лежал в гипсе. В туалет его приходилось носить на руках. Пользоваться судном он отказывался. Я взяла напрокат инвалидную коляску, но она оказалась в данном случае непригодной. Сестра сообщила о своей готовности приехать во Франкфурт. Отец был против. Он не хотел, чтобы с ним возилась вся семья. Тим, мой старший сын – он изучает экономику производства, – организовал свой день так, что имел возможность помогать мне. Он переносил отца, а я поддерживала загипсованную ногу.
И хотя мы изо всех сил старались угодить больному, его недовольство росло с каждым днем. Он хотел вернуться в Берлин.
– Это невозможно, – не соглашалась я. – Один ты будешь беспомощен.
Возразить на это было трудно. Я догадывалась, что если ему здесь чего-то не хватает, так это – работы, и предложила свой вариант: мы привезем из Берлина хотя бы небольшую часть книг и рукописей.
– Мне нужно все, – ответил он. – Все, что стоит на полках и разложено по кабинету. Но перевозка чревата такой неразберихой, что мне жизни не хватит расставить потом все по своим местам.
В самую рань, еще до утреннего туалета отца, я выехала в Берлин. С отцом остался Тим. Я купила пачку красной копировальной бумага. Отперев дверь, я вдохнула запах своего детства. Запах, которого нет нигде, кроме нашей квартиры. Я обошла ее всю, комнату за комнатой. И вдруг не удержалась и заплакала. Заползла под рояль и заревела. В детстве, когда у меня был день рождения, мы устраивали здесь игры. Отец покупал уйму карамели. Он рассыпал ее по полу. После этого я должна была выйти из комнаты. Отец договаривался с другими детьми, какая конфетка будет выигрышной. Я входила и собирала конфетки, пока не добиралась до той самой. И тут все хором кричали: «Мышка!» Тогда наступала очередь другого ребенка. Однажды они закричали, когда я притронулась Ко второй по счету, то есть мне больше ничего не доставалось. Я заползла под рояль и заплакала. Хотя точно знала, что на следующий день отец отдаст мне все оставшиеся конфеты. Я в тот день так развылась, что пришлось закончить праздник раньше времени. В общем, вспоминая это, я ревела в унисон с той девочкой, которой когда-то была. А потом вдруг рассмеялась. В ванной я вытерла слезы бумажными носовыми платками отца, подкрасила тушью ресницы и подрисовала помадой губы.
В кабинете я первым делом составила на бумаге точный план расположения книг и рукописей. Пронумеровала позиции от первой до пятьдесят шестой. Потом собрала рукописи, начав с первого пункта. При этом не нарушала порядок в стопках. В книги, которые были раскрыты, вставляла закладки. Каждую стопку я пометила листочком красной бумаги с номером места расположения. За несколько часов было заполнено несколько чемоданов. Иногда отец писал статьи на английском, они почти сплошь состояли из формул. Он снимал с них бесчисленные копии, которые рассылал во все концы света. Копировальные аппараты в то время еще не могли выполнять сортировочных операций. Систематизируя копии, отец раскладывал их рядком на полу. Потом собирал и каждый манускрипт, прежде чем вложить в конверт, снабжал своего рода посвящением. Однажды, когда я собиралась в Вену к Зигрид, он вручил мне статью для передачи своем коллеге. Б верхнем углу от руки крупными буквами было написано: «Моему дорогому другу и высокочтимому коллеге Хофманну-Остерхофу как скромный знак памяти о днях, проведенных вместе».
С посвящениями он всегда перебарщивал. То же самое можно сказать и о записях, которые он оставлял во всякого рода книгах отзывов. Отец всегда делал это размашисто во всех отношениях.
Из опасения, что рукописи могут перемешаться, я не рискнула ставить чемоданы вертикально. Вызвав привратника, я заплатила ему двадцать марок. Он помог перенести чемоданы в машину.
Еще ночью мы освободили для отцовских сокровищ комнату Герберта. Она примыкает к гостиной. Герберту не достался уголок в гостиной. Сначала он, мягко говоря, был удивлен, но в конце концов согласился и стал помогать мне. Все равно в последнее время он редко работал дома. Обстановку его комнаты я пополнила несколькими стульями и табуретками. Затем разложила книги и рукописи точно в таком же порядке, в каком они располагались до переезда во Франкфурт. Идти спать уже не имело смысла. В пять утра я нанесла отцу визит с чашечкой кофе и открыла дверь в комнату Герберта. Поначалу отец будто лишился дара речи, а потом пробормотал нечто странное:
– Ты рождена быть женой исследователя.
Спустя время ему сделали новую гипсовую повязку, дававшую возможность ходить хотя бы по квартире, и он смог пользоваться новообретенным кабинетом.
В те дни он сказал, что в жилах Тима течет кровь театрала. Если уж он не расстанется со своей экономикой, то пусть хоть пытается стать коммерческим директором Бургтеатра. Метить ниже ему непозволительно.
Освоившись с новой повязкой, он в самую рань ковылял, опираясь на костыли, в смежную комнату, и я вспоминала детские годы. Даже Герберта я пускала в его же комнату скрепя сердце, только когда ему надо было взять из шкафа какую-нибудь книгу для работы. Однажды отец позвонил мне в пять утра: в кабинете Герберта был телефонный аппарат с собственным номером. Отец сказал:
– Мы все-таки пойдем на бал в Оперу.
Предощущение радостного события ускорило процесс выздоровления. Восемнадцатого февраля сняли гипс. После этого он не мог ходить даже на костылях. Но отец упорно упражнялся. Двадцатого он объявил за завтраком, что уезжает в Берлин, а на следующий день улетит в Вену. Мы, естественно, сочли это абсурдом. Выяснилось, что для него сейчас самое главное – в спокойной обстановке выбрать соответствующий костюм из своего гардероба. Я отвезла его в Берлин на машине и помогла подняться в квартиру. Попросила отца не торопиться, сказала, что пока где-нибудь погуляю и буду ждать его звонка в кафе «Эйнштейн». Хоть до самого вечера, ничего страшного, возьму с собой книгу, которую давно собиралась прочитать. Когда я вошла в «Эйнштейн», там уже сидел отец и читал газеты.
– Выбирать нечего, – сообщил он. – У меня и так только один фрак для подобного случая. А сорочку я купил.
Он протянул мне фирменную сумку мужского бутика на Брайтшайдплац, и я восхитилась его новой рубашкой. Потом он встал и направился в туалет. Сделав несколько шагов, он начал хвататься за все, до чего дотягивались руки. Но продолжал идти.








