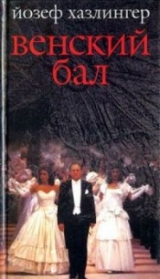
Текст книги "Венский бал"
Автор книги: Хазлингер Йозеф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
Инженер
Пленка 8
На стройплощадке произошли новые стычки с инородцами. Бригадир колотил их почем зря. Похоже, он совсем забыл о своем намерении не привлекать к себе внимания. Ночью я спросил Нижайшего,как нам быть. Он сказал:
– Муравейник не уничтожишь булавкой, накалывая на нее каждую букашку. Армагеддон не имеет ничего общего с драками. Армагеддон неизмеримо выше.
На следующий день я старался объяснить Бригадиру, насколько неразумно размениваться на мелочи. Пустая трата сил. После Армагеддона эти насекомые подохнут сами собой.
Ах да, я же хотел рассказать о наказании Файльбёка. Вы знаете башню под названием Юбилеумсварте? Каждый ее знает. Излюбленное место туристского паломничества. Это над Оттакрингом, на краю Венского леса. По воскресеньям после обеда туда ползут процессии экскурсантов, аж на ноги друг другу наступают. Но к вечеру автостоянка пустеет и ресторан уже закрыт. Примерно в получасе ходьбы от башни, в стороне от туристской тропы, я набрел на просеку, полосу сплошной вырубки со множеством пней. Самое подходящее место для причастия. Мы не могли сесть так, чтобы получился правильный круг по нашему обычаю, но в общем расположились мы все же по кругу. Одной стороной просека примыкала к густому лесу, за которым не было видно города, а другой – к кромке обрыва. Тут открывался вид на Эксельберг и Софийский луг. Над ними красноватым венцом парили облака. За обрывом, в долине, пролегала дорога.
Как я и ожидал, Файльбёк пришел, хотя на сей раз цепочка оповещения начиналась не с него. Он сел на пенек и усмехнулся.
Нижайший– лицом к закату, он встал и выждал, пока Файльбёк не сотрет ухмылку со своей физиономии.
– Армагеддон, – начал Нижайший, – свершится через девять месяцев. Весь мир станет свидетелем, как одним ударом будут открыты врата иной эры. И так же, как сейчас говорят: до или после Второй мировой войны, люди будут говорить: до или после Армагеддона. Семеро простых добросовестных работяг, один студент и один бездельник избраны для того, чтобы показать: возможно все, если на то есть у человека воля и если Провидение на его стороне.
Нижайшийобогнул свой пенек и встал на него, преклонив колени. Он закрыл лицо руками и замер. Со всех сторон доносились птичьи голоса, иногда шелестела листва на деревьях, где-то в лесу скрипнул сук. За обрывом, в лощине, то и дело раздавался шум моторов. Когда Нижайшийоткрыл лицо, мы увидели – оно все в слезах. Под глазами и у переносицы, где при пластической операции надрезали кожу, выступили красные пятна. Он неподвижно смотрел вдаль и плакал.
Потом он сказал:
– Мы слабы. И все же Провидение сделало нас своим орудием. Поэтому мы не имеем права на слабость. Провидение сурово. Оно беспощадно карает ЮС, кто не хочет ему покориться. Но оно же и милосердно. Всем, кто способен уразуметь его волю, оно дает последний шанс. Файльбёк, мы должны наказать тебя, но мы не хотим тебя терять.
Файльбёк, безусловно, отдавал себе отчет в том, что его действия станут предметом обсуждения. Но он был явно обескуражен тем, как скоро наступил час расплаты. Он встал:
– Я хочу вам кое-что сказать. «Стройбат» уже знает о чем. Я не согласен с тактикой. Мы должны вести пропаганду. Мы должны сегодня действовать так, чтобы завтра нас чествовали как спасителей.
Нижайший прервал его:
– Чего ты хочешь? Почестей или исполнения задачи, для чего ты избран и чему поклялся служить?
– И того и другого, – ответил Файльбёк.
Нижайшийвсе еще стоял на коленях. Он смотрел на облака, которые громоздились над Эксельбергом и Софийским лугом и уже утратили красноватую окраску. Затем он сказал:
– Только сделав всё, мы всё и получим. Тот, кто озабочен собой, не достоин решающей битвы.
Когда он произносил эти слова, лес зашумел и, будто по воле Нижайшего, набежал ветер, взметнув волосы на его голове. Он повернулся к Файльбёку.
– Не мы принимаем решение о твоем наказании – так решено Провидением. От тех, кто ему служит, оно требует железной дисциплины. Если мы дрогнем сейчас, мы окажемся слабыми и в будущем.
Нижайшийподнялся и подошел к дереву на краю просеки. Он ударился лбом о кору, затем еще я еще раз, пока лицо не залила кровь. После этого он вернулся в наш круг и спросил:
– Файльбёк невиновен?
Все молчали. Губы Нижайшегобыли в крови, он слизнул ее и вновь спросил:
– Файльбёк невиновен?
Пузырь ответил:
– Весь «стройбат» виновен. Мы соучастники.
Нижайшийне принял этот ответ.
– Спрашиваю в третий раз: виновен Файльбёк или нет?
– Виновен, – один за другим подтвердили мы.
Нижайшийподошел ко мне и протянул руку. Я открыл спортивную сумку и вынул топор. Он стиснул пальцами рукоятку и направился к Файльбёку.
– Верни нам палец! – сказал Нижайший. – Ты должен вновь заслужить его.
Файльбёк растерянно рассмеялся. Разумеется, он прекрасно понимал, что имелось в виду, но не хотел в это поверить.
– Тут какое-то недоразумение. Я вам все объясню. Вы не можете так поступить со мной. Мы же старые друзья.
Нижайшийдержал перед ним топор, вперед рукояткой, и ждал. Затем сказал:
– Давай. Отруби себе палец. Иначе это придется сделать нам.
– Вы с ума посходили! – закричал Файльбёк.
– Держите его! – приказал Нижайший.
Файльбёк попытался схватить топор, но Нижайшийбыстро отвел руку. Мы накинулись на Файльбёка. Он отбивался изо всех сил. Его опрокинули. Нижайшийпередал мне топор. Ребятам не удавалось как следует прижать руку Файльбёка к коряге. Он ухитрялся вертеть ею. Бригадир оттянул ему мизинец. Тут первый раз хрустнуло. Я хотел пару раз тюкнуть топором. Но рука продолжала елозить. Я мог попасть по рукам ребят. Поэтому я отбросил топор, крепко ухватился за палец Файльбёка и рывком вывернул его. Хрустнуло еще раз, и мизинец был уже на отлете. Файльбёк издал жуткий крик. Я рванул палец на себя. Но кожа и сухожилия, как я ни старался, не давали отделить его. Тогда я вытащил из сумки складной нож, чтобы перерезать сухожилия. Я думал, что это можно сделать одним махом, но все оказалось не так просто: тело Файльбёка содрогалось от вскриков, а рука беспрестанно дергалась. Я попадал лезвием то в одно, то в другое место, пытаясь оторвать палец. Все было перепачкано кровью, и наконец я рассек сухожилия.
С теплым окровавленным пальцем я шагнул к своей сумке. Когда раскрыл ладонь и посмотрел на отсеченный палец, меня чуть не вырвало. Файльбёк перестал кричать. Он хватал ртом воздух и стонал. Я отложил палец и вынул из сумки бинт, йод и иналгон, который Файльбёк когда-то принес мне. Из раны на его ладони выглядывала косточка.
– Давай дальше, – наседал Панда.
Когда я капнул йодом на рану, Файльбёк снова начал кричать. Я прикрыл кожей обнаженную кость и наложил тугую повязку, как меня учили в армии. Нижайшийприсел рядом с Файльбёком, погладил его по щеке и влил ему в рот капли иналгона.
– Все позади, – сказал он.
Спустя время, когда Файльбёк немного отошел и начал разглядывать свою руку, Нижайшийзаверил его:
– Если хочешь, можешь уехать. Мы сняли для тебя дом. Можешь жить там до окончания Армагеддона. Но и к нам дорога тебе не закрыта.
Я сунул в карман куртки Файльбёка бумажку с адресом и описанием маршрута.
Тем временем поднялся сильный ветер. Небо заволакивали темные тучи. Надо было уходить. Не успели мы пройти и полпути к автостоянке, как хлынул дождь. Я накрыл ладонь Файльбёка целлофановым пакетом и забинтовал руку до локтя. Потом подставил свои ладони под дождь, чтобы смыть кровь. Туристской тропы еще не было видно. Файльбёку стало плохо. Он сел на землю. Мы помогли ему подняться и двинулись вперед. Когда вышли из леса, показались слабые огоньки фонарей у парковки. Мы промокли до нитки. Я сполоснул ладонь в луже. На других тоже была кровь. Бригадир, Панда и я отвезли Файльбёка домой на его машине. По дороге никто не проронил ни слова. Я чувствовал себя опустошенным, но не несчастным. Он сам так хотел, рассудил я. И еще подумал: это еще больше сплотит нас.
Мое задание еще не было выполнено до конца. Поднявшись к себе в мансарду, я положил отрезанный палец в мойку. Сумка была запачкана кровью. Я вымыл ее. Промыл и топор, хотя и не пользовался им. Потом встал под душ и тут же весь мокрый выскочил из ванной, чтобы принести палец. Это был кусочек Файльбёка. Почему бы ему тоже не принять душ?
У меня было ощущение, будто я споласкиваю куриную ножку, только совсем щупленькую. На дне душевой ванны появилась красноватая слизь. Я оттянул на мизинце кожу, показался костный шпенек. Я заткнул пяткой сливное отверстие, чтобы набралось немного воды. Взял палец за кончик и начал купать его. Всплыли какие-то кровяные сгустки. Я положил палец в мыльницу. Вытерся полотенцем и надел свежее белье. За письменным столом я обработал ноготь мизинца маникюрной пилкой. При этом на срезе выступили капельки какой-то желтоватой жидкости.
Хотелось понять, что это такое. Я снова задрал кожу. Промыв палец еще раз, я прихватил его бумажной салфеткой и опустил в морозильную сумочку, затем свернул ее, сунул в карман брюк и с этим маленьким грузом отправился на Карлсплац.
Это было часа в два ночи, если не позже. У кафе «Музеум» я спустился в переход. Там не было камеры наблюдения. Поэтому Нижайшийи выбирал для своих проповедей эту часть пассажа. Я незаметно вытряхнул палец из сумки и отправился домой. После трехчасового сна поехал на стройплощадку. Надо было опередить столяров, чтобы незаметно вернуть топор на прежнее место.
Клаудиа Рёлер, домохозяйка
Пленка 2
С самого начала все как-то не заладилось. К билетам в Оперу прилагалось уведомление о том, что нас просят прибыть на бал заблаговременно, не менее чем за два часа до начала, ввиду планируемых определенными группами демонстраций и возникающих в связи с этим возможных проблем. В четыре часа дня наш самолет с небольшим опозданием приземлился в аэропорту Швехат. Зигрид встречала нас. Ее обеспокоило самочувствие отца. Он передвигался на костылях, чтобы сберечь силы для вечернего праздника. Отец приглашал в Оперу и Зигрид. Она, как и мы вначале, отказалась, но, в отличие от нас, не изменила своего решения. Отец – рядом с ней на переднем сиденье. Ему пришлось описать ей весь процесс выздоровления. Зигрид вновь и вновь интересовалась подробностями, будто не доверяла моим бесчисленным телефонным сообщениям. Она советовала отцу обратиться к таким-то и таким-то врачам, которые, по ее словам, были уже в курсе дела. Я не сомневаюсь, что она неделями только врачам и звонила. Еще в Берлине она готова была показать отца целой плеяде медицинских светил. Отец сказал ей: «Ты поступаешь так, будто меня может спасти только сборная команда элитных эскулапов. Со мной все в порядке. Нога почти зажила».
Когда мы торчали в пробке на Шюттельштрассе, возле «Урании», Зигрид настаивала на том, чтобы, не заезжая в отель «Империал», мы ненадолго заглянули на Таборштрассе. Она договорилась о встрече с профессором Пойгенфюрстом, главным врачом клиники Лоренца Бёлера, лучшим в Вене хирургом «скорой помощи».
– Это дело нескольких минут, – сказала она. – Ему пересланы берлинские врачебные заключения. Он лишь посмотрит ногу.
Отец отказался.
– Завтра, после обеда, – решил он. – Только не сегодня.
В зеркале заднего вида я видела глаза Зигрид. Мне казалось, это глаза моей матери. Те же морщинки вокруг, те же длинные ресницы. Вскоре после смерти матери Зигрид поседела. Именно тогда перестала красить волосы. Наконец она стала коротко стричься, и получилась, хотя Зигрид всегда оспаривала это, прическа моей матери. Седая голова, которую я видела перед собой, то и дело поворачивалась направо. Несколько раз Зигрид пришлось резко тормозить. Отец сказал:
– Я хочу еще пожить Ты лучше смотри не. на меня, а на дорогу.
Я поймала взгляд Зигрид. Ее ум служил матери поводом для упреков в мой адрес. Унаследованные от отца способности и собственное усердие обеспечили Зигрид, без всякой протекции, хорошую работу в венском Фонде Нильса Бора. Это учреждение финансируется международными концернами и поддерживает проекты фундаментальных исследований в области физики и математики. Задача Зигрид – находить экспертов, которые могут отобрать из всех предложенных проектов те, что заслуживают поощрения. Только она в нашей семье способна понимать научные работы отца. У нее была скромная мечта добиться когда-нибудь финансирования для одного из отцовских проектов. Но отец отказывался подавать их. Он говорил: «Я довольствуюсь казенным пайком».
Зигрид чего-то достигла, а я всего лишь вышла замуж. В нашей первой франкфуртской квартире на Вольфгангсштрассе Зигрид с отцом вели научные беседы, а я возилась со льдом на кухне. В два часа ночи, когда все мы были уже пьяненькие, я стелила в комнате еще две постели, а отец шел к окну и смотрел на штаб-квартиру американских войск; раньше в этом здании находилось управление концерна «Фарбенин-дустри». Зигрид помогала мне стелить. А отец, стоя у окна, задумчиво произнес:
– У тебя собираться – просто прелесть. Но террористу лучше этой квартиры не найти.
С тех пор каждого нового жильца нашего дома я стала приглашать на кофе, чтобы поинтересоваться, как и чем он живет.
Мы все еще не могли доехать до отеля. А ведь в моей памяти Вена была городом, где автомобиль чуть ли не скоростное транспортное средство. Но пробка не вызывала у меня досады. Я была рада снова видеть Рингштрассе. И отец об этом всегда мечтал.
– Без Рингштрассе город не имеет центра, – сказал отец.
Когда я навещала сестру, которая жила в нашей старой квартире неподалеку от Рингштрассе, меня, как только я выходила из дома, так и тянуло пересечь эту улицу. После чего у меня возникало ощущение, что я действительно в Вене. Едва мы завидели Луэгерплац и памятник Луэгеру, отец бросил реплику:
– Они все еще гордятся своими антисемитами.
Он объяснил Герберту, что университет находится на том отрезке центрального кольца, который именуется Луэгеррингом. Иностранные коллеги, дабы продемонстрировать хорошее знание немецкого, часто пишут на почтовом конверте: «Люгерринг» и, сами того не ведая, попадают в точку, ведь это можно истолковать и как «банда лжецов». От Луэгерплац до отеля «Империал» было уже рукой подать.
– Ваши апартаменты на шестом этаже, – сказал администратор. – Извините, что не могу проводить вас. Вам поможет porteur de bagage.
Porteur de bagage. Звучало импозантно. В своей голубой униформе, в кителе с золотыми кистями и эполетами, в брюках с золотыми лампасами и в фуражке со сверкающей золотом надписью Империал,низкорослый уроженец южных широт, который нес наши чемоданы, выглядел так, будто только что покинул костюмерную какой-нибудь киностудии.
У всех у нас были свои апартаменты, или номера, как их упорно называл отец, состоявшие из прихожей, гостиной, спальни и ванной. Из окон открывался вид на «Мюзикферайн» и верхние этажи Технического университета. А внутри все блистало позолотой: стулья, столы, обои.
Отец с Гербертом решили заглянуть в гостиничный бар. А меня потянуло на Кертнерштрассе. Было очень холодно. Зеленые крыши мерцали отсветами вечерней зари. Вдоль правой стороны Оперы, у въезда в подземный гараж, стояло пять грузовиков технической службы ЕТВ. На двух из них – французские номера. Позади серебрилась мачта, по которой взбирались толстые разноцветные шнуры кабеля; они, провисая тяжелой связкой, тянулись от верхушки мачты к одному из открытых окон над аркадой. Я наблюдала за деловитой суетой техников, они бегали со своими маленькими рациями и лопотали какую-то абракадабру вроде: «Звук от камеры четыре на внешнее реле два. Кассету один через микшерный пульт. Смотри схему включения, не синий, а желтый. Эх ты, темнота».
На Кертнерштрассе мне пришло в голову, что, по существу, я должна бы платить за присутствие на этом роскошном дефиле.
Казалось, здесь демонстрируются меха со всего света. Не дойдя до середины улицы, возле казино, я столкнулась с группой юнцов. Они потягивали пиво и явно задирали прохожих. При попытке обойти их они проделывали соответствующий маневр, чтобы снова помешать вам, и надо было еще сообразить, как быть дальше. Я решила пойти в обход, свернув на Аннагассе, и тут у меня перед носом оказалась пивная банка.
– Хочешь выпить? – прицепился ко мне какой-то хулиганишка. Плохо выбритое лицо от алкоголя и холода пылало кирпичной краснотой. Волосы стрижены неровно. От него несло пивом.
– Благодарю, – сказала я, отступая.
– Ну глоток.
– Благодарю, не стоит.
– Нет, ты все же прими.
Не успела я опомниться, как он обдал меня струей пива.
Я побежала вниз по Аннагассе, а он вернулся к своим приятелям. Мое светлое пальто покрылось бурыми пятнами. Я попыталась очистить его платком, но ничего не вышло. Вернувшись в отель, я почувствовала, что меня бьет дрожь. Герберт отнес пальто вниз, сдать в химчистку. Отец старался успокоить меня.
– Теперь это сплошь и рядом. Самое разумное – поскорее забыть.
Он заказал для меня бокал шампанского.
– Все хорошие дела начинаются с неудачи.
Когда принесли мой бокал, он чокнулся со мной и сказал:
– За наш вечер.
– И за любовь твоей юности, – ответила я, тут же пожалев, что ляпнула это. Но отец, похоже, не слышал. Его все еще тревожило мое состояние.
– Я тебе рассказывал, что меня ограбили в Берлине?
– Разве тебя ограбили?
– Да, минувшим летом. На площади возле церкви. Я смотрел представление с циркачами на велосипедах. Чего они только не выделывали! Представляешь, стойка на руках или езда на одном колесе. И тут подходят ко мне девчушки лет десяти, не старше. Показывают клочок серого картона, а на нем с ошибками в каждом слове написано, что они только что приехали с матерью из Румынии и у них ни гроша. Да еще мать заболела. Я достал кошелек и не успел открыть, как они его вырвали – и наутек. Там было много денег вкупе с чеками и кредитными картами. Восстановить эти бумаги – страшно тягомотная процедура. А денежки, конечно, плакали. Тогда я понял, что детская преступность снова стала реальностью. Как и здесь, в Вене, в сорок пятом году. Вот наконец и до меня добрались воришки.
Герберту удалось сдать пальто в чистку. В восемь часов его принесли в номер. Отец позвонил и пригласил к себе на аперитив. Он был при полном параде, на манжетах сверкали старые золотые запонки. Костыли он убрал с глаз долой.
– Спасибо, что все-таки приняли мое приглашение, – сказал он.
С Карлсплац то и дело доносилось завывание полицейских сирен. Я открыла окно. На Бёзендорфштрассе от «Мюзикферайна» к Дому искусств тянулась вереница полицейских автобусов, их было по меньшей мере два десятка.
– Лучше выйти пораньше, – рассудил отец. – Чтобы не попасть в столпотворение.
На Рингштрассе, пройдя через полицейский кордон, мы направились в сторону Оперы. Мы, держа отца под руки, медленно продвигались к театру и посматривали на лица полицейских. Большинство из них – совсем юноши. Некоторые приветствовали нас. Я обратила внимание, что многие для солидности отпустили усы. Вид у них был довольно суровый. Стойка картинная – с широко расставленными ногами. Переговаривались лишь изредка. А мы не могли понять, от кого они нас охраняют. Вокруг никаких нарушителей общественного спокойствия. Только на Карлсплац по-прежнему завывали сирены. Такая концентрация полицейского контингента внушала тревогу, чувство затаившейся рядом опасности. Но откуда она исходила? От кого?
Выйдя на Кертнерштрассе, мы, естественно, не могли спуститься с отцом в подземный переход и продолжили путь по Рингштрассе. Каждые три минуты полиция задерживала дорожное движение, чтобы дать возможность перейти дорогу гостям бала. Проход к Карлсплац. был вообще перекрыт, о чем свидетельствовали высокие решетчатые заграждения, водометы и целый парк полицейских машин.
– Тут у вас прямо как на войне, – сказал отец одному из полицейских.
– Ничего страшного, – ответил тот. – Все пройдет тихо-мирно. Простые меры предосторожности.
Через несколько минут, уже в вестибюле, я держала в руках дамский подарочный набор – плетеную корзинку, содержимое которой я исследовала, пока мы топтались у гардероба. Я обнаружила дюжину флакончиков с духами, пробные упаковочки деликатесов, кожаную закладку для книг, сигареты и маленькую бутылочку шампанского. Все это венчалось букетиком в бидермейеровском вкусе. Каждый предмет, кроме закладки и сигарет, – в миниатюрном исполнении. Мужчины получили жетоны для театрального казино, карманные календари в черном кожаном переплете и опять-таки сигареты, правда более крепкие. В вестибюле был размещен целый арсенал телекамер и со всех сторон в глаза били прожекторы. Когда Герберт принял у меня пальто, мне показалось, что камеры обратились в мою сторону.
– Нами уже интересуются. Как всегда, назойливо и беззастенчиво, – заметил Герберт.
Из-за обилия прибывающих гостей на широкой лестнице возникла заминка. Я настолько успела привыкнуть к свету множества прожекторов, что могла уже разглядеть своды и арочные проемы со всеми их замысловатыми пересечениями, фрески и золотую лепнину на стенах. Все это производило впечатление торжественной значительности, которое портила толчея на лестнице, где люди тыкались в спины друг другу. Перед нами поднимался мужчина, который все время озирался, периодически повторяя: «Обалденно!» Мы вновь встали так, чтобы отец шел в середине. Его левая нога всегда на ступень опережала правую.
Женщина рядом со мной держала в руке букет красных фрезий, словно шла к алтарю на венчание. На какой-то миг меня прижало к ней натиском толпы, которой пришлось расступиться перед двумя мужчинами с камерой и микрофоном. Мы обе в один голос воскликнули: «Прошу прощения!» – и рассмеялись, осознав комизм ситуации. Женщина сказала, что ее дочь будет впервые танцевать на балу. И она, мать, непонятно почему испытывает то же волнение, что и двадцать три года назад, когда она сама была дебютанткой.
– Нет, – возразил ее спутник, прижатый к другому плечу дамы. – Тогда ты волновалась еще больше. Просто это померкло в памяти. После двадцати лет супружества впечатления юности блекнут.
Прошло около получаса, прежде чем мы добрались до своей ложи. Отца прежде всего интересовал бальный зал. Еще по пути к ложе он часто останавливался, чтобы оглядеться. Он был в восторге от обилия белых и розовых гвоздик.
– В тридцать девятом, – сказал он, – тоже было много цветов. Здесь, в фойе, сотворили настоящий весенний ландшафт. Я тогда подумал, что такое количество цветов в одном месте просто невозможно. Но на сей раз их еще больше.
Мы пересекли партер, который постепенно, наподобие пандуса, без единой ступени поднимался к рампе, образуя вместе со сценой одну огромную площадку для танцев.
– В то время не было лож у самой сцены, – рассказывал отец. – Зато на сцене был установлен большой золотистый шатер с сотнями белых лампочек изнутри. Бал в Опере проходил под знаком света, северного света разумеется. Я даже помню, как звали конструктора этого сооружения, – это был инженер по фамилии Гофман. Его коллега, с которым мы познакомились той ночью внизу за бутылкой молодого вина, называл всю эту декорацию сказками Гофмана. Я тогда еще оглянулся: не слышит ли кто? Я подумал, что он сболтнул лишнее. Угоститься вином как раз пожаловал райхсштаттхальтер, то бишь имперский наместник Зейс-Инкварт со своей свитой. Все это я как сейчас помню. Вино тогда хранили в подвалах Оперы, в помещениях столярной мастерской. Я оглянулся и сам себе показался трусоватым. Но в то же время я знал, что и барышне-ассистенту, с которой я сидел, слышать такие вещи удовольствия не доставляет. Сказки Гофмана. И только? А как, собственно, сейчас проходят в ложи у сцены?
Мы задали этот вопрос одному из распорядителей. Когда мы входили в ложу бенуара, случилась неприятность. Герберт зацепился фалдой фрака за дверную ручку, и он лопнул по шву. Но все его внимание было сосредоточено на моем отце, и Герберт ничего не заметил. Только когда пришло время перекусить и мы принялись за креветочное ассорти – единственное блюдо, сервированное в ложе, – а Герберт начал восторгаться разрезом на моем платье, я заметила, что и его костюм не без разреза. И тут стало ясно, что нынче нам не танцевать, а ему придется использовать свои жетоны как-нибудь в другой раз.
За минуту до выхода дебютанток и их кавалеров, которые должны были исполнить полонез, все внимание было приковано к главной ложе: пора бы уж бундесканцлеру подать признаки присутствия; справа от нас в воздухе замелькали стайки листовок. Мы не могли прочесть, что на них написано. Те, у кого были театральные бинокли, стали читать вслух:
– Мы пос-лед-нее дерьмо. Мы последнее дерьмо.
– Почему они пишут «мы»? Тогда уж «вы».
– Нет, «мы», то есть листовки.
– Думаешь, это инсценировано устроителями? А может, теперь так принято выражать уважение бригаде уборщиков? И они будут иметь в виду нас.
– Если и дальше так пойдет, это будет моим последним балом.
Один листочек упал прямо перед нашей ложей. Отца это позабавило.
– Должен сказать вам, детки, это действительно уже другой бал. В тридцать девятом тут была невероятная давка. Людей набилось вдвое больше, чем сегодня. И вдруг полная тишина. Она, как бегущий огонь, распространялась из центра зала. Без всякой команды. Последним шепотком из конца в конец пролетели два слова: Зейс-Инкварт и Бюркель. И опять неожиданность – все, не сговариваясь, вскинули в нацистском приветствии правую руку. Это было в тот момент, когда имперский наместник Зейс-Инкварт и имперский гауляйтер Бюркель появились в центральной ложе. У нас были билеты без мест, нам пришлось стоять, а точнее, почти висеть в давке у задних дверей, мы даже друг друга не могли видеть. А потом запели фанфары. Они были в руках у солдат, которые по лестницам поднялись на сцену и возвестили выход дебютанток и дебютантов. Но это были другие лестницы, не те, что сегодня.
Отец сдвинул очки на середину носа и поверх стекол посмотрел в сторону оркестра, который под сенью главной ложи начал играть «Фанфары до мажор» Карла Роснера. Под этот торжественный аккомпанемент ярусом выше появились бундеспрезидент, бундесканцлер, вице-канцлер, министр по делам искусств и генеральный директор федеральных театров вместе со своими половинами. Они встали – президент в центре – у бархатного парапета лож и благоговейно замерли. Фанфары смолкли. Оркестр заиграл Гимн Республики. Затем со сцены в ритме полонеза сбежали ученики и ученицы балетной школы Венской оперы. Они образовали нечто вроде живой спирали, которая превратилась в нарядные круги, вращавшиеся в противоположных направлениях. Лестница находилась прямо у нашей ложи. После короткого выступления юных танцоров по лестнице потянулась вниз бесконечная вереница черно-белых пар. Волнообразно извиваясь, она двинулась к другому концу зала, разделенного розовой цветочной линией. По обе стороны от нее возникли две белые полосы – это заняли свою позицию дамы, а обрамлением стали ряды кавалеров – черная кайма с серо-зелеными вкраплениями военных мундиров.
– Картина куда более впечатляющая, чем в тридцать девятом. Тогда было пар сорок, не больше. А тут весь партер заполнен. Как, должно быть, трудно дирижировать столь массовым действом. И долго они обычно репетируют?
Я ничего не могла сказать на сей счет. Герберт пожал плечами.
– Насколько я знаю, – ответил он, – задействована вся балетная школа.
– Но некоторые репетировали явно недостаточно, – заметил отец, глядя на пару прямо перед нами, которая выполняла фигуры танца с небольшим запозданием. – Вы ведь знаете, тогда я был с барышней, знавшей толк в искусстве.
Отец рассказывал об этом много раз. Но никакие напоминания не имели смысла, он просто делал вид, что не слышит. Если ему не давали досказать эту историю до конца, он вскоре начинал заново.
– Как сложилась ее жизнь? – спросила я.
– Я любил ее, – сказал он. – Бесконечно любил. По мне она предпочла карьеру.
– Она могла бы делать карьеру, не расставаясь с тобой.
Отец не отрывал глаз от черно-белых рядов, которые расходились, смыкались, проникали друг в друга, словно нанизанные на одну нить, а затем создавали новый узор. На дебютантках были маленькие, усыпанные стразами короны, руки в белых перчатках взмахивали букетиками. На какой-то миг все окрашивалось в черный цвет, затем в белый, и вновь возникала черно-белая мозаика. Дирижер столь сосредоточенно работал своей палочкой, что смахивал на иглоукалывателя.
– Ты забываешь, какое это было время, – сказал отец, – Из-за своей театроведки я вынужден был вступить в Национал-социалистическую партию.
– Как? – воскликнула я, должно быть, чересчур громко. – Ты был нацистом?
Он взял меня за руку и покачал головой:
– Давай не будем об этом.
Я была потрясена. Отец рассказывал, что ему, тогда молодому доценту, не удалось избежать участия в исследованиях, связанных с ракетной техникой. В конце войны он с группой ученых инспектировал шахту в округе Верхний Дунай. Было такое географическое название. Шахта, по всей вероятности, находилась на территории какой-то пивоварни, поскольку их со всеми почестями приняли и угостили пивовары. Потом спустились в шахту, куда было эвакуировано ракетостроительное предприятие. Там он увидел оголодавших, предельно изнуренных иностранных рабочих,которых самым беспощадным образом заставляли работать. Он ловил на себе умоляющие взгляды, но ничего не мог сделать. И отец признался: «Я был рад, что войне скоро конец. Кто знает, во что бы я еще мог вляпаться».
Иногда он рассказывал о том, как из университета изгоняли его еврейских коллег. С душевной болью он говорил о судьбе одного математика, его сверстника, которому удалось бежать с семьей во Францию. Но там их арестовали и депортировали в Освенцим. Вся семья погибла. Отец часто рассказывал об этом. Мне бы и в голову не пришло, что он мог быть членом нацистской партии.
Полонез закончился. Послышались первые такты «Дунайского вальса». Когда дебютанты начали танцевать, церемониймейстер поднялся на две ступени и, взяв микрофон, объявил:
– Все танцуют вальс.
Отец, как завороженный, смотрел в зал. Партер моментально наполнился людьми. Стало так тесно, что парам с трудом удавалось кружиться. Отец все еще держал меня за руку. И вдруг сказал:
– Я бы хотел когда-нибудь встретиться с ней. Как ты думаешь, мы сумеем устроить это завтра?
Я всеми силами старалась скрыть свои чувства.
– Посмотрим, – ответила я и закрыла глаза.
На сердце кошки скребли. Дело в том, что несколько месяцев назад мы собирались приготовить для отца сюрприз, своего рода подарок ко дню рождения, а именно – устроить ему встречу с бывшей возлюбленной. Зигрид вначале была решительно против. Но потом она же разыскала старые расписания лекций, чтобы выяснить, кто мог быть этой преподавательницей, ассистентом кафедры театроведения. Среди таковых значилась только одна женщина. Позднее она действительно стала профессором и попала в справочник «Who is who». Но адрес найти не удалось. Наконец Зигрид узнала, что эта женщина уже умерла. Мы решили сказать об этом отцу только после бала.








