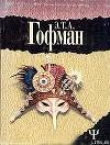Текст книги "Человек-землетрясение"
Автор книги: Хайнц Конзалик
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
3
Два прошедших дня разбили Вреденхаузен на два лагеря. Как это бывает в небольшом городке, большинство населения которого зависит от одного-единственного большого предприятия, люди остерегались высказывать свое мнение.
Зависящие от жалованья – хорошее обозначение современного рабства! – рабочие и служащие, получавшие свой конверт с деньгами каждый месяц с новым изречением Теодора Хаферкампа на бланке с расчетом, притворялись глухими и воздерживались от каких-либо высказываний. Быть может, этому способствовал и последний афоризм: «Довольный человек купается в солнечных лучах, но не жалуется на жару». Если спрашивали того, кто зарабатывал свои сдобные булки на фабрике Баррайсов: «Скажи честно, что ты думаешь об этой аварии на автогонках?» – он втягивал голову в плечи и самое большее мямлил что-то вроде: «Ну да, конечно…»
Задумывались об этом все, но немногие рассуждали вслух. «Надо бы отобрать у паразита водительские права», – говорили тогда. Или: «Странно, что полиция так быстро закрывает дела!» А второй врач Вреденхаузена высказал неосторожное замечание: «Достаточно ли тщательно произвели вскрытие трупа?»
Но подобные разговоры допускались лишь в самом тесном кругу, среди лучших друзей. И только врач высказался громко, на людях… Уже на следующее утро ему позвонил адвокат доктор Дорлах и задал коварный вопрос:
– Дорогой доктор, для составления научно-производственной таблицы нам нужны некоторые сведения. Вы можете в ближайшие дни указать, сколько больничных листков вы выдали в нашей заводской больничной кассе?
Врач понял намек. Практиковать во Вреденхаузене и не лечить рабочих баррайсовских предприятий означало жить изгоем. Так под незамутненной поверхностью благополучного Вреденхаузена, подобно никому не заметной болезни, медленно расползались сплетни и подозрения.
И только один человек осмеливался открыто нарушать спокойствие и порядок во Вреденхаузене: старый Адамс, отец погибшего Лутца. Ему нечего было терять, он не зависел от фабрики Баррайсов и был тем камнем на дороге, о который дядя Тео все время спотыкался и который никто не мог убрать.
Предложенные ему деньги показали старому Адамсу, что яблоко, которое ему надлежало съесть, было с гнильцой и он должен был проглотить его за десять тысяч марок – денежное возмещение за испорченный желудок. Всю ночь старик не ложился, перебирал в памяти жизнь своего погибшего сына, вытащил старые фотоальбомы и разглядывал влажными от слез глазами маленькие любительские карточки.
Вот Лутц в плетеной корзинке, ему три дня. Лутц в коляске. Первые шаги. Первая встреча с собакой. Лутц на Северном море, строит крепость из песка. Лутц-первоклассник. Лутц – победитель на молодежном спортивном празднике. Лутц на уроке танцев. Лутц-вратарь.
Фотографии… Вехи короткой жизни, каждый час которой был окружен любовью. Любовью старого Адамса. Его гордостью, его счастьем, отцовскими надеждами на будущее.
На следующий день в Дюссельдорфе приземлился грузовой самолет с гробом. Похоронная фирма «Якоб Химмельрайх и сын» из Вреденхаузена встретила тело Лутца Адамса в цинковом гробу и поместила его в нормальный дубовый, поскольку это было более красиво и торжественно. Эрнст Адамс стоял неподалеку, когда гроб выносили из самолета. На обратном пути он сел в машину, примостился на деревянном чурбачке у изголовья гроба и тихо разговаривал с сыном.
Якоб Химмельрайх сначала возражал против этого, но, увидев немой взгляд старика, сосредоточивший всю силу его упрямства, лишь пожал плечами и оставил Эрнста Адамса в покое.
– Он так свихнется, – сказал глава фирмы тихо водителю, когда они громыхали по автобану. – Сидит себе и разговаривает с крышкой. Да уж, какой шок для него. Единственный сын. И на каких-то вшивых гонках, ради несчастного кубка…
Больше Якоб Химмельрайх ничего не сказал, поскольку семьдесят процентов его клиентов работали раньше на предприятиях Баррайсов. А в соседнем городке Бургфельде существовала конкурирующая похоронная фирма Шмитца…
– Мальчик мой, – сказал старый Адамс и положил обе руки на ту часть гроба, под которой должно было лежать лицо Лутца. – Никто не знает, как это случилось, и никто не будет дознаваться. Лишь один я знаю, что ты не мог ехать как сумасшедший. Ты всегда был осторожен, мой мальчик. Ты боялся скоростей, но не хотел выглядеть трусом. Он довел тебя до смерти, этот черт Баррайс, этот бездельник с барскими замашками, этот дьявол в костюме, сшитом на заказ! Ты уже ничего не можешь сказать, Лутц, но я чувствую правду… я ее чувствую, сынок, и я ее выкрикну, когда придет время…
Эрнст Адамс один нес почетный караул в кладбищенской часовне. Два могильщика ему не мешали, наоборот, они принесли ему бутерброды, а вечером – большую горячую колбасу, поставили около гроба два термоса с кофе и рассказали обо всем, что между тем произошло во Вреденхаузене.
Ведомство, отвечающее за порядок, сначала не могло прийти к единому мнению, допустимо ли близкому родственнику бодрствовать в ночном карауле в часовне. В правилах никаких соответствующих комментариев не нашли и решили смириться. Доктор Дорлах, дальновидный адвокат Баррайсов, пытался предотвратить эту молчаливую демонстрацию старика, о которой вскоре шептался весь Вреденхаузен. Но ему не за что было уцепиться: почему бы отцу не стоять в карауле у гроба своего сына?
– У государственных деятелей это даже принято, – вымученно произнес бургомистр. – Почему в нашей демократической стране в почетном карауле не может стоять отец?
О самих похоронах Эрнст Адамс вообще не беспокоился. Все организовал Теодор Хаферкамп. Он купил красивый участок в лучшей части кладбища, под сенью высоких вязов и берез, заказал священника и органиста, организовал почетные делегации от спортивного общества и автоклуба, певческого кружка и студенческой общины. Он поместил объявления в газетах и напечатал некрологи, а поскольку Теодор Хаферкамп обожал сентенции, объявлениям он предпослал девиз: «Бог дает и берет… Все мы в Его власти».
Когда могильщики показали бодрствующему Эрнсту Адамсу газету с этим объявлением, он горько засмеялся, скомкал ее и швырнул под гроб.
Участие жителей в траурном событии было небывалым для Вреденхаузена. Венков и цветов было такое множество, что скоро не было видно ни гроба, ни старого Адамса, сидевшего на табуретке у изголовья. То, что никто не осмеливался произнести вслух, красноречиво выразили цветы. Тео Хаферкамп, который при поддержке доктора Дорлаха сам донес свой огромный венок до кладбищенской часовни, правильно истолковал это море цветов. Еще раз он попытался проникнуть в окаменевшую душу старого Адамса. Он протиснулся сквозь венки к сидящему старику и деликатно кашлянул. Адамс поднял голову.
– Мы должны научиться сносить удары судьбы, – произнес Хаферкамп охрипшим голосом. – Когда семь лет тому назад скончалась моя любимая жена…
– У нее был рак, – прервал его Адамс. Хаферкамп кивнул.
– Страшная кончина. Но я сказал себе: жизнь должна продолжаться…
– У Лутца не было рака. Он был абсолютно здоров. Он умер ни за что! Ни за что! Или вы называете тщеславие, безумное, ослепляющее, нелепое тщеславие достоинством?
– Не в прямом смысле, – ушел от ответа Хаферкамп.
– Вы бы отдали свою жизнь за никому не нужный серебряный кубок?
– Я не знаю. В молодости для меня было делом чести завоевывать непокоренные горные вершины! Каждый человек стремится к почестям, к выдающимся достижениям, к чему-то особому! Здесь это было авторалли. Если бы все рассуждали так, как вы, Адамс, не было бы рекордов, прогресса, будущего. Человек всегда хочет знать, где пределы его возможностей… так повелось веками, и все больше эти границы отодвигаются в сферу чрезвычайного. Тут уж ничего не поделаешь.
Эрнст Адамс молчал. Потом он посмотрел в глаза Тео Хаферкампу.
– Как это случилось?
– Мы располагаем заключением полиции…
– Оно построено на показаниях вашего племянника.
– Но Роберт и был единственным свидетелем.
– Выжившим…
– О Господи, вы хотите упрекнуть его в этом, Адамс? Он должен был тоже сгореть, только ради дружбы? Это уж слишком!
– Кто вел машину?
– Ваш сын…
– По словам вашего племянника.
– Вы этому не верите?
Эрнст Адамс молчал. Он посмотрел на гроб и положил руки на изголовье. Это выглядело трогательно, и Хаферкамп почувствовал искреннее волнение. «Лучше бы я никогда не женился на девушке из этой семьи, – горько подумал он. – Но Анжела Баррайс была тогда богатой симпатичной девушкой, была совладелицей семейного предприятия, а я – всего лишь бедным инженером, который во времена большой немецкой безработицы после первой мировой войны сбился с ног в поисках работы. Когда я познакомился с Анжелой Баррайс, на ней было белое кружевное платье и она была так по-детски наивна… и так богата. В браке с Анжелой я никогда не раскаивался, но это семейство Баррайсов я проклинал каждый день! И вот теперь я его глава, его отполированный щит и одновременно меч, который должен отвести от него все, что бросает тень на честь семьи, даже если это правда. Тошнотворная жизнь… несмотря на все миллионы, на которых сидишь как курица-наседка».
– Адамс, – сдавленно произнес Хаферкамп, – после похорон мы вдвоем спокойно поговорим обо всем. Но вашего сына ничто не вернет, ни скорбь, ни ненависть! Эта глава вашей жизни закончена. Это ужасно, но ничего в жизни нельзя повернуть вспять. Удары судьбы неотвратимы. Пойдемте, побудьте какое-то время со мной. Мне не выпало счастье быть отцом мальчика, но я понимаю ваши чувства.
– Вы никогда не сможете этого понять, господин Хаферкамп.
– Чего вы хотите, Адамс? Отомстить Роберту? За что отомстить?
– Я хочу у него при всех узнать правду.
– То есть вы хотите скандала?
– Разве правда – это скандал?
– Вы хотите атаковать Роберта во время церемонии погребения?
– Я только спрошу его. Разве отец не имеет на это права? Мой сын, – он постучал рукой по гробу, – оставил мне много нерешенных вопросов. А теперь идите, господин Хаферкамп, пожалуйста, мне осталось провести с моим мальчиком лишь несколько часов. И я хочу использовать их…
Сбитый с толку и крайне обеспокоенный, вышел Хаферкамп из кладбищенской часовни. Доктор Дорлах поджидал его снаружи и курил маленькую сигару. Увидев расстроенное лицо Хаферкампа, он серьезно кивнул:
– Старик хочет поднять шум, не так ли?
– Он прав, доктор.
– И это говорите вы?
– Я не только глава фирмы, но еще и человек. Об этом слишком часто забывают!
– И что же теперь будет?
– Нельзя пускать Роберта на кладбище. Он не должен присутствовать на похоронах. Когда он приземлится на нашей «Сессне», его нужно держать дома взаперти. То, что произойдет после погребения, состоится при закрытых дверях. – Тео Хаферкамп вытер лицо большим белым платком. – Доктор, а что вы думаете об этой катастрофе в Приморских Альпах?
– Я адвокат Баррайсов, и этим все сказано, – уклончиво ответил доктор Дорлах.
Хаферкамп сердито кивнул.
– Тоже мне ответ! – проворчал он и быстро зашагал к своей машине.
Тот, кто знал Боба Баррайса, – а уж дядя Тео должен был бы его знать, – тому было ясно, что Боб никогда не уходил от ссоры и не прятался там, где пахло скандалом. Похороны Лутца Адамса обещали стать именно такой шумихой, таким шоу, которое Боб не собирался пропускать, даже если его предостерегали дядя Тео, Гельмут Хансен, доктор Дорлах, его бывшая няня, а ныне экономка Рената Петерс, и даже его мать.
– Что вы от меня хотите, черт бы вас побрал?! – кричал он, обращаясь сразу ко всем. – Ежедневно происходят тысячи несчастных случаев! Нечего драматизировать это дело! Со стариком я уж как-нибудь справлюсь. Вечно никто не живет, в том числе и Лутц Адамс!
Хаферкамп проигнорировал последнее замечание с удивительным презрением. Вместо этого он спросил:
– И у тебя нет чувства вины?
– Ни малейшего! – Боб Баррайс не спеша пил виски из высокого стакана. Он облокотился о мраморный камин в большом салоне виллы Баррайсов, на нем уже был черный траурный костюм. – Если бы я так быстро не среагировал, сейчас бы стояли два гроба в часовне!
Он искоса посмотрел сквозь стакан на Гельмута Хансена. «Если он сейчас опять выступит со своим идиотским замечанием насчет центробежной силы, я запущу ему стаканом в голову, – подумал Боб. – Никто ничего не сможет доказать. Лутц застрял на сиденье водителя, когда он горел. Значит, он и вел машину. Это так же логично, как то, что становишься мокрым, войдя в воду. Существует ли лучшее доказательство, чем официальный протокол?»
На короткое мгновенье он вспомнил крестьянина Гастона Брилье и Мариэтту Лукка по прозвищу Малу, которая оказалась такой потрясающей актрисой. «В следующий свой приезд в Монте-Карло я пересплю с ней и подарю ей тысячу франков, – решил Боб. – Чем более пылкой будет ее благодарность, тем надежнее ее молчание».
Он мечтательно улыбнулся, что придало его лицу сходство с ангелом, и допил виски.
Земля круглая, прекрасная и в полном порядке. Только нужно знать, как поддерживать этот порядок.
Поскольку никто в семействе Баррайсов не мог уклониться от поездки на кладбище, все, повздыхав, уселись в три черные машины и поехали на траурную церемонию.
Никому нельзя поставить в упрек сочувствие, и его нельзя рассматривать как провокацию – с этими логичными доводами на кладбище собрался почти весь Вреденхаузен. Это были самые многолюдные похороны за последние годы. Даже старый Баррайс не собрал такого скопления народа. Кладбище было черно от людей… С самолета можно было бы подумать, что муравьиное войско отправилось в поход. Чтобы предотвратить скандал, Хаферкамп лишь намекнул о своей обеспокоенности городскому управлению. Намеки с баррайсовских предприятий понимались сразу. Городской совет во главе с бургомистром в полном составе стоял у могилы, оба могильщика были облачены в зеленую униформу, которую извлекали из шкафа только для особо торжественных процессий или когда умирал священник.
В машине Тео Хаферкампа на заднем сиденье расположился доктор Дорлах. Рядом с ним со сложенными на коленях руками – Матильда Баррайс. Боб уже прибыл на своем красном спортивном автомобиле и сейчас как раз вылезал из него, попав сразу под обстрел сотен пар глаз. Он остановился у машины, облокотившись на нее, и ждал, когда выйдет дядя Тео. Во втором автомобиле приехали Рената Петерс, садовник и два студента из общины. В третьем – Гельмут Хансен и два представителя автоклуба. Хансен заезжал по дороге на вокзал, чтобы кого-то встретить. Боб от удивленья даже слегка пригнулся, когда увидел выходящую из машины Хансена юную, длинноногую, стройную девушку. Ее белокурые волосы развевались на ветру и закрывали лицо, словно вуалью.
Хаферкамп подбежал к своему племяннику. Гроб еще стоял в часовне. Из ее открытых дверей доносились звуки органа – прелюдия Баха, выбранная Хаферкампом. Бах всегда хорош и торжествен. Тот, кто послушает Баха, уже не сможет быть революционером.
– Не выставляй себя напоказ так провокационно! – зашипел Тео на Боба. – Это тебе не вечеринка, а чертовски грустный день! Если уж у тебя вместо сердца кусок дерьма, сделай хотя бы траурное лицо. От тебя этого ждут!
Боб Баррайс цинично улыбнулся. Потом он напустил на себя скорбную мину и сразу постарел на несколько лет. Тео Хаферкамп пораженно уставился на племянника.
– Высший пилотаж, – проговорил он, заикаясь. – Во всяком случае, притворяться ты умеешь виртуозно.
Боб пожал плечами, отделился от своей красной машины и встал рядом с Хаферкампом. Медленно и размеренно продвигались они, истинные хозяева Вреденхаузена, сквозь толпу молчаливых людей – на семьдесят процентов зависящих от жалованья – к могиле. В море людей образовался проход, и Хаферкамп, разбиравшийся в литературе, невольно вспомнил «Вильгельма Телля»: «По этому ущелью он поедет…» Где был Телль – Эрнст Адамс? В какой засаде сидел и ждал своего часа, чтобы выстрелить в Геслеров– Баррайсов?
У могилы члены городского совета и бургомистр поприветствовали Баррайсов. Потом все проникновенно замолчали, так как от часовни приближалась процессия с гробом.
Впереди шел священник, за ним делегация с флагами. Шестеро молодых мужчин в белых шлемах несли тяжелый дубовый гроб. Все выглядело торжественно, даже красиво. Это была хорошо продуманная церемония.
За гробом шел один Эрнст Адамс.
Никого не было рядом с ним, даже от поддержки священника он отказался. Одиноко вышагивал он за своим мертвым сыном в старом, поношенном, лоснящемся костюме, с обнаженной головой и не сводил глаз с гроба. Жители Вреденхаузена смотрели на него, как на ископаемое, где-то в толпе заплакала женщина, брошенный кем-то букет цветов упал на гроб. Это был вызов, и каждый это знал, все посмотрели в сторону Баррайсов, но это был анонимный вызов, не больше чем жужжание мухи, прежде чем ее прихлопнут.
У могилы шестеро в белых шлемах поставили гроб на землю. Священник начал читать проповедь. Он говорил о любви Всевышнего и о том, что Бог рано забирает к себе того, кого любит. Судя по его словам, все старые люди не пользовались особой любовью Господа… ни Рокфеллер, ни Аденауэр, ни папы, ни кардиналы. Но когда умирал девяностолетний, тот же священник говорил у могилы: «Бог даровал ему долгую, наполненную жизнь как свою высшую милость!» Здесь у церковнослужителей явное несоответствие…
Эрнст Адамс вытерпел проповедь, которая излилась на него как апрельский дождик. Певческий кружок он тоже проглотил, потому что они пели церковную песню. Но, когда к могиле подошел представитель автоклуба, он загородил ему дорогу и сказал:
– Ну а теперь хватит! Я был единственным, кто по-настоящему знал моего сына. И я знаю, что все это ему бы не понравилось! Меньше всего он хотел умирать в раскаленном железном ящике на скале, где он ничего не потерял!
У Тео Хаферкампа на лбу выступил пот. Он подтолкнул стоявшего рядом доктора Дорлаха.
– Сделайте что-нибудь, – прошептал он. – Сейчас начнется! Скажите певческому кружку, чтобы они еще раз спели!
– Сейчас мы уже ничего не сможем предпринять, – невозмутимо зашептал в ответ доктор Дорлах. – Только потом. Мы сможем объявить старого Адамса невменяемым. Но все это потом…
– Моему мальчику пришлось умереть, – произнес громко Адамс над сотнями голов, и стало так тихо, как и должно быть на кладбище. – Он сгорел как жертва страсти к рекордам другого человека. Этот другой был его другом. Мой мальчик восхищался им и все же боялся его, он ненавидел быстрые машины и тем не менее участвовал во всех ралли. Он стремился только к прекрасному, а стал жертвой необузданной дикости.
– Теперь вы должны что-то сделать! – зашипел Хаферкамп и снова толкнул доктора Дорлаха.
– Адамс уже делает все за нас. То, что он говорит, можно будет легко интерпретировать как помешательство.
Эрнст Адамс повернулся. По другую сторону могилы стоял Боб Баррайс, элегантный, в черном костюме на заказ, с черными перламутровыми пуговицами. На серебристом галстуке была приколота большая черная жемчужина. Блеск другого мира, о котором Вреденхаузен узнавал только из газет, засиял над гробом. Старый Адамс протянул руку и указал на Боба.
– Вот он стоит! – крикнул он. – И я спрашиваю его: может ли он поклясться перед Богом, перед этим гробом, на кресте, что мой мальчик один во всем виноват? Что случилось той ночью, Боб Баррайс? Вот лежит твой мертвый товарищ. Ты помнишь, как он сгорел?
– Довольно! – произнес доктор Дорлах почти торжественно. – Я требую в последующем психиатрической экспертизы и изоляции старика.
– Но скандал уже произошел! – У Хаферкампа от ярости почти пропал голос.
– Он только укрепит ваши позиции. – Доктор Дорлах тонко улыбнулся. – Если на вас нападает сумасшедший, на вашей стороне всегда сочувствие большинства.
Боб Баррайс смотрел на старого Адамса со злобной усмешкой. Помнишь ли ты, как он сгорел… Еще бы он этого не помнил! Эти глаза Лутца, его широко раскрытый рот, крик: «Помоги же мне, помоги мне! Боб! Боб! Я горю! Вытащи меня! Боб!» И потом языки пламени, поглотившие его, сомкнувшиеся над ним, как желтые, бьющие друг в друга ладоши.
Боб Баррайс взглянул на гроб. «Через десять минут моя вина будет опущена вглубь, через час на ней будут лежать два метра земли, – думал он. – И она засыплет все чувства – и совесть, и память».
Он наклонился, поднял с земли большой букет цветов и бросил его на гроб. Потом молча повернулся и зашагал прочь от могилы. Одетые в черное люди вновь образовали проход, Боб шел по нему с высоко поднятой головой и с видом мученика.
– Красивый он все-таки парень, – вполголоса произнесла одна из женщин, когда Боб прошел мимо нее. – Везет ему в жизни…
Эрнст Адамс в недоумении уставился на гору цветов, которая неожиданно выросла на гробе его сына. Потом он вытянул шею и закричал:
– Вот он убегает! Молча! Но глас из гроба настигает его! Из гроба! Смотрите, как он бежит! Есть у него совесть или нет?
Он закачался, голос его сорвался. Священник и два студента подхватили его и отвели в сторону, в тень других надгробий. Отделенный от могилы человеческой стеной, старик слышал, как опускали гроб, как ударили по его крышке первые комья земли и как священник произнес:
– Из земли ты вышел, в землю и вернешься… – Потом зазвучали прощальные слова почетных гостей.
Сгорбившись, все еще поддерживаемый двумя студентами, старик прислонился к ограде соседней могилы и заплакал. Слезы бежали по его морщинам, и он вытирал их дрожащими руками.
– Мальчик мой… – повторял он тихо. – Мой мальчик, мой дорогой, любимый мальчик…
– Неужели это было неизбежно? – спросил Тео Хаферкамп доктора, когда, возложив цветы, они возвращались к машине. Матильда Баррайс причитала, идя следом за ними.
– Бедное дитя… бедное дитя… – Она имела в виду Боба. – Старик совсем выжил из ума.
– Вот видите? Ваша сестра в своем материнском горе уже высказала это. – Доктор Дорлах иронично улыбнулся. – Скоро это мнение распространится по всему Вреденхаузену. Нужно уметь доказать, что правда на нашей стороне.
– Доктор, вы в сговоре с самим дьяволом!
– Он, видно, и назначил меня адвокатом Баррайсов, господин Хаферкамп.
Они поняли друг друга с полуслова и с траурным видом покинули кладбище.
На полпути к вилле Баррайсов рядом со своей красной гоночной машиной стоял Боб. Когда на дороге показалась машина Гельмута Хансена, он замахал обеими руками. Боб, очевидно, уже давно ждал его: рядом с передним левым колесом лежали четыре окурка. Хансен затормозил и припарковал машину позади спортивной ракеты Боба. Кроме него в машине была только девушка, которую он перед похоронами встречал на вокзале и которая бросилась в глаза Бобу. Когда Гельмут вышел, она осталась сидеть в автомобиле.
Боб нагло ухмылялся, когда Гельмут подошел к нему.
– Наверное, неплохо себя чувствуешь, старик, а? – спросил он.
Гельмут Хансен привык к глупым замечаниям Боба и не обращал на них внимания. Гораздо больше удивило его то, что Боб ждал его здесь, на обочине дороги.
– Почему ты не поехал домой? – спросил он.
– Отгадай! – Боб закурил новую сигарету.
– Дядя Тео?
– Ерунда! Его нравоучения я щелкаю, как орешки.
– Неприятности с Дорлахом?
– Он наш адвокат, а не моя нянька.
– Тогда Рената?
– Старая девица? Гельмут, подумай!
– Во всяком случае, ты дрейфишь возвращаться домой один. Хорошо, теперь я здесь и прикрою тебя с тыла. – Он взял сигарету, протянутую Бобом, и закурил. – Старый Адамс упал потом на зарытую могилу и вцепился руками в землю…
– Очень драматично. Наверное, видел что-нибудь подобное по телевизору. Такое всегда действует. – Он скосил глаза на машину Хансена. Девушка прижалась лицом к стеклу и смотрела на него.
– Бывают моменты, когда очень хочется дать тебе в морду, – произнес глухим голосом Хансен.
– Особенно тогда, когда нужно показать себя героем.
– Что ты хочешь сказать?
– Кто эта малютка в твоей машине?
Лицо Хансена потемнело. «Этого следовало ожидать, – подумал он. – Как коршун на мышь, бросается Боб на каждую симпатичную девушку. Здесь это было несложно». Но Хансен и не пытался ее скрывать.
– Это не малютка, а Ева Коттман, сокурсница из Аахена, изучает химию.
– Ты о ней никогда ничего не рассказывал. Прятал ее. Симпатичная девочка. Ножки длинные, блузочка рельефная, ротик, специально созданный для поцелуев…
– Воздержись от своих сексуальных характеристик! Именно поэтому, чтобы не подвергать ее твоим оценкам, я никогда не упоминал о Еве.
– Ага. – Боб Баррайс помахал в сторону машины, мимо Хансена, и улыбнулся своей знаменитой лучезарной улыбкой. – Ах вот как? А что она делает во Вреденхаузене?
– Хочу представить ее дяде Тео, – сухо ответил Хансен.
– Он ведь уже вышел из этого возраста!
– Еще одно подобное замечание, и ты получишь!
– Спокойно, спокойно, Гельмут. – Боб Баррайс ухмыльнулся и выпустил колечками дым. Он долго тренировался и делал это виртуозно, чем очень импонировал молоденьким девушкам, которым нравилось в нем все. – Значит, дело серьезное. Хочешь на ней жениться?
– Потом, может быть. Сначала она должна узнать, куда попадет.
– Вот тебе раз! Ну, конечно, Баррайсов нигде нельзя показывать…
– Я обязан дяде Тео своим образованием…
– А я тебе дважды своей жизнью! Тонкий намек, а? Ты любишь Еву?
– Да.
– По-настоящему?
– Что значит по-настоящему? Я хочу на ней жениться.
– Значит, не флирт?
– Нет.
– Вот моя рука. – Боб протянул ему свою правую руку. Хансен в недоумении посмотрел на нее:
– Что это значит?
– По рукам, старик. Пари. Самое позднее, скажем, через четыре месяца, к 31 июля Ева станет моей любовницей и будет лежать у меня в постели в Каннах!
Прошла минута, похожая на затишье перед взрывом. Хансен изменился в лице. Оно стало бледным и каким-то угловатым. Глаза из голубых превратились в серые и холодно сверкнули. Коварная улыбка Боба также застыла. Неожиданно он понял, что зашел слишком далеко и игра может обернуться катастрофой. Но отступать было поздно. Оставалось лишь мужество отчаяния.
– Сегодня ли, завтра, до 31 июля или вечно, – проговорил тихо Хансен, – запомни одно, Боб: если ты дотронешься до Евы, если ты, похотливая, безмозглая скотина, приблизишься к ней и потащишь в свою постель, я возьму назад то, что подарил тебе – твою жизнь! Ясно?
– Ясно, ясно. – Усмешка Боба превратилась в маску. – В тебе нет спортивного азарта, Гельмут. Можно же было заключить пари…
– Я убью тебя, как бешеную собаку.
– И ты думаешь, я боюсь тебя? – Боб хрипло засмеялся. – Мое пари остается в силе! К 31 июля Ева – моя любовница. Даже если ты спрячешь ее в дремучем лесу, я найду ее!
– А я тебя!
– Принято! Моя жизнь – против Евиной. Какова сделка? Я знаю, что ты никогда не сможешь убить меня. Ты – никогда!
– В этом случае – не раздумывая и с радостью!
– Ну что, сыграем партеечку? Давай представь меня ей. Не будь таким невежливым. Все равно ведь я ее встречу хотя бы у дяди Тео. Ты ей уже рассказал обо мне?
– Да.
– Ничего хорошего, конечно?
– Правду. Что ты плейбой.
– Это было ошибкой. – Боб оттолкнулся от своей красной гоночной машины. – Плейбои действуют на женщин, как шампанское. Их хочется попробовать и захмелеть! Гельмут, ты, конечно, виртуоз в плане умственных способностей, но что касается женщин, ты – как ученик вспомогательной школы. Ну давай… представь меня ей. Если кого-то зовут Ева, во мне просыпается Адам…
Гельмут Хансен пошел вместе с Бобом к своей машине. Ева Коттман вылезла и сразу подала Бобу руку, как только он подошел к ней. Ее улыбка, большие голубые глаза, развевающиеся по ветру шелковистые волосы, ее освежающая естественность подействовали на Боба как бодрящий душ.
– Вы Боб Баррайс, – сказала Ева, прежде чем он успел что-то произнести. – Гельмут мне вас точно описал. Он сказал, что вы его лучший и единственный друг.
Это был ловкий ход, который сразу связал Бобу руки. Он чарующе улыбнулся и придал своему голосу тот бархатистый тембр, на который женщины липли, как пчелы на мед.
– Удивительно, что такой ученый сухарь, как Гельмут, смог поймать в свои сети такую нежную весну. Ева, я искренне рад, что вы скоро станете членом нашей семьи. А теперь вперед, к дядюшке Теодору, верховному жрецу Баррайсов!
Ева Коттман снова села в машину, Боб подмигнул Хансену и вытянул губы трубочкой.
– Мед! – проговорил он тихо, когда Ева уже сидела в машине. – Просто мед, дорогуша!
– Не забудь: я убью тебя!
– Я буду вспоминать об этом, когда поцелую ее в первый раз. Он повернулся и не спеша отправился к своей красной машине.
Хансен смотрел ему вслед, сжав кулаки. «И почему такие живут, а Лутц Адамс умер? – подумал он. – Да, прав тот, кто называет высшие силы слепыми…»
Тем временем на вилле Баррайсов, в библиотеке, шел чреватый последствиями разговор. Тео Хаферкамп и доктор Дорлах сидели за рюмкой коньяка друг против друга, Матильда Баррайс стояла у большого створчатого окна и беззвучно плакала.
Дядя Теодор был полон решимости поставить точки над i.
– Завывания и дробь зубами больше не помогут, – громко объявил он. По его голосу было ясно, что он не потерпит никаких возражений. – До сих пор нам удавалось прикрывать Боба. От трех девушек мы откупились, двум оплатили аборты в Англии. Мы финансировали его гоночные машины, его поездки, его гостиничные счета, его бессмысленную, ленивую жизнь бродяги. После аттестата зрелости он стоит нам кучу денег, а работает лишь в постелях! Наш банковский счет, само собой разумеется, это выдерживает, расходы Боба никогда не превысят наших доходов, но ведь всему есть предел! Смерть Лутца Адамса – я, видит Бог, не желаю пускаться в дальнейшие расследования, чтобы не заработать инфаркта, – но эта смерть и скандал на кладбище были последней каплей! И не надо говорить, доктор, что старого Адамса можно было бы упечь в психушку. Он туда не попадет, потому что я этого не хочу! Если уж отсюда кто-то исчезнет, то это Боб!
– Он – мой ребенок! – воскликнула от окна Матильда.
– Он наш крест, который всем нам нести до конца! Матильда, сколько раз он тебя бил?
– Теодор! – выкрикнула в ужасе Матильда Баррайс. Доктор Дорлах со звоном поставил свою рюмку на стол. Хаферкамп зло кивнул.
– Не разыгрывай трагедии, Матильда! Да, доктор, он бьет ее. Сын поднимает руку на свою мать. Четыре раза мне известны самому… а сколько раз это было на самом деле, Матильда?
– О, какая подлость! Какая подлость! Все сговорились против него, только потому, что он так красив, так элегантен, так воспитан… – Она, протестуя, топнула ногой и выбежала из библиотеки. Доктор Дорлах выждал, пока за ней захлопнулась дверь.
– Он действительно бьет ее? – повторил он, как бы не в силах поверить в это.
– Да. – Хаферкамп вновь разлил коньяк. – Боб очень вспыльчив. Пару раз лопнуло терпение даже у его матери, и когда она призвала его к порядку, он дал ей пощечину. То же самое он проделывал с экономкой Ренатой Петерс, его бывшей няней. Но от нее он выслушивает больше, чем от своей матери. Однако больше всего нравоучений он принимает от Гельмута Хансена, что нас всех безмерно удивляет. Мы не можем найти этому объяснения. Почему-то он преклоняется перед ним, перед этим бедным парнем, которому я даю возможность учиться. Но иногда комплекс неполноценности становится таким сильным, что Боб вытворяет какую-нибудь глупость, что-то грандиозное, с его точки зрения, – автогонки, бобслей, высший пилотаж, водный слалом, хотя знает, что и там никогда не достигнет высшего мастерства. Но он хочет, чтобы им восторгались, хочет быть героем! Ему хочется иметь хоть крупицу авторитета Гельмута Хансена!