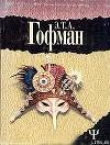Текст книги "Человек-землетрясение"
Автор книги: Хайнц Конзалик
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
– Несмотря на обещанное вознаграждение в пять тысяч марок, никто так и не объявился, – сказал он, давая заключительные показания в полицейском участке. В это время старый Адамс уже лежал в ритуальном городском зале в дорогом дубовом гробу, пожертвованном Теодором Хаферкампом. О том, чтобы весть о такой щедрости быстро разнеслась по городу, позаботился Якоб Химмельрайх из похоронной фирмы «Химмельрайх и сын», единственной в городе. Уже на протяжении пяти поколений они достойно отправляли в последний путь своих сограждан.
– Гроб за тысячу сто марок! – рассказывал Химмельрайх доверительным тоном, неизбежным при его профессии. – Погребение по первому классу с четырьмя большими свечами в канделябрах, шелковицей и настоящими кипарисами. Венок – как у главы государства. И не на машине, а на настоящем старом катафалке, запряженном двумя вороными. Когда господин Хаферкамп увидел катафалк у меня в сарае, он ни о чем другом и слышать не хотел. В последний раз на нем выезжал, сидя на козлах, мой отец в тридцать втором году. «Вот его и возьмем! – приказал господин Хаферкамп. – И коней обеспечьте! Хотя нет, я свяжусь с нашим союзом кавалеристов, у них есть упряжные лошади в конюшне». Вот это и есть товарищество!
Эта легенда быстро облетела Вреденхаузен… О ней уже говорили на фабриках, когда в город прибыли доктор Дорлах и Боб Баррайс. Теодор Хаферкамп, привыкший выносить любые удары судьбы с тех пор, как возглавил заводы Баррайсов, нес бремя этого насыщенного событиями дня также с удивительным самообладанием. Дорлах позвонил ему поспешно с бензоколонки, где им пришлось остановиться для заправки, и сообщил:
– Чек в руках Боба. Он появится, как в греческой трагедии, обуреваемый жаждой мщения! Мой совет… вам лучше неожиданно уехать.
– Нет! – не колеблясь ответил Хаферкамп. – Я не убегу. Еще пара часов – и мир во Вреденхаузене будет восстановлен на годы. Сегодня утром был найден Адамс… повешенным в лесу.
– Самоубийство?
– Безукоризненное.
– Последние слова?
– Разумеется. Приговор всему, что мы построили. Но развеянный пепел еще никому не удавалось расшифровать.
Доктор Дорлах повесил трубку, не будучи полностью удовлетворенным. Он не верил, что смерть старого Адамса не вызовет никаких осложнений. Сидевший в машине Боб встретил его холодным, безжизненным взглядом.
– Предупредили дядю Тео?
– Я сообщил о нашем приезде.
– Вы у нас юрист до мозга костей. Кстати, у жонглеров и юристов много общего. Дядя Теодор теперь, поди, выкатывает пушки?
– Нет, гроб. Старый Адамс повесился. – Дорлах завел двигатель. – Вы действительно подобны землетрясению, Боб. Ваш путь можно проследить по тем разрушениям, которые вы оставляете.
– Я не вешал старика. Я не толкал Марион с моста! Почему вы взваливаете всю вину на меня, превращая ее в лавину? Мой путь! Что такое мой путь? Не пытайтесь соорудить из юридического крючкотворства и психологических тонкостей здание и в него посадить меня, как чертика в бутылку. Все мы – включая вас, доктор, – просто тошнотворны! Вот и весь секрет. За мраморными фасадами расплодилась гниль. Все мы смердим изнутри. Все мы! Время от времени нарыв лопается, выставленный вдруг на всеобщее обозрение и поэтому доступный для искоренения, заражая ухоженный, прилизанный, подстриженный, начищенный, приглаженный, такой послушный окружающий мир. Но этот нарыв – всего лишь маленькая кочка того страшного болота, которое его породило! Я ясно выражаюсь?
– Абсолютно ясно, Боб. – Дорлах, сбросив скорость, ехал по автобану. Маленькие, более слабые машины обгоняли их и упивались триумфом, справившись с такой махиной. – Что бы вы ни затевали, всегда помните: вы не вернете Марион, продолжая разрушать.
– Кто знает, что я затеваю? – Боб хрипло рассмеялся. Неожиданно он закрыл руками лицо и всхлипнул. Это было так внезапно, что Дорлах оторопел.
– Что с вами, Боб?
– Марион была единственным человеком, которого я когда-либо любил. Ни своего отца, ни вечно жалующуюся, страдающую мать, ни наместника дядю Теодора я никогда не любил. Ни тем более баб, которые приходили и уходили. Это были всего лишь обязательные упражнения для неутомимого органа. Гимнастика для седалищных мускулов. Гигиена семенников. Но Марион была новой жизнью, настоящим прологом, поворотом, я заново учился ходить с ней по этому заплесневевшему миру, я родился заново и дышал, не чувствуя затхлости. Вам не понять, что значила для меня Марион… И еще меньше вы понимаете, что последует теперь…
– Раз уж мы исповедуемся: что случилось тогда, на «Европейском ралли»? – Доктор Дорлах покосился на Боба, тот убрал руки с лица. Оно было мокрым от слез, и это были искренние слезы, крупные детские слезы еще висели на его нижних ресницах. Дорлах как завороженный смотрел на них. Он не сразу понял, что Боб Баррайс обнажил сейчас свою душу.
– Я вел машину, – просто ответил он.
– Вы оставили гореть Лутца Адамса.
– Да.
– В полном сознании?
– Оно было у него лишь несколько минут, потом он задохнулся в огне.
– Крестьянин Гастон Брилье из Лудона?
– Он обрушился в пропасть, спасаясь от меня бегством.
– Рената Петере?
– Она испугалась и перелезла через парапет.
– А теперь старый Адамс и Марион. – Доктор Дорлах затормозил на специальной полосе для остановки. Он был не в состоянии ехать дальше. Его била нервная дрожь, в висках оглушительно стучало. Ему пришлось сделать несколько глубоких вдохов: – Не хватит ли, Боб?
– Хватит? – Боб повернул к Дорлаху свое заплаканное лицо. В огромных карих глазах застыло удивление. – А я-то тут при чем? Они умирали на моих глазах, но без моего вмешательства. Я не дотронулся ни до одного из них, когда они погибали. Ни до одного! Я был только свидетелем! Разве свидетели виноваты? Тогда надо стереть с лица земли весь этот мир, который ежедневно упивается убийствами по телевизору, по радио, в газетах.
– Вы самое опасное существо, когда-либо появлявшееся на свет, – глухим голосом произнес доктор Дорлах. – Вы не осознаете своих поступков. Возможно ли такое?
– Почему вы задаете эти вопросы? – Боб повернулся и вдруг со страшной силой сжал горло доктора. Тот не двигался, не сопротивлялся, не отбивался ни руками, ни ногами… Он сидел как парализованный и чувствовал, что воздух с трудом прокладывает себе путь сквозь сомкнутые пальцы. – Кто отвез Марион в Дюссельдорф?
– Я. Но этому есть объяснение, Боб.
– Вы доставили Марион к месту ее гибели! Разумеется, вы чувствуете себя невиновным. А чек? За что чек? Молчите, Дорлах… Дядя Теодор вручил его Марион, чтобы она никогда больше не увидела меня и смогла бы начать где-нибудь новую жизнь. Она этого не сделала, потому что любила меня. Она предпочла умереть. Кто же здесь убийца?
– Она бросилась в реку, потому что у нее не было иного выхода. Она боялась вас, Боб! Поймите же это! Она любила вас, и в то же время она цепенела от ужаса, когда вы прикасались к ней. Марион была сломлена вами, вашей чудовищной сутью, которой нет названия.
Казалось, что впервые чей-то голос проникал в душу Боба Баррайса. Он отпустил горло Дорлаха и откинулся на сиденье. Дорлах расстегнул воротник и сорвал галстук.
– Я найду название моей сути… – сказал Боб. – Поезжайте, наконец, доктор…
После обеда они прибыли в замок Баррайсов, дворецкий Джеймс ожидал их на большой парадной лестнице. Беспредельный покой царил над просторами парка, и Боб, выйдя из машины, почувствовал отвращение от столь органичного слияния достоинства и лицемерия.
В большом холле Боба Баррайса принял не Хаферкамп, а Гельмут Хансен. Хаферкамп немедленно вызвал его из дирекции заводов, как только стало известно, что распаленный горем и ненавистью бог мести направляется во Вреденхаузен.
Не то чтобы Хаферкамп боялся его и поэтому прятался. Нет, он был слишком могущественным и имел массу возможностей «пустить по миру с протянутой рукой» таких, как Боб, что было одним из его любимых выражений. Но он избрал тактику изматывания, предоставляя сначала Хансену поговорить с Бобом – наследнику с его полноправным преемником.
Гельмут Хансен не воспротивился приказу Хаферкампа и явился на виллу. Неудача с письмом старого Адамса лишний раз показала ему, что весь маленький городок стоял по стойке «смирно» за широкой спиной Хаферкампа и достаточно было одной команды, чтобы несколько тысяч человек превратились в личную армию. До этого Хансен никогда не верил и не знал, что в наше время такое возможно – феодализм под знаменами рыночной экономики, крепостное право с помощью конвертов с жалованьем. Он учился в Аахене, и эпизодические наезды во Вреденхаузен сталкивали его лишь с удивительным покоем. Это был оазис довольства и внешнего благополучия, полной занятости и экономического чуда. То, о чем шептались вполголоса, он отметал как пустую болтовню. Чем больше успех, тем больше дерьма норовят наложить под дверью – это была точка зрения Хаферкампа, которую Хансен находил весьма логичной. И только теперь, после своего вхождения в непосредственный круг семейства Баррайсов в качестве кронпринца вместо постепенно теряющего человеческий облик законного наследника, он увидел, что Вреденхаузен окружен своего рода горной цепью, загораживающей его от внешнего мира. Баррайсовы горы были непреодолимы с помощью обычных веревок, крючьев и ледорубов.
Письмо старого Адамса было уничтожено. Старик окончательно проиграл, смерть его стала бессмысленной. Ничего не дал бы и анонимный донос – Хаферкамп ни за что не признается, что нашел прощальное письмо. Кто сможет доказать обратное? А открыто пробивать стену всеобщего молчания было точно так же лишено всякого смысла… Мановением руки Хансен был бы брошен обратно, в безликую массу, и прощай тогда последний шанс покончить с современным средневековьем во Вреденхаузене. Оставался только один путь: терпеть, ждать, вступить в права наследника и потихоньку готовить прорыв – вести подпольную деятельность, что было крайне чуждо Хансену. Он был открытым человеком с ясным умом… Но разве с такими принципами можно подняться выше среднего служащего?
Таким размышлениям Хансен предавался до звонка с виллы Баррайсов, поэтому он сразу согласился занять передовую позицию против Боба и провести артподготовку для дяди Теодора. Боб был лишен всех нравственных устоев, и уничтожить его тихо и неприметно стало задачей номер один. Но незаметное разрушение человека – дело, которое должно быть обдумано и спланировано с тщательностью военной операции.
Боб Баррайс расплылся в иронической улыбке, увидев посреди холла Гельмута Хансена в официальном темно-синем костюме, само воплощение чистоплотности. Боб тут же сказал:
– Здравствуй, господин Чистюля! Хорошо, что я встретил тебя первым.
– Я тоже так подумал. Где мы могли бы поговорить?
– В библиотеке. Это было мое любимое место в детстве. – Боб прошел вперед, распахнул дверь и жестом пригласил войти: – Здесь я иногда прятался за книжной полкой и подглядывал, как мой отец укладывал на широкий письменный стол одну из горничных. Здесь же я стал свидетелем, как моя мать принимала первого и единственного любовника в своей жизни – моего репетитора по физике. Очевидно, мама также слабовато разбиралась в этом предмете, и он объяснял ей эффект трения. Здесь же я в пятнадцать лет затащил за стеллаж с классической литературой нашу уборщицу, тогда сорокалетнюю госпожу Беверфельт с задом, как у ольденбургского тяжеловоза, и доказал ей, что я вовсе не малыш, как все меня называли. Итак, мой дорогой спаситель, мой моралист-онанист, поговорим здесь обо мне!
Боб сел в большое английское кожаное кресло и скрестил ноги. Гельмут Хансен прислонился к мраморному камину. «Он болен, – подумал Хансен. – Его надо не разрушать, а только изолировать. У него никогда не было здоровой психики. Когда-то он ее поранил, и такой она и осталась: всегда раздраженной, всегда воспаленной, всегда в горячке – душа без защитного слоя кожи».
– Я слышал о том, что произошло с Марион, – медленно проговорил Хансен. – Сочувствую тебе…
– Лицемер! – Боб произнес это бесстрастным голосом. – Вы довели ее до этого. Только вы!
– Меня не было дома, когда Марион давали чек. Я был с Евой.
– Ах да, прекрасная, благовоспитанная Ева. Будущая госпожа миллионерша. Жена владельца концерна. Конечно, ты ее любишь.
– Не пори такую чушь. Ты знаешь, что я действительно люблю Еву.
– А я в сто, в тысячу раз больше любил Марион! – вдруг закричал Боб. Он вскочил и сжал кулаки. – Для тебя Ева – женщина, а для меня Марион была всем миром. Один-единственный человек – целый мир! Вы это вообще понимаете? Вы хотите избавиться от меня, вы, охотники за приличием, но не желаете тратить на меня порох, не хотите травить газом, а просто спрятать, выбраковать из этого мира, как на фабрике, на ленте конвейера, брак попадает в мусор. Да, я был браком для вас, отбросом человеческого общества. Но Баррайс не имеет на это права! Мюллер, или Майер, или Леман может опускаться на глазах у всех, а Баррайс – нет! Но я выскользнул из ваших лап, я искал свой собственный мир и нашел его – и это была Марион! Для вас был шанс навсегда избавиться от меня, а что сделали вы, идиоты? Вы загнали ее на рейнский мост! Впервые в жизни дядя Теодор нажал не на ту педаль. Вместо того чтобы расставить мне западню, он сам себя катапультировал. Я ему сегодня скажу об этом – все, баста! Я живу! Я буду жить дальше! Я вымажу вас дегтем и обваляю в перьях! С Марион я был бы тихим потребителем… А теперь вы породили каннибала!
– Доволен? – спросил Хансен. Боб Баррайс уставился на него. Желваки на его скулах все еще ходили, глаза сверкали, как у наркомана.
– Что?
– Выпустил пары?
– Если бы я сегодня хоть что-нибудь ел, я бы наблевал на тебя.
– Джеймс может принести бутерброды, если ты хочешь подкрепиться.
– И тут ты меня превзошел! Идеологическое создание дяди Теодора. Гельмут… – Он сделал два шага вперед. Теперь они стояли так близко, что ощущали дыхание друг друга. «Если он плюнет, – подумал Хансен, – я разобью ему нос. Этот красивый греческий нос меж бархатистых глаз».
– Да?.. – произнес он протяжно.
– Ты был моим другом.
– Ты не поверишь, но я им и остался. Иначе я не стал бы тратить на тебя столько усилий.
– Я хотел бы похоронить Марион в нашем фамильном склепе. Она была моей женой… Ей место в освященном склепе Баррайсов! Быть может, она была единственной из Баррайсов, память которой стоит увековечить надгробием. Она должна лежать рядом с моим отцом, потом моя очередь. Именно не моей матери, она переживет всех нас. Она консервирует себя в собственных слезах. По всем химическим законам она должна уже покрыться соленой коркой. Мой отец, Марион, я, мать – в этой последовательности. Это моя самая большая просьба к убийцам моей жены…
– Боб!
– К убийцам! – закричал Боб. – Ты можешь мне это пообещать?
– Нет.
– Почему?
– Я распоряжаюсь фабриками, а не склепами. Это должен решить дядя Теодор.
– Какое убожество! Господи, какое ничтожество! Мой славный, дорогой, маленький друг Гельмут! Разве ты не видишь, какую жалкую роль ты играешь в этой семье? Даже могилами не распоряжаешься. Всегда и повсюду над всеми царит бог Теодор! – Боб захохотал хриплым, разнузданным смехом, почти захлебываясь от собственной иронии. – Так кто же ты, Гельмут? Ты половой! Точно, тебе разрешено держать половой член, когда дядя Теодор мочится! Об твое лицо он вытирает ботинки!
– Я немедленно поговорю с дядей Теодором о твоем пожелании. Еще что-нибудь?
– Да. – Боб Баррайс положил обе руки на плечи Хансена. Он опять переменился, следуя своей давней особенности хамелеона в секунду перекрашиваться. Сейчас в его завораживающих карих глазах светилась искренняя симпатия. – Если Марион будет погребена в склепе Баррайсов, я сразу же стану смирным, как старая, хромая такса. Это не обещание, Гельмут, а клятва. Передай это дяде Теодору. А тебе я желаю большого счастья в качестве наследника Баррайсов… Но тебе будет не суждено испытать это счастье.
В задумчивости Гельмут Хансен вышел из библиотеки. Он подозревал, что Хаферкамп совершит вторую большую ошибку и ни за что не даст согласие на такие похороны Марион.
Хансен не ошибся. Хаферкамп принял Боба в салоне в стиле ренессанс. Высокий, громоздкий, чопорный, неприступный, окруженный невидимым панцирем из толстого пуленепробиваемого стекла. Памятник самому себе уже при жизни, в день рождения которого всевозможные союзы и общества торжественно выстраивались, пели песни и кричали «ура». Бисмарк индустрии – отлитый из стали, нержавеющей, без патины, всегда начищенный до зеркального блеска волшебным средством: деньгами. – В ренессансном салоне… – сказал, входя, Боб. – Всегда верен своему стилю. Цезарь Борджиа из Вреденхаузена. Только яда в бокале не предлагаешь. Ты умственно превосходишь Борджиа – убиваешь элегантно и обворожительно, сам мученик ужасной семейной судьбы. – Он сунул руку за пазуху, вытащил чек и положил его на мраморный столик между собой и Хаферкампом. Хаферкамп, с опущенными уголками рта, разглядывал маленький зеленоватый клочок бумаги. – Я тебе возвращаю твои издержки. Дело уладилось без инвестиций.
– Спасибо. – Хаферкамп не притронулся к чеку. Боб кивнул.
– Очень умно. Взял бы ты чек, я, может, стал бы убийцей, действующим в состоянии аффекта. Хоть я и худой, у меня большая сила в пальцах.
– Ты это доказал, – Хаферкамп сказал это с таким презрением, что Боб пригнулся, как после удара по голове. – Но не будем говорить о прошлом. Прошлое мы общими усилиями, не щадя себя, преодолели. Дело Адамса забыто, дело Петерс улажено. Мы сделали для тебя все, что было в наших силах.
– Марион отдала жизнь.
– Это из другой оперы. Это нас, Баррайсов, не касается.
– Марион тоже была Баррайс! – закричал Боб. – Единственно достойная! Гельмут говорил тебе…
– Ах да, семейный склеп. Это же абсурдно!
– Значит, нет?
– Нет.
– Почему?
Вопрос повис в воздухе, как сноп фейерверка, который сейчас разорвется.
– Новый скандал во Вреденхаузене! Сначала свадьба, потом сразу похороны? Как это людям объяснить?
– Пусть люди выкусят!
– Они не будут этого делать! У них больше вкуса, чем ты о них думаешь. – Хаферкамп вынул сигару из ящичка кедрового дерева, отрезал кончик, закурил и проводил взглядом первые голубые облачка: – Все делалось для того, чтобы вытащить тебя. Мы покупали правду и переделывали ее. Ты позаботился о том, чтобы никто не сидел без дела.
– Хорошо, хоть ты признаешь, что манипулируешь людьми.
– Я никогда не отрицал этого, в нашем узком кругу. Но я хочу, чтобы ты это осознал и оценил. Мы спасли тебя от пожизненного заключения.
– Это стоило жизни Марион!
– Если бы ты хоть на мгновение смог мыслить логически, хотя бы сейчас… Кто привел ситуацию на грань катастрофы?
Боб Баррайс опустил голову. «Это какая-то скала, – подумал он. – Об него можно разбить себе голову. Его не взорвешь, он ушел корнями глубоко в землю… Либо разлетишься на куски, столкнувшись с ним, либо нужно его обойти. Третьего просто не дано. Только убийцей можно было бы еще стать. Но и это он учитывает. Он знает, что я трус, что я боюсь смерти. Я играл с ней в прятки, но никогда не заключал ее в свои объятья. Даже во время гонок… потому никогда и не выходил из них победителем. Трус в тоге героя. Мышь, забравшаяся в шкуру льва. Как я смешон, как жутко смешон…»
– Что… что будет с Марион? – тихо спросил он.
– Она будет похоронена в Эссене. Первым классом, разумеется.
– Разумеется, – повторил Боб с горечью. – У ее могилы должен был бы петь хор ангелов.
– Мои связи с небом не простираются так далеко, но наши отчисления в пользу церкви открывают многие ворота.
– Надгробие?
– Конечно. На нем будет стоять: Марион Баррайс.
– Спасибо. Купи могилу для двоих. Я хотел бы лежать рядом с Марион.
– Отклонено. Баррайсу место в фамильном склепе.
– Опять все сначала! – заорал Боб. – Марион тоже Баррайс!
– На мир можно смотреть снизу и сверху. Он выглядит по-разному, но остается все тем же старым миром.
Боб капитулировал. Когда Хаферкамп ударялся в философию, все теряли способность к сопротивлению. Для каждой ситуации находилось мудрое изречение, приводившее все в равновесие, которое было для Хаферкампа основой миропорядка: на одной чаше весов – весь мир, на другой – Баррайсы. Тогда весы были уравновешены.
– Я уеду в Канны, – сказал Боб. – Навсегда. Я никогда больше не переступлю границы Вреденхаузена, только в гробу. Условие – мое месячное содержание должно переводиться регулярно.
– Гарантирую.
– Квартира, полностью обставленная. Новый спортивный автомобиль. Старые требования.
– Выполнено. – Хаферкамп быстро что-то пометил себе. – Когда ты уезжаешь?
– Сразу после похорон Марион.
– Значит, через три дня.
– Да.
Они стояли друг против друга как чужие люди, которые случайно встретились, обменялись парой вежливых фраз и которым нечего больше сказать друг другу. Боб развернулся, чтобы уйти, но Хаферкамп постучал пальцами по мраморной столешнице.
– Ты стал забывчив, Боб. Боб оглянулся. Новая атака?
– В чем дело? – спросил он, тяжело дыша.
Хаферкамп показал на узкую полоску бумаги перед собой.
– Чек.
– Это деньги Марион.
– Я дарю их тебе. Как стартовый капитал.
Боб колебался. Цифра 100 000 завораживала. В его воображении она превращалась в пальмы, пляжи с белым песком, казино, красивых женщин, дорогие отели, накрытые столы, шумные веселья. И прежде всего женские тела всех цветов. 100 000… Ключ к забвению…
Боб медленно вернулся, нагнулся и накрыл чек ладонью. Потом он придвинул его к себе и смял пальцами, прежде чем сунуть в карман брюк. Хаферкамп смотрел на все это с ухмылкой, которая вызывала у Боба привкус смерти.
Они добились своего. Благородно, элегантно, с рыцарской непринужденностью. С волчьим великодушием.
Боб Баррайс получал дивиденды со смерти своей жены.
Он жил на содержании у покойницы. Маленький, жалкий субъект, продавшийся за сто тысяч марок.
– Я вас ненавижу! – глухо проговорил Боб. – О Господи, эта ненависть душит меня!
Потом он выбежал наружу, оттолкнул дворецкого Джеймса и, раскинув руки, бросился на свежий воздух.
В тот же день хоронили Эрнста Адамса.
Похоронная процессия, собравшая больше тысячи человек, двигалась по направлению к кладбищу вслед за погребальным катафалком, запряженным двумя вороными, с гробом, полностью закрытым огромными венками.
Рядом с пастором, непосредственно за гробом, вышагивал Теодор Хаферкамп в парадной визитке и цилиндре. Он знал, что большинство людей пришли не ради того, чтобы проводить старого Адамса, а чтобы поглазеть на него, хозяина Вреденхаузена, организовавшего эти похороны, подобные которым по роскоши они видели только по телевизору. Вокруг могилы в три ряда стояли ветераны войны, к числу которых относился Адамс и почетным членом общества которых был также Хаферкамп. Заводская капелла ждала сигнала, чтобы заиграть хорал в честь «доброго товарища», пастор приготовился к душещипательной речи… Потом наступил торжественный момент, когда Хаферкамп подошел к могиле, выложенной еловыми ветвями, и произнес одну из своих знаменитых речей. И вот были приспущены знамена различных обществ – их оказалось одиннадцать, и, наконец, стало ясно, сколько обществ во Вреденхаузене вообще (все они были облагодетельствованы Хаферкампом), – после этого гроб опустили в могилу и произнесли молитву. Отче наш…
… и остави нам долги наши…
… и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого…
Вместе со всеми молился Теодор Хаферкамп, громко, чтобы все слышали, – великий человек, способный увлечь за собой…
Похороны Марион, состоявшиеся через два дня в Эссене, были, напротив, актом одинокой любви. За гробом шел один Боб Баррайс. Кроме него, пастора и шести человек, несших гроб, не было никого… Маленькая панихида в кладбищенской часовне при громадных свечах и благоухающих венках из цветов, заказанных Хаферкампом, была сольной партией для Марион и Боба. В полном одиночестве сидел он перед гробом, сложив руки, красивые карие глаза без слез подернулись печалью, лицо было неподвижным, словно окаменевшим. В своей визитке он больше походил на манекенщика, случайно вместо фотоателье забредшего на кладбище.
Органист лишь после долгих уговоров и чаевых в пятьсот марок согласился сыграть соло на трубе из «Обречен на вечность». Когда отзвучали последние аккорды фисгармонии и Боб вышел из часовни, снаружи его ждал Гельмут Хансен. В руках он держал огромный букет алых роз на длинных стеблях. Боб вздрогнул и подошел к Хансену.
– Благодарю тебя, – тихо сказал он и протянул руку. – Гельмут, я не забуду этого! Проклятый пес, ты в третий раз спас мне жизнь…
Потом они стояли у могилы Марион, взявшись за руки, как дети, и смотрели, как могильщики засыпали гроб землей. Боб хотел вобрать в себя ощущение бесповоротности этих мгновений. Он, как наркотиком, упивался этим зрелищем.
– Теперь куда? – спросил он, когда они очутились за воротами кладбища. Мир действительно опустел, и Боб почувствовал это с гнетущей отчетливостью.
– В Дюссельдорф. – Гельмут Хансен взял его под руку. – Покупать тебе новую спортивную машину. Какую марку?
– Мазерати Джибли.
– Пошли…
Уже ночью увяли розы на могиле Марион. Теплый ветер предвещал наступление лета. Через четыре дня высохли венки, и Тео Хаферкамп сказал:
– Сейчас он въезжает в Каннах в свою новую квартиру. Что за человек! Даже о матери ни разу не спросил…
В один из волшебных бархатных вечеров, какие бывают только на Ривьере, совершенно случайно на набережной встретились Боб Баррайс и Фриц Чокки. Они были одни и неожиданно столкнулись нос к носу, перегородив друг другу дорогу, как два автомобиля на перекрестке.
В то время как Чокки смотрел сквозь Боба невидящим взглядом, лицо Боба засияло от радости.
– Чокк! – воскликнул он. – Старик, вот так встреча! Ты в Каннах? Пойдем к Максиму? Или ко мне? Да, ко мне. Я теперь живу здесь. У меня маленькая квартира в новом высотном доме Фиори! Вид на море, просто мечта! Пошли…
Чокки оглядел Боба и насупил брови.
– Простите, вы меня с кем-то спутали, – сухо проговорил он. – Это, должно быть, ошибка…
– Ошибка? Старик, Фриц… – Боб ничего не понимал. Он похлопал Чокки по груди. Тот отступил на шаг назад, явно тяготясь встречей. – Разве ты не Фриц Чокки?
– Да, меня зовут так. – Лицо Чокки от высокомерия вытянулось и стало похожим на резиновое. – И тем не менее это ошибка… Вы заблуждаетесь, если думаете, что знаете меня. Я всю свою жизнь избегал общения с людьми вашего сорта…
Он вытянул руку, оттолкнул Боба и прошел мимо с выражением неприступной гордости, опалившей Боба испепеляющим зноем. Только теперь Боб понял, что Канны останутся раем, на который он сможет смотреть через забор, и никогда не попадет внутрь. Окружение Фрица Чокки было тем обществом, добиться расположения которого Боб всегда стремился и без которого он уже не мыслил своего существования. Это была последняя цель, которая ему оставалась в жизни: быть звездой высшего общества. Пусть на деле это означало быть сверкающим мыльным пузырем, позолоченной пустышкой, всеми восторженно принимаемым прожигателем жизни, героем тысячи ночей, мужчиной-землетрясением.
И вдруг появился Чокки и захлопнул перед его носом дверь.
– Ах ты скотина… – тихо произнес Баррайс, глядя вслед Чокки. – Жалкая скотина! Мы еще встретимся с тобой один на один!
Три часа он слонялся по каннским улицам, пока не увидел Чокки на террасе отеля «Англетер» за бутылкой кампари. Рядом с ним за столом развалились Эрвин Лундтхайм, наследник химического концерна, Александр Вилькес, сын судовладельца, и Ганс-Георг Шуман, наследник электроконцерна.
Боб Баррайс прижал подбородок к воротнику, вошел на террасу, облюбовал себе свободный столик рядом с украшенной цветами балюстрадой и заказал полбутылки охлажденного шампанского с апельсиновым соком.
– А вот и он, – лениво объявил Чокки. – Сморщенный плейбой. Будет липнуть к нам как банный лист. Ребята, мы должны что-нибудь придумать. Там, где появляется Боб Баррайс, единственный шанс на выживание – это самозащита.
Вечером посыльный вручил Бобу Баррайсу в его квартире в высотном доме Фиори коробочку. В ней лежал маленький, инкрустированный переливающимся перламутром пистолет, заряженный боевым патроном, и записка: «В стволе только один патрон – этого достаточно».