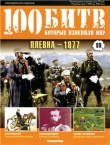Текст книги "Война в Малой Азии в 1877 году: очерки очевидца."
Автор книги: Григорий Градовский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
– Да откуда же они стреляют? Ведь на этой высоте, впереди, наши, кажется, батальоны?
– Да, это мингрельцы и грузинцы. А вот за ними, видите ли этот дальний бугор, вон дымит? Оттуда они и стреляют.
– Сколько же это будет шагов?
– Шагов 2 500, а может, и целых 3 000 будет.
Не успел подивиться я такому неожиданному и некоторыми и до сих пор упрямо отрицаемому факту, как получил наглядное доказательство справедливости слов командира батареи. Пройдя несколько вперед, к первому орудию, я почувствовал, что над головой моей пролетело что-то вроде жужжащего жука.
– Что это такое? – спросил я находившегося в двух шагах от меня рослого, статного урядника из конвоя генерала Геймана. Не успел урядник открыть рта для ответа, как, сердито сверля воздух, над нашими головами пролетела и тяжело шлепнулась сзади, вздымая черный столб земли, турецкая граната, по счастью, неразорвавшаяся, а между мной и урядником снова пронесся «жук».
– Пуля, ваше благородие, – проговорил, наконец, урядник.
Послышался новый звук приближающегося снаряда; на этот раз, кажется, еще ближе, будто прямо на нас. Смотрю я в глаза уряднику, а он на меня в упор уставился. Граната все ближе и ближе. «Как бы не нагнуть голову», – думаю я в эту секунду, и что есть силы стараюсь держать ее прямо. Вдруг вижу, урядник делает нервическое движение, точно ударил его кто-нибудь по голове, и в этот момент какая-то плотная, тяжелая вещь с металлическим звуком грузно ударилась в землю и раздался взрыв. По счастью, никого не задело, урядник только «поклонился» гранате...
Генерал Гейман, в ожидании выполнения сделанных им распоряжений, присел сбоку батареи на поданный ему складной табурет. Свита его стояла подле; лошадей отвели в сторону, к зарядным ящикам. Солнце уж почти село и быстро наступали сумерки. Стрельба, видимо, начала ослабевать; наши почти не отвечали. Видя, что еще долго придется ждать прихода мингрельцев и что сражение можно считать конченным, я сел на коня, чтоб засветло возвратиться к Корпусному штабу.
Еду мимо прикрытия. Лежат эриванцы за бугром, разговора не слышно – тоска, видно, одолела, утомились дневным зноем, трудностями перехода, бездействием во время сражения. В сумерках разглядываю знакомые лица офицеров.
– Здравствуйте! Что, благополучно?
– Ничего...
– Неужели и сюда хватают пули?
– А вот видите... Навесно валяют... А там что?
– Плохо, кажется...
– Завтра наверстаем...
– Еще бы!
Спускаюсь с бугра и выезжаю на дорогу, по которой должна была идти в бой колонна генерала Комарова, принявшая, по недоразумению, несколько левее. По этой дороге санитары несли теперь раненых. Остановились, поставили носилки; кто снял шапку и вытирает крупные капли пота, выступившего на лбу, кто присел и отдыхает от тяжести ноши; а «ноша» лежит недвижно, прикрытая шинелью. Какое– то смешанное чувство не то боязни, не то сожаления мешает смотреть на раненого. Несколько пуль просвистало и шлепнулось на дороге
– Несите, братцы, а то и вас перебьет... Много ли раненых?
– Страсть!..
Носилки поднимаются, раздается болезненный, за сердце хватающий стон и печальная «ноша» медленно, слегка колыхаясь, двигается дальше.
–В ногу иди! – доносится запыхавшийся голос санитара.
Ехать по дороге было кружно; направившись напрямик, я надеялся достигнуть Корпусного штаба прежде наступления полной темноты. Свернул коня и еду между камней прямо на гору, на которой, казалось мне, я оставил командующего корпусом. Становится все темнее и темнее! Едва взъехал я на вершину горы, как пришлось снова спускаться и опять впереди был еще более крутой подъем. Я очутился в положении человека, не знающего, куда он едет. Крутизна горы страшная, лошадь усталая, некормленная целый день, часто останавливается и тяжело дышит. Я слез и веду ее в поводу. «Каково же было им, там, под пулями, где подъем в сто раз труднее», – думаю я, едва переводя дух. Взобравшись на высоту, распознаю, наконец, местность, где находился Корпусный штаб, но его уже не было. Влево, верстах в двух, светился одинокий огонек; но дорога, вспоминал я, была впереди. Взбираюсь опять на седло; лошадь осторожно, ощупью ступает между камней. Вдруг, натыкаюсь на человека.
– Не знаете ли, где Корпусный штаб?
– Там где-то, впереди...
В темноте распознаю офицера; идет тяжело, прихрамывая.
– Что с вами?
– Ранен.
– Вы откуда?
– Оттуда... Не можете ли указать, где перевязочный пункт?
– Кажется за горой, с версту будет. Возьмите мою лошадь, я вас проведу.
– Нет, благодарю...
– Не церемоньтесь, пожалуйста
– Нет, благодарю, мне тяжело... я свою отослал...
– Да разве ближе нет перевязочного пункта?
– Какое там ближе!.. Верст пять уж иду... Там раненые по оврагам валяются...
Еще раз просил я офицера сесть на свою лошадь, но он упорно отказался. Через несколько шагов наткнулись мы на солдата с подвязанной рукой. Вместе мы добрались, наконец, до перевязочного пункта и распрощались. Где находился Корпусный штаб – никто не мог в точности указать. Вскоре встречаю солдата с двумя лошадьми. Он ехал взять орудие, оставленное в боевой линии после несчастного появления 6-й батареи, и спрашивал ближайшую дорогу. Указав ее, как мог, я получил взамен известие, что корпусный командир переехал на правый фланг, к тому месту, где находились наши девятифунтовые батареи. Позади послышался топот и скоро ко мне присоединилось несколько офицеров из штаба генерала Комарова. Это их сегодня турки отделали, сразу спешив почти всех. Генералу Комарову отдал лошадь один армянин, которых здесь много – они служат в виде волонтеров в конвое при штабах [8]8
По представлению генерала Комарова, армянин этот получил знак отличия военного ордена. На днях, пользуясь близостью своей деревни, он отправился навестить родных. В это самое время шайка курдов бросилась грабить деревню. Армянин схватил магазинный карабин, отбитый от турок, и уложил шестерых; братья его также оборонялись. Шайка убежала, но храбрый армянин остался с четырьмя ранами, от которых и умер. Братья его также переранены. Георгиевский крест попал на хорошую грудь и поощрил, вероятно, к новому подвигу!
[Закрыть]. Перебрасываясь словами о событиях дня, мы крупной рысью ехали по дороге. Впереди показалась артиллерия, с трудом поднимавшаяся в гору. Это была шестая батарея, так много пострадавшая в первый же период сражения; она не успела, кажется, сделать и выстрела.
Свернув влево, я набрел на кучу всадников. Это оказались казаки из конвоя корпусного командира. По распоряжению его они ездили в разные стороны, впереди позиции, и собирали раненых. С полверсты далее, по направлению к нашим батареям правого фланга, нашел я, наконец, небольшой обоз Корпусного штаба. Все здесь суетились около раненых, которых подобрали посланные или которые сами набрели на огонек. Это те, которые могли еще двигаться в начале и старались досветла выбраться из огня. Ближе всего им было добраться к нашему правому флангу, тогда как перевязочный пункт был на левом и отчасти в самом Зевине. У некоторых не хватило сил за трудностью подъема или за потерей крови, и они падали где попало замертво. В темноте, ощупью кое-как отыскивали теперь несчастных и сносили сюда, к Корпусному штабу. Значительное число раненых скопилось в Зевине, где первую помощь подавали им полковые врачи и где неотлучно находились, ободряя и утешая людей, полковые священники. Зевин, следует заметить, находился вполне под выстрелами и был обсыпаем неприятельскими пулями. Говорили, что еще гораздо большая часть раненых осталась на высотах и в оврагах, в боевой линии. Общее впечатление получалось, что у нас выбыло из строя в этот день не менее двух тысяч человек.
Пристроив кое-как своего коня, я подошел к костру, сложенному из сухого бурьяна. Все лица были мрачны, разговор не клеился; ни обычных шуток, ни смеха. Какая разница с вчерашним настроением! Страшный дневной зной сменил холод. Спереди, у костра, грело, а сзади так свежо, что хоть шубу надевай. Послышался грохот артиллерии, занимавшей впереди и наискосок позицию. Костер велели потушить; вблизи находились зарядные ящики. Мы встали и отошли несколько назад.
Голод и жажда давали себя сильно чувствовать; но корпусный маркитант был из самых плохих. Он часто повторял, что приехал «из-за славянской идеи», а потому кормил из рук вон дурно и обирал нас безбожно. Он делал вдобавок дерзости по поводу самых справедливых замечаний и упреков. Теперь от него ничего нельзя было добиться – он «спасал раненых», т.е. дал им две-три бутылки прокислого виня Вдруг видим, идет Иван, камердинер генерал-адъютанта Лорис-Меликова, и несет вместе с денщиком огромный самоварище. Иван – расторопный, добрый, услужливый человек, бывший солдат, преданный до мозга костей своему господину. У Ивана все спорилось, он всюду поспевал и всегда имел необходимое на черный день. Он успел уже поухаживать за ранеными, уложил офицеров в коляску, напоил чаем, вином, а теперь подумал и о нас.
– Голубчик Иван, дайте чаю!..
Спасительный во всякое время и на всяком месте, чай явился к нашим услугам. Корпусного командира еще не было – он объезжал раненых и делал распоряжения к их сбору и призрению. Возвратился генерал Гейман и, спросив, где генерал-адъютант Лорис-Меликов, отправился его отыскивать. Когда они возвратились, для них отыскали и разбили две палатки. Мы расположились под открытым небом. Бывшую у седла бурку свою я почти силой навязал генералу Шульцу, чтоб хотя отчасти отплатить за его постоянное внимание и гостеприимство; сам же примостился к г-ну де Кутули и г-ну Николадзе, у которых оказалось кое-что теплое. Усталость взяла свое, и я кое-как задремал. По временам точно во сне доносились с зевинских высот ружейные выстрелы; мне казалось, что это турки пристреливают и истязают наших раненых.
Часа через три, едва рассвело, слышу я сквозь сон, как чей-то голос недалеко от меня говорит:
– Нет ли здесь трубача? Прикажите зарю играть.
Я привстал и оглянулся. Вижу – генерал-адъютант Лорис-Меликов стоит у своей палатки и отдает приказание. Потом он вынес табурет и сел. Лицо его было желтое, глаза с черными кругами вокруг. Невыразимая печаль и истома выражались на этом лице; видно было, что командующий корпусом ни на секунду не смыкал глаз. Сердце сжималось, глядя на него. В эту секунду я мог наглядно взвесить ту ответственность, которую несут на себе начальники войск; я понял, что должен чувствовать главнокомандующий в случае неудачного исхода сражения. Сегодня победа – и слава, ум, поклонение у ног победителя, все хорошее признается за ним; завтра неудача – и посыпятся обвинения, упреки и назидания; всякий глупец и тот с мнением, с советом! А эти уложенные между камней, на чужбине, люди, эти стоны и страдания раненых – это еще хуже!..
Глаза наши встретились; я поклонился. Генерал– адъютант Лорис-Меликов печально покачал головой в ответ. Верный Иван тоже не спал и уже нес стакан чая «своему генералу». Командующий корпусом приказал подать и мне. В это время отыскали трубача и раздался какой-то тоскливый, нестройный звук трубы. Еще одна труба где-то одиноко, как бы нехотя, прозвучала в ответ, и потом все смолкло, наступила опять тишина. Необходимо заметить, что момент, когда в лагере или на бивуаке играется утренняя или вечерняя заря, очень эффектен. Сигнал подает труба или барабан у главного корпуса; немедленно, повсеместно, переливами во всех концах лагеря раздаются веселые или торжественные звуки. По вечерам, между повесткой и зарей, играет музыка, слышится «Коль славен», гимн; солдаты поют песни, молитву; утром же все оживляется, словно приветствуется зачинающийся, светлый и веселый день. Не то происходило в это памятное утро, после зевинской битвы. Заревая труба звучала как-то похоронно, отклика на нее не было, точно все, что жило еще вчера, не существовало более – мы остались одни среди азиатской пустыни.
Я стал смотреть в бинокль на турецкий лагерь, видневшийся верстах в четырех-пяти, и на окружающие его высоты. На горах и оврагах, несколько часов назад оглашавшихся невероятной пальбой, криками сражающихся, стонами умирающих и раненых, где, казалось, каждый камень двигался и дышал враждой и смертью, – все было тихо, безмолвно. Восходящее солнце, как ни в чем не бывало, золотило своими лучами эти возвышенности, заглядывало в ущелья, где не высохла еще рекой пролитая человеческая кровь. Но впереди, в турецком лагере, на ложементах и батареях кипела сильная работа; турки самым усердным образом копались в земле, сооружая новые завалы, исправляя прежние. Особенно копошились они на своем левом фланге, где действовала их кавалерия, осознав вероятно, что здесь была уязвимая сторона их позиции, и что они дорого поплатились бы, если б были атакованы отсюда. Хорошо виделось потом, что резервы их были наготове, все ложементы наполнены людьми. Очевидно, турки ожидали возобновления нападения. Я заметил, как осторожно, редкой цепью турки подходили к местам, которыми овладели во время боя гренадеры, и как все смелее и смелее подвигались они вперед, занимая вчерашние свои передовые позиции.
Наших войск там уже не было, они отошли назад после того, как раненые и убитые были, по возможности, вынесены. До самого утра наша цепь, поддержанная необходимыми резервами, оставалась на занятых вчера местах, не допуская здесь турок не только двинуться вперед, но даже пошевелиться. Слышанные ночью выстрелы были из нашей цепи. Пользуясь лунным светом, избранные стрелки держали турок в почтительном отдалении, не дозволяя выглянуть из окопов. Меткими выстрелами наша цепь мстила за вчерашний губительный огонь и охраняла раненых и убитых. Только от 20 до 30 человек, большей частью убитых, «пропали без вести», т.е. остались на месте; в этом числе находились и два убитые офицера – Родзевич и Боровик. Остальные все были вынесены.
Да, турки готовились к встрече нового нападения; но мы не нападали. Накануне зевинской битвы в турецком лагере было от 10 до 15 батальонов; ночью и утром в день сражения, Мухтар-паша успел довести это число до 23 батальонов, не считая кавалерии и артиллерии; ночью же и к рассвету, после битвы, уже весь корпус Мухтара-паши сблизился к Зевину и готов был принять участие в сражении, если б оно возобновилось. Мы потеряли от 850 до 900 человек; некоторые батальоны Грузинского и Тифлисского полков сильно ослабли; в Грузинском полку выбыло из строя 358 человек и пять офицеров, в Тифлисском 321 и 18 офицеров, причем, начиная от командира полка, выбыли из строя почти все батальонные и ротные командиры; Мингрельский полк потерял до 100 человек и целее всех были только эриванцы. Возобновить атаку значило бы рисковать жизнью еще 2 000 или 3 000 человек, что даже при успехе, весьма вероятном, очень чувствительно подорвало бы небольшой наш отряд. Если б Мухтар-паша, у которого насчитывалось от 45 до 50 батальонов, был даже сбит с зевинской позиции, все-таки он оказался бы в несколько раз сильнее нас, тем более, что наша кавалерия и конная артиллерия были страшно заморены вчерашним «обходным движением», неожиданно оказавшимся и слишком кружным, и чересчур трудным, благодаря неровностям местности. Наконец, у нас едва хватало перевозочных средств для находившегося уже числа раненых; было бы слишком опрометчиво начинать новую битву, не имея уверенности, что в случае неуспеха все наши раненые могут быть спасены. Наконец, одна из существеннейших целей экспедиции – отвлечение корпуса Мухтара– паши от небольшого нашего эриванского отряда, была достигнута. По всем этим причинам командующий корпусом решил не возобновлять сражения и начать отступление к Карсу.
Между тем генерал Тергукасов ожидал исхода зевинской битвы, оставаясь на своей позиции, с которой он так славно отбил 9 июня наседавшие на него превосходные силы Мухтара-паши. Штурмуя Зевин, мы были в гораздо меньшем числе, сравнительно с турками, засевшими в своем укрепленном природой и искусством гнезде; там же маленький отряд генерала Тергукасова отразил турок, превышавших его численностью в несколько раз. В случае успеха под Зевиным эриванский отряд мог сблизиться с нами и соединенными силами разбить Мухтара-пашу или загнать его в Эрзерум. Теперь же эриванскому отряду ничего не оставалось более, как отступить и возможно скорее спешить на выручку Баязета. В таком смысле и послано было приказание генералу Тергукасову.
Отступление свое генерал Тергукасов вынужден был совершать медленно, шаг за шагом. Против него оставался, все-таки, довольно сильный турецкий отряд. Между тем в эриванском отряде было не менее 400 раненых, с которыми спешить было невозможно; сверх-того, несколько тысяч армян, целыми семействами, с имуществом, опасаясь быть перерезанными турками, не отставали от наших войск, замыслив переселиться в Эриванскую губернию. Отправляя на полперехода назад раненых, означенных переселенцев и все тяжести, генерал Тергукасов вынужден был часто останав ливаться, чтоб давать отпор наседавшим на него туркам. Отступление, поэтому, обратилось в ряд ежедневных стычек с неприятелем. Отойти непосредственно к Баязету генерал Тергукасов не мог, так как у него ощущался уже сильный недостаток в зарядах и продовольствии. Направился он, поэтому, на Игдырь. Здесь, позаботившись о раненых и отделавшись от переселенцев, генерал Тергукасов пополнил свои запасы и направился к Баязету, гарнизон которого, состоявший из 600 человек, и был, наконец, освобожден от осаждавшего его в течение 23 дней тринадцатитысячного турецкого отряда.
Отряд генерала Геймана также не спешил в своем отступлении, и прежде, нежели тронуться от Зевина, мы целый день простояли на месте. Турки не выказывали ни малейшего желания нас тревожить.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Поездка в Александрополь
I
Утром 14 июля корреспондент американской газеты «New York Herald», г-н Уиллер, и я оседлали лошадей и отправились в Александрополь. Целью нашей поездки было, главным образом, желание осмотреть военные госпитали, а потом у нас имелись и другие, более личные побуждения: мы, что называется, порядочно поизносились – необходимо было сделать кое какие покупки, да и вообще освежиться от лагерной жизни.
Путь от Кюрюк-Дара к Александрополю не похож теперь на прежний. Когда два месяца назад я ехал в отряд, находившийся в Заиме, дорога веяла какой-то пустыней, но зато была вполне безопасна и почти не охранялась; по крайней мере, охрана эта не бросалась в глаза. Говорили тогда, что такую безопасность тыла армии следует приписать прекрасному обращению с населением, а также и: тому, что главнейшие разбойники страны – карапапахи и куртины, отчасти курды – состоят на нашей службе и, получая хорошее жалованье, не заинтересованы в грабеже, который в присутствии русской власти становился к тому же делом довольно рискованным.
Нужно заметить, что карапапахи не представляют какой-нибудь национальности. Это сброд всякой сволочи, не желающей работать и живущей за чужой счет, большей частью путем насилия и грабежа. Значительная часть преступников Закавказья и вообще те лица, которым не живется на месте, стараются пробраться в Малую Азию, где входят в состав карапапахов. Слово «карапапах» в переводе означает черная папаха, черная шапка; в сущности же, карапапахи не носят черных шапок: головной убор их состоит из грибовидной, толстой бараньей шапки, рыжего или темно– коричневого цвета, глубоко надетой на затылок и дающей отличную тень шее и всему лицу; шапка эта редко когда снимается и служит отличной подушкой во время сна. Ее носят и армяне. Остальной костюм карапапахов также мало отличается от армянского: это казакин со сборчатыми, довольно длинными полами, с разрезом на груди, серого и часто голубого цвета и широкие шаровары. Вооружение их состоит из ружья или старой турецкой винтовки, допотопного пистолета, кинжала и кривой шашки. Курды, наоборот, представляя национальность, имея свой язык и сохраняя стародавние обычаи, отличаются яркими красками своего костюма, имеющего вполне восточный вид. Они носят на голове небольшую чалму и вооружены, кроме шашки, длинными, тростниковыми пиками. Живя отчасти в нашем Закавказье, отчасти в Армении, они всегда наготове подняться. Одно время было даже слышно, что около Эрзерума против турок восстало до 10 000 курдов. Очень вероятно, что при приближении нашем к Эрзеруму, курды охотно присоединились бы к нашим войскам. В настоящее же время та сотня курдов, которая находится с нами, служит своего рода восточной прикрасой отряда, не представляя никакого боевого значения.
По общим отзывам, было в высшей степени тактично, что самые беспокойные элементы населения в занятой нашими войсками стране были привлечены на службу. Таким образом они были обессилены, находясь всегда под надзором; мирное население было избавлено от их набегов и насилий; тыл армии получал совершенную безопасность, действительно, приманка оказалась хорошей. Вчерашний разбойник и грабитель, имевший счеты с законом и правосудием, открыто гарцевал сегодня рядом с Корпусным штабом, исполнял различные поручения относительно доставки письменных распоряжений и известий, в то же время, получал за это до 30 р. в месяц жалованья. Главнейшие же личности из этого сброда, то есть разбойники из разбойников, разыгрывали роль офицеров и получали до 150 р. жалованья в месяц. Но есть и оборотная сторона медали. Не знаю, насколько выгодно для достоинства русской власти, если мирные жители могут считать ее хотя во временном и наружном только союзе с теми элементами населения, которые во всякой благоустроенной стране преследуются законом и которые справедливо вызывали ненависть и презрение у каждого честного местного труженика и семьянина. С другой стороны, карапапахи далеко не всегда оставались в той роли невинной голубицы, которую они, по-видимому, приняли на себя, состоя на нашей службе. Почти ежедневно жители приносят жалобы на совсем не церемонное обращение этих «союзников» наших с их собственностью. Правда, подобные жалобы всегда удовлетворялись, по, главным образом, за счет казны, так как в большинстве случаев очень трудно было доискаться правды и обнаружения виновных. При взятии, например, Ардагана карапапахи были уличены в ограблении города, о чем и заявлено было даже в «Тифлисском вестнике». Быть может, подобные поступки и послужили благовидным предлогом для тех обвинений в насилии и грабеже, которые взведены были на русскую армию туркофильской частью иностранной печати и явились даже поводом к парламентским интерпелляциям. Между тем, малейшая тень насилия со стороны войск преследуется здесь с чрезвычайной строгостью; да и нужно совсем не знать, что такое русская армия, чтоб хотя на минуту сомневаться в добрых отношениях ее не только к мирному населению, но даже и к врагу, раз он обезоружен. Следует, напротив, сказать, что здешнее население скорее балуется русской военной властью: с ним иногда нe в меру деликатничают, платя решительно за все. Пруссаки в 1870 г. брали даже сигары и вино для солдат в виде контрибуции с занятых селений и городов Франции; перед носом же нашего солдата, я сам видел, как дерзко захлопывается иногда дверь сакли, когда во время похода, усталый и голодный, он протягивает 15 или 20 к. чтоб купить хлеба или молока...
Итак, карапапахи составляют не совсем выгодный и удобный элемент для нашей армии. С другой стороны, нынешние обстоятельства показывают, что не привлечение части их в нашу службу, а другие причины служили обеспечением тыла нашей армии. Когда мы шли впереди, в чувствах и излияниях преданности не было недостатка, порядок никто не смел нарушить. Теперь же, при временном, надеюсь, отступлении наших войск, когда, несчастное христианское население подвергается разграблению и всяческим насилиям со стороны турецких войск, когда от варварской мести не ускользает даже чисто оттоманское население, если только оно принимало нас без враждебности или искало покровительства. и охранных грамот у русских, властей, теперь, говорю, тыл нашей армии находится далеко не в том удовлетворительном положении, в каком я застал его два месяца назад. Снова появились разбойничьи шайки, совершающие набеги на мирное население у самой нашей границы; даже пограничные местности Закавказья не безопасны от налета этих хищников. По крайней мере, недавно приняты особые меры к усилению кордонной стражи и к охране нашей пограничной черты. Из самых достоверных источников передавали мне, что есть основание опасаться даже восстания среди мусульманского населения Эриванской губернии, куда, будто бы, уж и направились эмиссары Мухтара-паши.
Еще до войны было известно, что турки, на случай разрыва, сильно рассчитывают на восстание в пределах Кавказа. Восстание это, по их плану, должно было задержать на месте и занять большую половину кавказской армии. Этим путем облегчались наступательные действия турецких войск в Малой Азии, чем турецкое правительство надеялось воспользоваться в виде противовеса успехам нашего оружия на Дунае и в Балканах. Известно, в какой мере приведенные рассказы оказались верными. Едва началась война, как беспорядки возникли в Видинском округе; неудачные действия, дозволившие туркам занять Сухум и утвердиться в части нашего черноморского побережья, послужили поводом к восстанию в Абхазии. Значительная часть нашей кавказской армии действительно должна быть отдалена от главного театра войны; на всех пунктах мы оказались слабы, чтобы наступательно действовать против неприятеля. Обстоятельства вынудили нас пока занять оборонительное положение, а между тем, победа и движение вперед необходимы здесь как воздух. Понятно теперь то чувство, с каким: мы ждали подкрепление... В разнохарактерном, плохо сколоченном наружной связью населении Кавказа легко обнаруживается то, что обыкновенно считается отличительной чертой азиатцев: население всегда на той стороне, на которой в данную минуту находится видимая сила. В годы мира, к сожалению, мы не успели создать в этом населении другие, более нравственные и сочувственные к нам отношения. По господствующему в здешних административных сферах мнению, на эго мало и столетия; быть может, для этого необходимо еще кое-что; но говорить об этом в настоящее время не совсем удобно...
В армии Мухтара-паши находится старший сын Шамиля, Казы-Магома, живший после смерти бывшего имама в Константинополе и получавший от нашего правительства пенсию в 6000 р. Казы-Магома прибыл, говорят, с тысячью всадниками, набранными из выселенных с Кавказа горцев. В том же гостеприимном лагере Мухтара-паши имеются, говорят, два иностранных легиона, которые здесь называются «венгерскими», но в состав которых входят не одни венгерцы: тут слышно много англичан и польских эмигрантов. Присутствие этих элементов в армии Мухтара-паши сказывается не только в чисто военном отношении, но и в таких явлениях, как посылка эмиссаров в наши пределы. Мало того, иностранцы, прислуживающие туркам, пустились уж на совсем нелепую попытку – ни более, ни менее, как на попытку вызвать беспорядки в нашей армии посредством прокламаций. Прокламации, сколько известно, появились во время нашей саганлугской экспедиции, когда началась усиленная бомбардировка Карса. Невежественные, полуграмотные авторы воззваниями приглашали русских соединиться с турками для борьбы против «ретроградного» русского правительства под знаменем «радикального» султана! Само собой разумеется, что подобные прокламации могли встретить только смех, даже не негодование, всех, кто имел случай их прочесть. Наша армия, та молодежь, которая наполняет ее ряды, отважно жертвуя своей кровью за Отечество, по отзывам даже самых старых служилых, сильно опасавшихся за дух и дисциплину новых молодых войск, не раз уж имела случай наглядно доказать, что она не только ни в чем: не уступает старой армии, но во многом даже превосходит ее. Что же, кроме колкой насмешки или сожаления, могут возбуждать подобные выходки эмиграции, очевидно, все еще ничему не научившейся и ничего не забывшей?! Эти выходки могут оказаться пригодными только тем элементам нашего общества, которые решаются создавать свое личное благополучие на проповеди разлада, недоверия, на полном отсутствии любви к человеку и веры в его добрые качества. Как бы ни было, дорога к Александрополю, т.е. главный путь в тылу нашей армии, представляет теперь совершенно иной вид, нежели два месяца, даже месяц назад. Правда, движение по ней в настоящее время даже более сильное, чем прежде, – точно наша старая широкая почтовая дорога, но зато мер к охране сообщения принимается больше, самая свобода сообщения становится с каждым днем труднее...
II
Дорогой в Александрополь, не доходя Кизилчихчаха, мы встретили отряд пехоты, шедший со всеми военными предосторожностями, даже с цепью по бокам, точно в виду неприятеля. Это был лучший признак, что тыл нашего отряда, даже в виду александропольской крепости, не считается безопасным: расставленные через каждые три версты, и даже чаще, казачьи пикеты дополняли это впечатление. Тем не менее, мы ехали одни, нисколько не помышляя ни о турках, ни о разбойничьих шайках карапапахов или куртин. Чтоб скоротать незаметно время, мы оглашали воздух Малой Азии никогда неслыханными в ней мотивами современных опер, что не раз заставляло встречных конных армян и арбщиков открывать «рот изумления» и провожать нас выпученными глазами.
– Двадцать два года назад, быть может, слышались здесь те же звуки, – заметил я г-ну Уиллеру.
– Нет, – справедливо возразил он, – в эпоху крымской войны этих опер не существовало.
Встречный отряд пехоты состоял из совсем новеньких людей. Все на них, начиная от мундира и кончая молодыми, бойкими лицами, веяло свежестью и здоровьем. Это были молодые солдаты, поступившие на службу только в последний призыв. Они шли теперь, обучившись военному делу, на укомплектование поредевших батальонов гренадерской дивизии. Еще раньше пришли в Кюрюк-Дара маршевые эскадроны драгунских полков. На душе легче становилось – необходимой нам силы прибывало!
Солдаты шли весело, не вразброд, как часто бывает на марше, а сохраняя ряды. Здороваясь и поздравляя с приходом, я, шутя, сказал, чтоб спешили; не ко турок удерет.
– Ничего, нагоним! – смеялись они в ответ.
Это был цвет нашего народа! Красивые, здоровые, веселые, с добрыми, умными глазами, они одним видом своим говорили, какая могучая сила скрыта в этом народе и в выделенной им из себя повой, преобразованной армии. Где эти наши алармисты? Пусть откроют глаза, если у них есть честь и сердце, и уразумеют хотя бы теперь, к какому народу они имеют счастье принадлежать, насколько основательны те страхи, которые порождали у нас в последние годы столько недоразумений! Кто имел случай часто сталкиваться с нашим: солдатом, тот, поистине, будет поражен той осмысленностыо, тем сознанием долга, которые сквозят в их разговоре, в поступках. После Зевина и, особенно, после отступления от Карса, лица солдат несколько приуныли. Но, помню, получена была депеша о взятии Никополя на Дунае; я подошел к группе свободных от службы солдат и сообщил им приятную весть. Нужно было видеть, как они обрадовались, как составили около меня кружок, как расспрашивали они о переходе наших через Дунай, где находится государь.