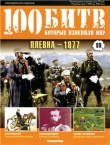Текст книги "Война в Малой Азии в 1877 году: очерки очевидца."
Автор книги: Григорий Градовский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Я вызвался послать телеграмму об этом в Петербург. Генералу Толстому очень понравилась моя мысль, и он обещал доложить об этом августейшей председательнице тифлисского отдела Красного Креста, Великой княгине Ольге Федоровне. Нужно заметить, что лед здесь ценится чуть не на вес золота; несмотря на заготовки, его далеко не хватит для потребностей раненых, а летом, когда наступит жара, заготовленный лед, представляющий тонкие пластинки, быстро растает. При таких обстоятельствах спасительным средством могут явиться только машины, приготовляющие лед. Чем более таких машин будет выслано, тем лучше; но желательно получить по крайней мере четыре – по одной на каждый из санитарных отрядов. Пусть родина вспомнит об участи раненых, которых теперь здесь наберется уже несколько сот! Теперь миллионы жертвуются на облегчение участи сражающихся за общее дело отечества, найдутся, конечно, охотники пожертвовать и означенные машины. Не следует забывать, что лед предохранит не одну рану от гангрены и вообще от печального исхода!
ГЛАВА ВТОРАЯ
На неприятельской земле
Александрополь. – Сборы в поход. – Переезд через границу. – Первые впечатления.
Из Тифлиса до Александрополя я ехал ровно двое суток благодаря задержкам на почтовых станциях и проливным дождям, испортившим дорогу, верст на 40 нешоссированную к стороне Александрополя. Промокший и разбитый, въехал я в пограничный наш город, в надежде отыскать в нем теплую комнату и сколько-нибудь сносный обед. Последние станции я ехал вместе с молодым офицером, князем Вяземским, внуком маститого поэта, перешедшим из гусар в горско-моздокский казачий полк, и с прапорщиком собственного Его Величества конвоя, М., также спешившим в армию.
Александрополь встретил нас негостеприимно. Это была сплошная яма жидкой грязи слоем не менее полуаршина, среди которой неприглядно торчали почти незаметные сакли с плоскими земляными крышами. Нужно удивляться, как могли разместиться в этом грязном городишке наши войска с корпусным и дивизионными штабами в течение долгих месяцев бесконечного выжидания войны. Кое-где в виде оазисов виднелись, впрочем, европейски устроенные дома да две-три церкви. К сожалению, александропольские гостиницы не нашли себе приюта в этих домах. Не без труда отыскали мы свободный номер в низеньком, грязном строении, носившем громкое имя: гостиница «Европа». Эта «Европа» оказалась хуже всякого буйволятника, в котором, по крайней мере, тепло. На дворе нас мочил дождь и бил град; в отведенном же номере мы очутились буквально под ливнем, немилосердно сочившимся сквозь потолок. Просьба отопить комнату, чтоб хоть немного избавиться от сырости, встречена была горячим протестом, опиравшимся на май месяц, который выглядел хуже петербургского октября, и указаниемна дороговизну дров, доходивших до 80 р. за сажень. Не менее горячее удивление вызвано было в хозяине предположением отобедать. Был уже четвертый час, когда, по его мнению, каждый порядочный человек в Александрополе перестает даже сознавать, что существуют на свете необедавшие люди. Вообще, с приезжими в Александрополе обращаются, как с иноплеменниками, которых можно подвергать всяким притеснениям, и не только не грех обобрать, но совершить это само небо повелевает. Едущие в армию, не имеющие знакомых или протекции, предоставляются на полный произвол трактирщиков и торговцев. За нечистую, сырую, не защищающую даже от дождя комнатку в три квадратные сажени дерут по два рубля в сутки, и вы должны считать себя еще счастливым, что не осуждены пребывать на улице, среди невылазной грязи.
Представившись коменданту, который живет в крепости, в версте от города, и посмотрев те четыре гладкоствольные орудия, которые являлись единственными представителями нашей осадной артиллерии при взятии Карса в 1855 г., мы сосредоточили все наши заботы и мечты на том, как бы скорее выбраться из Александрополя. Между Александрополем и нашим лагерем у Заима действовал уже телеграф и существовало почтовое сообщение; но на вновь учрежденных станциях имеются только по три тройки, предназначенные исключительно для возки курьеров и почтовой корреспонденции. Можно было нанять фургон у молокан, довольно густо поселенных вокруг Александрополя, за живописным Делижанским ущельем, на холодном и бесплодном перевале через Алагезские горы (замечу, кстати, что поселенные здесь молокане сохранили в одежде и постройках своих крупнейшие черты народного быта какого-нибудь Моршанского уезда); но как ни приятно было иметь дело с соотечественниками, заброшенными на дальнюю чужбину, мы предпочли купить лошадей и отправиться в Заим верхом. Нам сказали, что в лагере очень трудно достать верховых лошадей, без которых немыслимо обойтись в отряде; да и дорога для колес тяжела и неудобна. Едва ли не весь Александрополь узнал, что нам необходимы лошади, и на другой же день усатые армяне стали ловить нас в гостинице, на улице, в лавках с предложением своих услуг. Обдавая грязью, усердно работая ногами и плетью, крича во все горло, лихо скакали пред нами барышники, выхваляя достоинства своих малорослых прыгунов на жиденьких и почти всегда разбитых ножках. Хотя и за сравнительно дорогую цену, но, тем не менее, мы скоро приобрели кое-каких лошадей и запаслись всем необходимым для предстоящей дороги. Переезд через границу дозволен только днем. Поэтому, проведя еще ночь в Александрополе, мы только на следующий день, в девять часов утра, двинулись к Арпачаю, снабдившись пропускными билетами от воинского начальника. Небольшой караван наш состоял из нас трех и четырех армян, нанятых для перевозки вещей. Мы имели воинственный вид, вооружившись шашками и револьверами; три армянина высоко громоздились на вьюках, совершенно покрывавших, от хвоста до гривы, жиденьких лошаденок; четвертый, самый старший армянин, гарцевал без груза, играя роль проводника и распорядителя. Мы назвали его начальником нашего штаба. Все эти армяне были также вооружены, кто чем попало: шашками, кинжалами, уродливыми турецкими пистолетами, а у одного за плечами торчала даже персидская винтовка, более опасная, конечно, для самого владельца, нежели для неприятеля. Погода на этот раз поблагоприятствовала. Небо очистилось от облаков и солнце сильно пекло, когда мы подъехали к Арпачаю, составляющему нашу границу с Турцией. Эта узенькая речонка протекает верстах в двух от Александрополя и через нее перекинут теперь мост, быстро сооруженный: при переходе нашей пехоты, артиллерии и военного обоза за границу. У моста, с обеих сторон реки, расположено несколько каменных построек. Это были наш и турецкий пограничные блокгаузы. Тут-то 12 апреля разыгрался один из тех эпизодов, которыми, в виде неприятного сюрприза, были поражены передовые турецкие войска, когда наша кавалерия, при первой вести об объявлении войны, быстро перенеслась за границу и почти без выстрела захватила в плен или обратила в бегство неприятельские разъезды и посты. С любопытством смотрел я на эти каменные постройки, в которых еще недавно краснели фески турецких солдат, и у которых виднелись теперь спокойные и приветливые лица наших солдатиков. Какое-то неизведанное, трудновыразимое чувство овладело мной, когда наши лошади застучали копытами но доскам небольшого моста, перекинутого через Арпачай. Часовой делает честь; еще шаг – и мы на турецкой земле, в чужих владениях. Те же струи реки, такая же каменистая почва, сквозь которую скупо пробивается бедно зеленеющая трава и редкий полевой цветок, а между тем, там наше, родное, а здесь – чужое, турецкое. И задумчиво оглядываешься назад, точно стараясь отыскать, где скрывается эта невидимая черта, которая отделяет родину от чужбины, а в воображении, как бы в одной приветливой картине, обрисовывается вся, целиком, родная страна и та часть света, к которой она принадлежит, со всеми ее богатствами и учреждениями, со всеми результатами цивилизованной жизни и науки, с родными и знакомыми, и еще диче, пустыннее и безотраднее кажется расстилающаяся перед глазами картина другой жизни, другой части света.
– Пожалуйте, ваше благородие, бумагу; я сейчас сбегаю к капитану, – раздается вдруг приветливый голос, и ласковые звуки родной речи разгоняют задумчивость.
Предъявив наши бумаги словоохотливому офицеру, начальнику поста, очевидно, обрадовавшемуся случаю побалатурить с проезжими, мы продолжали путь. Дорога была совершенно пустынна. Время от времени на возвышенностях виднелись казачьи пикеты, главная задача которых сторожить телеграф, служащий как бы путеводной нитью и осязательным доказательством фактического завладения страной; эти же казачьи пикеты сопровождают почту и курьеров. Иногда мы обгоняли скрипучие арбы с артиллерийскими снарядами или стада, гонимые на убой в армию. Только издали, в глубоких оврагах, виднелись почти неприметные для глаза селения с турецким или армянским населением; указывали и на черкесские поселки, создавшиеся после окончательного покорения Кавказа, благодаря выселению некоторых горских племен с Кавказского хребта в Турцию. Ехали мы под палящими лучами солнца при неумолкаемых трелях жаворонка; горизонт замыкался высокой цепью гор, щедро покрытых снегом, веявшим холодом.
Многие в России имеют совершенно превратное понятие об этой части Малой Азии, считая ее по климату чуть ли не тропической страной. Не раз приходилось мне слышать совет запасаться как можно более летним платьем. Между тем, начиная от лесистого Делижанского ущелья, поражающего своими красотами даже самый избалованный глаз, местность быстро возвышается, и вся почти Древняя Армения находится на высоте от 6 000 до 7 000 футов над уровнем моря. Такая «высота» предполагает очень суровый климат. Деревьев здесь не видно до самого Саганлугского хребта; растительность довольно скудная, хотя хлеб в Карском пашалыке произрастает очень успешно, снабжая пшеницей наше Закавказье. Это объясняется тем, что в летние месяцы солнце берет, конечно, свое. Днем страшная жара, но малейший ветерок с гор заставляет помышлять о теплой одежде. Поэтому здесь почти никто не снимает толстого сюртука или черкески, а ночью можно согреться только под зимним одеялом, прикрывшись еще спасительной в непогоду буркой. Дожди и град падают беспрестанно, и почти ежедневно слышится гром.
В Кизил-Чахчахе, верстах в 20 от Александрополя, наши армяне потребовали сделать привал для корма лошадей. Мы нашли гостеприимный приют от солнца в сакле начальника поста, а кони наши угостились саманом и ячменем. Лошади здесь редко знают сено и вовсе незнакомы с овсом. Обычный их корм составляют ячмень и так называемый саман – мелко избитая пшеничная солома, происходящая от особого способа молотьбы хлеба. Хлеб молотят здесь какою-то доской с камнями внизу в виде зубцов, к которой припрягается лошадь. Снопы расстилаются на земле, работник садится на доску и погоняет лошадь. От этого солома мелко избивается, зерно остается внизу, а часть его, превращаясь в муку, смешивается с соломой. Этот род соломы составляет саман. При корме лошадей опытные люди, обыкновенно, подмешивают к саману ячмень, не давая его отдельно. Это заставляет лошадь хорошо пережевывать ячмень, делая его, таким образом, удобоваримой и питательной пищей. В летние месяцы важным подспорьем для корма лошадей и прочего скота служит трава. Из лагеря ежедневно все свободные от службы лошади высылаются на траву. Здешняя лошадь так привыкла к пастьбе, что при малейшей остановке, стоит только попустить поводья, как она склоняет голову, вытягивает шею и жадно щиплет траву, ловко выбирая ее между мелкими камнями, густо покрывающими землю.
После трехчасового отдыха мы снова сели на коней и часам к шести вечера достигли Кюрюк-Дара, знаменитого известной победой русских над турками в 1854 г. Имя Бебутова, как я имел случай убедиться, до сих пор живо сохраняется в памяти местного населения. Во время приближения нашего к Кюрюк-Дара налетела сильная гроза, воздух вдруг похолодел, и нас облило проливным дождем. Не желая измокнуть до костей и прибыть в Заим ночью, мы решили обождать рассвета в Кюрюк-Дара. Здесь расположен был небольшой наш лагерь, охранявший доставленную сюда осадную артиллерию и военный госпиталь, где находилось несколько раненых дагестанцев, участвовавших в том кавалерийском деле, в котором смертельно ранен был генерал Челокаев. Раненые размещались не только удобно, но даже роскошно; уход за ними очень усердный. Они спрашивали, знает ли Россия об их подвиге и что думают о них русские. Все они с твердостью переносят свои страдания.
На ночлег мы остановились в одной из саклей Кюрюк-Дара, неподалеку от лагеря. Хозяином нашим оказался очень гостеприимный армянин. Ввели нас в обширную землянку, наполовину ушедшую в землю и покрытую земляной крышей, поддерживаемой толстыми деревянными столбами и балками. Направо от входа устроен род ложи с двумя широкими прилавками, параллельно лежащими низко на полу и расположенными по обеим сторонам прочного, довольно прихотливо устроенного камина. В камине теплился огонь, который ради нас не замедлили оживить несколькими грудами кизяка и охапкой щепок. За этим почетным отделением, устланным коврами, простиралась обширная конюшня, в которую взяли наших лошадей и где находились также у своих стойл хозяйские буйволы, коровы и бараны. Подобное помещение, где находят одинаковый приют люди и скот, называется, обыкновенно, у русских буйволятником. В буйволятнике – навозный воздух, несмотря на достаточное число отдушин в крыше; но воздух этот считается здоровым и, действительно, переносится легко, особенно, когда приходится укрываться от дневного зноя или ночного холода. Ночью, когда все улеглось спать, и в буйволятнике слышался только густой храп и хруст самана на зубах лошадей, мне чудилось при мерцающем свете догоревшего камина, что я нахожусь в каких-то катакомбах с их таинственной обстановкой и бесконечной, скрывающейся в густом мраке вереницей запутанных, неизведанных проходов. Для полноты картины недоставало только разбойников; но взамен их вокруг нас находились радушные армяне, усердно выражавшие свою преданность русским и русскому царю и заявлявшие лишь желание, чтоб их снова не отдали во власть турок. Один старик-армянин говорил:
– Русские за все платят, ничего даром не возьмут; господа хороши, солдат также добрый и хороший. Турки же все грабят. Лес нужен – давай лес, арба нужна – давай арбу, скот нужен – давай скот, хлеб нужен – давай хлеб, деньги нужны – давай деньги. Все возьмет, ничего не платит!..
Вот таким-то способом снабжены в изобилии всем необходимым турецкие войска и крепости. Нужно заметить, что толки и слухи, распространенные слишком усердными чернильными патриотами, о том, что турецкие войска представляют вид голодной толпы оборванцев, обреченной на всякие лишения, оказываются совершенно ложными, по крайней мере, на малоазиатском театре войны. В Ардагане нашли громаднейшие запасы всякого военного довольствия. Нам досталось до 12 000 четвертей хлеба. Турецкие палатки очень любимы многими в наших войсках, отличаясь от русских конусообразным своим видом. При завладении турецким лагерем в палатках всегда находят хорошую пищу, пшеничные галеты, представляющие лакомство в сравнении с нашим сухарем; посуду, большей частью медную, одеяла и тюфяки, которыми снабжены почти все солдаты. Офицерскис палатки у турок гораздо роскошнее наших и изобилуют коврами и разными вещами английского производства. Одежда у солдат новая и из тонкого сукна. Я писал уже, кажется, о том, как богато снабжены турецкие войска и крепости оружием, ружейными патронами и артиллерийскими снарядами. В Ардагане у турецких солдат имелся двойной комплект ружейных патронов и, сверх того, в траншеях и рвах для стрелков расставлены были ящики с раскупоренными патронами. От этого изобилия снарядов, быть может, и не велики наши потери под Ардаганом. Турки стреляли без счета, плохо целясь и скрываясь за брустверами, опасаясь редких, но метких выстрелов наших солдат.
На рассвете, сопровождаемые усердными поклонами хозяина и его соседей, мы снова сели на коней. Несколько рублей, данных за ночлег и корм лошадей, приняты были с великой благодарностью. Следует заметить, что здесь, во всем Карском пашалыке, наши кредитные билеты обращаются совершенно свободно. В золоте до сих пор не встречается надобности, и оно гораздо дешевле, нежели в России. Один чересчур предусмотрительный человек, имея в виду, что он едет, некоторым образом, за границу, запасся золотом в Москве; каково же было его изумление, когда в Александрополе ему давали только по 5 р. 15 к. за полуимпериал! Турецкие же кредитки лишены всякой цены. Под Карсом я видел турка, слезно жаловавшегося на какого-то всадника из карапапахов за то, что тот заплатил турецкими бумажками за купленную лошадь. Турок считал себя низко обобранным. Турецкие бумажные деньги покупаются здесь «на память». За бумажку, равную 10-ти рублям, платят, например, рубля полтора. Добывается и турецкое золото – для запонок.
По дороге из Кюрюк-Дара в Заим уже совсем другие впечатления легли на душу. Нам уже не казалось, что мы на чужбине. Эти рубли, охотнее принимаемые, нежели турецкие деньги, этот никем не тревожимый телеграф, радушные поклоны встречных поселян, совершенно безопасный путь, слышимый время от времени звук валдайского колокольчика под дугой родной тройки, мчащей курьера, – все это развеселило нас, и, шутя, мы спрашивали нашего проводника: «Уж не заблудились ли мы и не едем ли где-нибудь но Саратовской губернии вместо Малой Азии?»
Уже два раза эта часть Малой Азии, составляющая продолжение нашей Армении, завоевана была русской кровью; два раза значительнейшая часть местного населения встречала радушно русские войска и русскую власть; но два раза надежды их были обмануты: и после 1828 г., и после войны 1853–1856 гг. они снова подпадали под деспотизм турецкого владычества, вымещавшего свои военные неудачи на всех, кто только расположен к России. Будет ли обмануто это население и в третий раз? Одно довольно видное лицо из армянского духовенства высказало мне упрек, что и русская печать, и русское правительство забыли будто бы, что христиане существуют и в Малой Азии, что христиане эти не менее славян угнетаются и гораздо более их мечтают о присоединении к России.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Первый день в лагере
Прибытие и первые впечатления. – Нежданный покровитель. – Комендант. – Намек на положение корреспондентов. – Мое жилище. – Супруги Пьер. – Знакомства
Солнце ярко светило, воздух был прозрачен, когда я и мои спутники подъезжали к нашему лагерю у селения Заим. Тем не менее, не было жарко. Напротив, северный ветер, резко вырываясь из горных ущелий, окружавших горизонт, заставлял по временам ежиться и забывать, что это была середина мая и что мы находились на три тысячи верст южнее Петербурга. Уж верст за десять, с возвышенности, неожиданно забелели пред нами палатки заимского лагеря, занимавшие правильными рядами и отдельными группами довольно обширное плато над обрывистым, крутым оврагом, где узкой лентой протекал Карс-чай. Непривычный к горному воздуху глаз сокращал расстояние. Казалось, что до лагеря рукой подать, и, повинуясь тому невольному чувству, которое побуждает каждого путешественника спешить, чтоб скорее добраться «до места», мы ускорили шаг лошадей. Прошел, однако, добрый час прежде, нежели мы подъехали к лагерю. Пришлось еще подождать несколько отставшие вьюки: невозмутимые армяне, тащившие на своих лошаденках наши вещи, не слишком торопились, очевидно, не разделяя нашего нетерпения. Судя по тем бумагам, формальностям и разрешениям, которые потребовались для выезда моего из Тифлиса и Александрополя, а также при переезде через пограничную черту на Арпачай, я приготовился к целому ряду остановок и опросов при въезде в лагерь. Но вот мы спустились в овраг, отделявший нас от лагеря, вот мы подымаемся вверх по крутой, идущей зигзагами дороге на то плато, на котором начинаются уже палатки, но ни заставы, ни малейшего караула нет, никто нас не останавливает, никто не спрашивает, что мы за люди и зачем приехали. На дороге людно, точно вы въезжаете в город или торговое село в день базара, в лагерь и из лагеря тянутся повозки, арбы; слышатся понукания возников, скрип несмазанных осей. Навстречу попадаются казаки, всадники из туземцев; безоружные солдаты в шинелях или мундирах нараспашку то и дело сбегают в овраг или подымаются по вытоптанным тропинкам из оврага в лагерь; но никому до нас дела нет, редко даже кто удостаивает нас рассеянным взглядом. Вот мы, приосанившись и подбодрившись, на разгоряченных лошадях, проезжаем мимо первых палаток лагеря. Дежурные солдаты спешат на линейку; вот, думается мне, тут-то нас остановят и спросят пропуски; но ничуть не бывало: дежурные выбегают только для того, чтоб отдать честь моим спутникам-офицерам, вытянувшись в струнку и приложившись к козырьку. Палатки вытянуты в стройные линии с интервалами по ротам, батальонам и полкам. Некоторые из них приподняты, позволяя видеть внутренность этих военных жилищ. Солдатики лежат или сидят, что-нибудь работая. Кто чинит сапог, кто пришивает пуговицу; слышится неясный говор, доносятся слабые звуки песни, затянутой в полголоса. Сомкнутые пирамидами ружья стоят перед палатками. Вот барабан, и на барабане положено знамя, возле которого ходит часовой с ружьем. Часовой тоже отдает честь.
– Где Корпусный штаб? – спрашиваем мы встречного унтер-офицера.
– Корпусный штаб? А вот, прямо, где кибитки…
И по направлению указательного перста унтер-офицера мы замечаем среди лагеря белые, полотняные верхи нескольких десятков длинных немецких фургонов. Возле них виднеются какие-то кучи, прикрытые кожею; там и сям, точно пятна, чернеют войлочные, похожие на стоги, киргизские палатки; на площади одиноко зеленеет своей выкрашенной парусиной походная церковь, а далее опять белеют ряды полковых палаток. Направо от нас, на втором плане лагерного расположения, растянулись артиллерийские парки. Проехали кибитки, оказавшиеся корпусным обозом, замеченные издали кучи, прикрытые кожами, принадлежали к интендантским складам. Наконец, на новый вопрос, «Где Корпусный штаб?» нам отвечали: «Это и есть Корпусный штаб». Мы очутились среди нескольких десятков офицерских палаток, неправильными линиями занимавших довольно обширное пространство. Там и сям стояли большие палатки, в которых помещались различные военные управления; это были «присутственные места» того населения, в среду которого я должен был войти.
Очутившись сразу в этой чуждой, совершенно новой обстановке, где не было ни души знакомой и где, казалось, никому до меня дела не было, среди малоазиатских степей, за тысячу верст от родины, невыразимо грустное чувство одиночества овладело мной. В моей сумке было десятка два рекомендательных писем, которыми снабдили меня добрые знакомые в Петербурге и Тифлисе, но вопросы: как мне доведется устроиться, благоприятно ли встретят корреспондента в армии? – не могли не тревожить меня. Не успел я, однако, слезть с лошади, как ко мне подошел господин в той полувоенной, полугражданской форме, которую носят чиновники военного министерства. Он спросил, не корреспондент ли я и назвал мою фамилию. Я подтвердил эти догадки и поспешил пожать руку и узнать фамилию первого лица, которое приветливо встретило меня в лагере. Г-н Д-ский, занимавший должность делопроизводителя в канцелярии по гражданским делам, удовлетворил мое любопытство и гостеприимно пригласил зайти в свою палатку. Я поспешил представить ему моих спутников, которые тоже, очевидно, находились в некотором недоумении, что им делать. Тут узнали мы, что командующего корпусом генерал-адъютанта М.Т.Лорис-Меликова нет в лагере. Еще 15 мая он выступил с колонной генерал-лейтенанта Геймана и должен был находиться где-то на юге от Карса. С этим отрядом находился и начальник Корпусного штаба, генерал-майор Духовской. Между тем, в выданном мне в Тифлисе «свидетельстве» было сказано: «Поставляется непременным условием, по прибытии на место явиться в Корпусный штаб и подчиняться во всем установленным для корреспондентов правилам, не допуская себе никаких корреспонденций и сообщений без разрешения командующего корпусом и просмотра их начальником Корпусного штаба». Я спросил г-на Д-ского, могу ли я считать, что первое из возложенных на меня обязательств выполнено, именно, что я явился в Корпусный штаб? Предлагать вопросы, однако, всегда легче, нежели на них отвечать: часть Корпусного штаба была здесь, другая же, и самая существенная, находилась в отсутствии с корпусным командиром. Г-н Д-ский посоветовал всем нам представиться коменданту. Узнав, что у меня нет палатки, он выразил успокоительное предположение, что, вероятно, комендант прикажет дать палатку.
– Я вас сразу узнал, – прибавил он, – о вас бумага пришла и фотографические карточки присланы. Очень похоже!..
В том, что иные «бумаги» приносят великую пользу, я никогда не сомневался; теперь же мне пришлось в первый и, нужно прибавить, в последний раз убедиться в пользе распоряжения, заставившего меня в Тифлисе снять и представить в штаб около десятка фотографических карточек. Благодаря этим карточкам я без замедления познакомился с г-ном Д-ским, человеком, как видно, очень добрым и отличающимся тем сердечным радушием и дурным выговором, какими обладают многие малороссы, несмотря на десятки лет, прошедшие со времени отъезда их с родины, и вращение «в чужих людях». После этого случая никто и никогда не упоминал даже о фотографических карточках, и они, кажется, так и провалялись в Корпусном штабе. По крайней мере, мне не была выдана, как обещали в Тифлисе, «засвидетельствованная карточка», и ни разу у меня ее не спрашивали.
Пошли мы к коменданту. Палатка его находилась в двух шагах от караула или гауптвахты. Это были пять или шесть палаток; перед некоторыми из них стояли часовые, служа живым указанием, что они разыгрывали роль парусинной тюрьмы. Впереди, как обыкновенно, помещались ружья в козлах, а перед ними по гладко вытоптанной дорожке прохаживался караульный часовой, то и дело останавливавшийся, чтоб отдать честь беспрерывно проходившим мимо офицерам. Неподалеку, возле обыкновенной офицерской палатки, вбит был шест и на нем развевался продолговатый синий флаг с надписью «Комендант». Ошибиться, следовательно, было невозможно. Вестовой отвечал нам, что «комендант отлучился». Отлучка эта продолжалась, однако, не особенно долго, так как мы не успели соскучиться в нашем выжидательном положении; появился высокий, полный, с большими усами офицер в полковничьей, общеармейской форме. Он шел суетливо, как человек занятый, имея вид тех людей, которых обыкновенно окрещивают названием «хлопотун». Подходя, он что-то и кому-то кричал; подвернувшегося армянина, очевидно надоедавшего с какою-то просьбой, он, не останавливаясь, приказал взять на гауптвахту и, искоса бросив взгляд в нашу сторону, прямо подошел к нам. Сомневаться было нечего, это и был корпусный комендант, полковник Арцышевский. Мы представились и удостоились любезного приема. Офицерам г-н Арцышевский указал, что они должны явиться к находившемуся в лагере помощнику Корпусного штаба, полковнику Немировичу-Данченко, а мне предложил, если угодно, немедленно ехать в отряд генерала Геймана, где находился корпусный командир, а если угодно – обождать его приезда, ожидавшегося на днях.
– Только нужно ехать немедленно, – прибавил комендант, – сию минуту я отправляю к корпусному коменданту почту с конвоем; при этой оказии могу отправить и вас. Как хотите, подумайте…
Сказав это, корпусный комендант вышел из палатки и снова послышался его громкий голос, распекавший казаков, которые должны были везти почту и что-то замешкались.
Я не решился воспользоваться предложением коменданта: моя лошадь сделала уже порядочный переход в этот день, а до отряда генерала Геймана было не менее 50 верст. Выйдя вслед за г-ном Арцишевским, я поблагодарил его за внимание и заикнулся насчет палатки.
– У вас своей нет?
– Нет… Я совершенно налегке; мне сказали как можно менее вещей иметь…
Г-н Арцышевский несколько поморщился, но, тем не менее, обещал дать палатку. Мне показалось, что я сразу потерял на несколько процентов в глазах коменданта. Роль просителя вообще играть тяжело. Корреспонденции с театра войны явление у нас совершенно новое; оно только в первый раз создавалось. Я полагал, что военные корреспонденты имеют одинаково важное значение как в интересах общества, так и в интересах армии, которая неразрывными узами связана с этим обществом. Подчиняя корреспондентов известным, довольно строгим условиям, возлагая на них большую ответственность, военное начальство, думал я, будет оказывать нам, по крайней мере, тот minimum внимания, если не попечения, на который вправе рассчитывать не только офицер или солдат, но каждый подводчик, маркитант или другое лицо, тем или другим путем связанное с армией или вынужденное искать в ней приюта и покровительства. Если, рассчитывал я, всякий консул уважающей себя страны обязан оказывать всевозможное содействие пребывающим за границей подданным того государства, которое он представляет, то тем более это содействие обязательно для начальства армии, находящейся на неприятельской территории и, особенно, в войне с таким неприятелем, как турки, где за пределами лагерной линии представляется уже довольно вероятный риск быть ограбленным или убитым. Тут вы, волей-неволей, связаны с армией. Вы не можете отыскать себе пристанища за пределами лагеря; будь у вас полные карманы золота, вы можете умереть от голода, если военное начальство не захочет придти вам на помощь; ваша лошадь будет без пищи и присмотра, если вам не окажут содействия; вы останетесь даже без крова, представляемого полотном палатки, если это входит в «виды и соображения» того начальства, во власти которого вы всецело очутились. Получив позволение быть в действующем отряде, я полагал, что тем самым разрешаются и все те сомнения, которые могли бы возникнуть относительно условий моего пребывания в лагере. Это все равно, представлялось мне, если б получить разрешение быть на военном корабле, отправляющемся в заграничное плавание; из этого разрешения для меня вытекала бы обязанность подчиняться во всем распоряжениям капитана корабля и морской дисциплине; но, взамен того, и капитан обязан был бы оказывать мне то внимание и попечение, которое возлагается на него по отношению ко всему населению корабля, без изъятия; в противном случае неминуемо очутиться в самом плачевном, беспомощном положении. Вопрос о палатке разрешался очень просто: если она имелась в запасе, то отчего же ее не дать; если не было, то на нет и суда нет. Палатки имелись, но мне сразу дали понять, что отпускается она в виде снисхождения, меня сразу поставили в роль просителя, точно палатка составляла собственность не казны, а г-на Арцышевского, и военный корреспондент был менее вправе ей пользоваться, нежели денщик, чистивший сапоги и ставивший самовары тому же г-ну Арцышевскому. Это был первый намек на то положение, которое создано было в нашем штабе для корреспондентов.