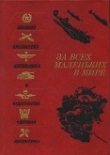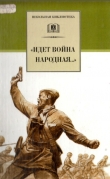Текст книги "Живите вечно.Повести, рассказы, очерки, стихи писателей Кубани к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне"
Автор книги: Григорий Василенко
Соавторы: Кронид Обойщиков,Анатолий Знаменский,Виктор Логинов,Виктор Иваненко,Николай Краснов,Николай Веленгурин,Сергей Хохлов,Вадим Неподоба,Иван Варавва,Валентина Саакова
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
К полуночи прореженная затухающими чахлыми огоньками электрошнуров дымилась тьма. Под утро друзья забываются в тревожном сне.
Ивану казалось, что он вроде бы даже не успел и век смежить, как в барак ворвались полицаи и
хором гаркнули:
– Подъем!.. Подъем!
На головы, на спины пленных сыплются палки. Полицай сначала огреет спящего, только потом кричит: «Подъем!»
– Подъем!
В небе ни одного звездного прокола. Черным – черно. Еще не скоро на востоке прочистится сквозь толщу туч рассвет.
Потом гонят пленных на кухню.
У ворот уже ждут «покупатели»: разбирают на черные работы.
И так каждый день.
К вечеру, когда команды возвращаются с работы, в лагере открывается «толкучка». Шум, как на настоящем базаре.
– Меняю кочан кукурузы на бутылку воды.
Вода в лагере на вес золота. Ее приносят, кому повезет, возвращающиеся с работы. На воду можно было выменять и кусок хлеба, и шинель, и сапоги.
Выменяешь эту флягу и держишь в руках до побеления в ногтях – не дай Бог, выронить! Пьешь – не пролить ни одной капли, каждая капля – минута твоей жизни.
– Меняю рубаху на что‑нибудь из жратвы… – с унизительной слезой в голосе просит парень.
А у самого из‑под шинели видна желтая, со шмелиным волосом грудь. Гимнастерку раньше променял на еду. Теперь трясет нательной сорочкой, попутно смахивая с нее наиболее обнаглевших вшей.
– Меняю сапоги…
Истощенные лица, голодные глаза. У кого бы выменять за шапку, за ботинки, за что угодно картофелину, хотя бы гнилую?
Перед Иваном какой‑то парень, высохший до костей, разворачивает рушник. Вдруг колыхнувшаяся толпа сбивает Ивана с ног… Он видит перед собой мелькающие солдатские сапоги. Один угодил ему в подбородок. На четвереньках отполз в сторону, поднялся. Рукавом обтер кровь. Кто‑то тянет его к мусорным ящикам. Петька!
Стон, ругань. Свистят плетки.
– Это русский комендант лагеря… – пленный ощупывает пальцами окровавленный нос.
– Русский комендант?! Есть здесь и такой?
– Это он сон себе нагуливает…
Русский комендант – ровесник Ивану. На кисти левой руки наколка «1924».
– Мать вашу! Я вас научу свободу любить! Большевистские хари, прихвостни жидовские…
Он всласть размахивает плеткой. А за его спиной стена полицаев.
Бежать! Только бежать!
– Куда же ты, сыночек, убежишь, если у нас каждую ночь обыски, тебя ищут, – сообщила Ивану разыскавшая его мать.
Мать… Что значит мать!.. Мама…
Сколько горя свалилось на ее узенькие плечи. Мужа повесили. Сына, как цыпленка из‑под наседки, выхватили и – в каталажку.
– Куда хоть его отвезли? – стучалась в станичную управу Мавра Дмитриевна.
Начальник полиции Сухенко, похабничая светлыми глазами, цедил сквозь зубы:
– Куда отправили, там его уже нет. Хитришь, Дмитриевна, для виду разыскиваешь, а сама под полом его прячешь, – добавил.
– Побойся Бога, Володька!
«Может быть, и в самом деле Вани нет? – настигла ее страшная мысль. – Немцы на расправу скоры». Жиганула в сердце острая боль.
Ваня… Голодная семья… Господи, за что такое наказание?!.
Их, эвакуированных, немцы перехватили в Петропавловской и все – до последнего зернышка – выгребли из брички. Так что вернулась Мавра Дмитриевна в родную станицу с голыми быльцами и кучей детей.
Не показывая вида своей горькой озабоченности, вошла в хату, взяла на руки хнычущую малютку, засветилась голубой детской улыбкой.
Сама же Мавра Дмитриевна дышала через рот, как при удушье.
Дети постарше разочарованно рылись в ее пустой кошелке.
– Сейчас схожу, займу у кого‑нибудь миску муки, галушек сварим, – успокаивающе заверила их
Мавра Дмитриевна и, осторожно уложив на топчан уснувшую у груди малютку, вышла.
Вскорости вернулась с добычей.
– Свет не без добрых людей, – прошептала как бы сама про себя.
– И сало! – обрадованно воскликнула Нюра, старшенькая дочь после Вани, и сглотнула голодную слюну.
Мавра Дмитриевна не могла выдержать жадных взглядов оголодавших детей, отвернулась, незаметно смахнула со щеки горькую слезу, виновато проговорила:
– Сало Ване отнесу.
– Сало – Ване! – урезонила нетерпение детей старшенькая.
Те покорно отступились. Ваня для них – святыня.
Мавра Дмитриевна сердцем верила: Ваня живой. Не вслушивалась в трезвый шепот разума: сын партизана, да и самого вроде бы оформили как партизаном. А немцы с такими не церемонятся. Всю ночь исходила в жгучей тоске, кручинилась, растоптанная незаслуженной карой.
Поднялась задолго до рассвета.
Над станицей стояла зловещая тишина.
Торопливо вышла за околицу.
В ноябрьском небе тянулись в неведомые дали вольные птицы, журавли. Степь же была пустынна и тиха.
Мавра Дмитриевна шла по кочковатой дороге, но шагов своих не слышала и от этого еще больше ежилась от страха.
К утру была уже в Краснодаре. Тридцать километров как за себя кинула. На окраине города встретила конный патруль. Немец сидел на лошади. «И такие дошли до Кубани?!» – взыграла в ней кровь казачки. К лагерю военно – пленных подошла, когда ворота были еще закрыты. «Успела!» – облегченно вздохнула и стала ждать выхода колонн.
«Их водят на работы, может, среди них и твой сын объявится», – говорили ей горожане.
Но вот появилась первая колонна, вторая, третья…
«До чего же они все измученные!» – ужаснулась Мавра Дмитриевна жалкому виду узников. До слез в глазах всматривалась в каждого. Вот уже пятая колонна прошла… Потом Мавра Дмитриевна и счет потеряла.
«Но где же Ваня?..» Поежилась от моросящего, промозглого дождя. «Неужто его и в самом деле нет?»
Вот еще одна колонна показалась из ворот. И… – о, радость! Ваня – вот он, в первом ряду. Сначала даже не поверила. Сухим языком коснулась холодных губ – и во весь голос:
– Ваня!!!
Иван видел, как в это время сбила ее с ног громадная немецкая овчарка. Мать выронила из рук кошелку. Кувшин с молоком разбился, белой лужицей залил булыжники мостовой.
– Мама! – было рванулся к ней Иван.
– Смерти захотел?! – прошипел Петя, удерживая Ивана от этого опрометчивого поступка.
К офицеру, который спустил собаку на мать, подошла интеллигентного вида женщина, проговорила, водя пальцем перед его носом:
– Пан, так нельзя! Так нельзя!
Высокий, в щеголевато подогнанной шинели офицер брезгливо взглянул на представительницу «недочеловеков», что‑то недовольно пробормотал, но собаку все же отозвал.
Мать поднялась, не сводя глаз с офицера, размазала рукой слезы на лице и стала собирать все, что вывалилось из кошелки. Но голодные городские бродячие дворняжки ее опередили.
Мавра Дмитриевна обежала вокруг квартала. Но близко к колонне узников подойти не решилась.
Иван попросился у конвоира самому выйти из строя.
– Майне муттер принесла мне эссен, – пояснил он.
Конвоир разрешил. Были и среди немцев люди.
Мавра Дмитриевна передала сыну все, что успела выхватить из‑под носа шавок. И все старалась погладить Ивана по плечу, успокоить, а глазами – материнскими глазами – всего его запомнить: его обострившиеся скулы, синюю жилку, что билась у виска… Рассказывала Ивану о том, как она его разыскивала. Иван слушал, качая головой, под конец упрямо заявил:
– Мама, я убегу.
…Декабрь 1942 года. Лютая зима. Мороз – ноздри слипаются.
Иван вместе с другими пленными носит снаряды от железнодорожной ветки в печь обжига кирпича,
где немцы устроили склад боеприпасов. Ноги подламываются, когда несешь крупнокалиберный снаряд. Ни остановиться, ни перевести дыхание. По всему пути – автоматчики.
– Шнель! Шнель!
Прежде чем взвалить снаряд на спину, Иван успевает задеть локтем помогавшего ему матроса, спросить глазами: «Бежим?»
Петьки рядом сегодня нет.
– Ты что, рехнулся? Днем… Как проскочишь через частокол автоматчиков?
– На это и рассчитываю, – сказал Иван. – Немцы уверены: сейчас только дурак на побег решится.
– Как дурака и пришьют тебя автоматной очередью, – заверил его матрос.
Но Иван уже не слушал его. Он был озабочен только одной мыслью.
А того не подумал, что через какую‑нибудь минуту – две его жизнь повиснет даже не на волоске, а на легчайшей паутинке. Об этом он хватится много позже.
А пока… Свалив снаряд, он подошел к часовому, показал на горку сумок и вещмешков: можно, мол, перекусить? Часовой не сразу понимает, чего хочет этот пленный, у которого из‑под шапки видны только лихорадочно блестящие глаза.
– Брот у меня там, – говорит Иван часовому. – Хлеб.
– Шнель! – разрешает немец.
Иван вытряхивает из мешочка последние крохи хлеба, высыпает в рот, сует за голенище складную вилку с ложкой и идет за очередным снарядом. Свалив его под закопченную стенку, затаивается у кирпичной колонны, наблюдает за часовым. Сейчас, сию секунду, что‑то свершится: или пан, или пропал.
Слева от входа в цех, метрах в пятнадцати – деревянный сарай для сушки кирпича. Вроде бы и недалеко до него. А ну как за это время часовой успеет зыркнуть в его сторону?..
Ивану кажется, что взгляды его и немецкого автоматчика сталкиваются. Он ясно видит белки глаз, тонкие фиолетовые губы. Противный озноб ползет по груди, обручем стягивает сердце: неужто приметил? Нет, он Ивана не видит. Лицо немца кривится в брезгливой гримасе: из‑под свода выходит, шатаясь, изнуренный пленный.
Откуда‑то, из вязкой черни печи, голос:
– Под пули хочешь?!.
От его гула у Ивана колики пошли по телу. Всего несколько секунд немец отвлекается на отощавшего вконец пленного. Но за это время Иван собрал в одно усилие оставшиеся силы, рванул из‑за колонны. Бежал без мысли, без чувства, в неизъяснимом страхе, когтившем его душу: сарай‑то насквозь просматривается. Сердце леденит холод. Быстрей, еще быстрей! От сарая до забора метров двадцать. Он падает ничком, ползет. Забор из тонкой шелевки. Вышибить доску – мгновение.
Иван высовывает голову в пролом забора. Женщина в фуфайке опасливо смотрит на него, не уходит.
– Немцы сюда не смотрят? – спрашивает он.
– Нет, – тихо отвечает она.
Иван поднимается:
– Не бойтесь! Я сейчас уйду.
Пока добрался до Пашковской, стемнело. Как быть? Идти в ночь? Немцы сочтут за партизана, пристрелят. Попроситься к кому‑нибудь на ночлег? В родной станице арестовали, а» здесь…
Иван решил идти.
Мороз к ночи усилился – губы не сведешь. Ветер пронизывал до костей. Закрывая лицо рукавицей, Иван обходит стороной курган и натыкается на полуторку ГАЗ – АА. Возле нее копошатся два немца. Деваться некуда. Степь. Не спрячешься. Немцы тоже его заметили. Один из них потянулся в кабину за винтовкой.
Иван идет прямо на них.
– Гутен абенд! – приветствует он.
– Гутен апп – п-ппент! – отвечают немцы, дрожа от холода.
На головах у них поверх пилоток намотаны женские шерстяные платки.
– Что тут у вас? – стараясь казаться спокойным, интересуется Иван. – Мотор заглох? Что ж, попробуем…
Ничего не понимая в двигателях – его, как офицера, научили только баранку крутить, – Иван лезет под капот, трогает один проводок, другой…
– А ну, крутни!
Немцы охотно крутят.
– А ну еще.
Солдаты разогрелись, повеселели. А мотор, проклятый, все не заводится. Наконец он фыркает раз, другой, гулко стреляет. Иван так и не понял, отчего он завелся.
Шофер хлопает Ивана по плечу, молодец, выручил!
– Подвезите, – машет рукой в сторону станицы.
– Я, я! – согласно кивают немцы.
Едут, не включая фар. «Боятся, гады, нашей авиации!»
Туманной полоской выныривает из‑за горизонте! Старокорсунская. Гулко бьется сердце.
Тиха станица и глуха. Иван не идет – крадется по улицам. Под разбитыми сапогами снег скрипит, хоть уши затыкай. Сделает шаг – прислушивается. Еще шаг – снова замрет.
К дому подходит со стороны сада, прячется за деревьями.
Будет ли этот побег из плена последним? Иван вздрагивает. То ли от пронизывающего холода, то ли от нервного напряжения. Замирает, прислушивается.
Белая хата, дверь в сенцы открыта. Вон как чернеет провалом.
Иван скатывает комочек снега, бросает в дверь: нет ли засады? Никто не выглядывает. Иван осторожно подходит к окну, касается пальцами стекла.
– Ваня!
Мать сердцем угадала его.
– Господи! Услышал, уберег тебя! Обыск у нас был только что… Уберег!..
Уже в зрелые годы Иван Берестов не раз вспоминал об этом уж оче|нь рискованном побеге. И каждый раз приходил в ужас. Как он уцелел?! Ведь немец стоял же совсем рядом. Он мог заметить.
Ему тогда было восемнадцать лет. Хоть и был он к этому времени произведен в офицеры, но умом-то оставался юношей.
И потом этот случай с автомобилем ГАЗ – АА?.. А если бы мотор не завелся? Наверняка немцы его не отпустили бы, чтобы он не сообщил партизанам оЕ>их несчастье в пути. Оставили бы Ивана при себе до утра. Могли бы и пристрелить для большей надежности.
А он – жив!
Но даже в фантастических рассказах и то требуется описание в удаче побегов. Он же, Иван, без всяких надежд на удачу ринулся. И убежал‑таки.
…Берестов бредет, не разбирая дороги, по Первомайской роще. Здесь, будучи в немецком плену, он мостил булыжником дорогу. Конвоировали их сюда гитлеровцы.
Молодые, сытые, они, молодецки рисуясь, гарцевали на лошадях. От лагеря до рощи гнали пленных рысью, без роздыху. И сразу – к работе. Спины не разгибать! Поднимешь голову – огреют плеткой по лицу так, что кровь брызнет.
А сейчас в роще тепло, затишно, а в сердце просыпается мрачный холод тех лет.
Ветерок прилетел из глубины леса и грустно шепчет Ивану на ухо непонятно что. Нигде уже нет зелени, трава, прибитая морозом, поблекла, деревья без листьев. Мертвая в душе Ивана надежда: страны, которую он защищал, – нет! Насовсем ли?.. Чует, пробил его горький час. И все же верится ему и не верится, может быть, все‑таки все лишнее отшелушится. Берестов почему‑то и здесь надеется на русское авось.
А вдруг…
Где‑то, на окраешке неба, послышался журавлиный, горько волнующий зов.
Сутуля старческие плечи, Берестов выходит к братской могиле. Сюда свозили немцы трупы душегубок. Сколько здесь похоронено неузнанных, потерянных имен?
Камни мемориала отвечают ему почтительным молчанием.
В груди у Ивана что‑то двинулось, до крика толкнуло: лежать бы здесь и его костям, если бы не тот спасительный случай в каптерке лагеря…
И тут послышалось ему, что и роща, и камни мемориала вздохнули или повторили его вздох.
Осенний вечер угасает. Вот уже и луна осветила могилу тех, кто некогда, еще до войны, ликовал при ее свете.
Но где над ними Вечный огонь?
Взгляд, упавший в темноту, разбился о пустое место…
Анатолий ЗНАМЕНСКИЙ
ПРОМЕТЕЙ № 319В этой зоне нас, пронумерованных, было триста восемнадцать бедолаг.
Триста девятнадцатый появился после, когда никто не ждал пополнения.
Поздней ночью отрывисто хлопнула дверь барака. У порога заклубился мороз и, распластавшись, болотным туманом потянул к нарам. На мокром, осклизлом полу я увидел ноги в рыжих покоробленных сапогах с завернутыми голенищами. Рассмотреть остальное мешали сушившиеся над железной печкой портянки. Смердящие, пожухлые, они висели в несколько рядов, поделив барак на две половины.
Сапоги?
Все мы, триста восемнадцать штрафников – военнопленных, здесь, в Норвегии, давно таскали деревянные колодки и эрзац – лапти. А тут у порога притопывала пара сбитых и все же фасонистых сапог с вызывающе загнутыми носками. С заворотов небрежно свисали порванные ушки.
Я думал, что наблюдаю за вошедшим в одиночку. Вокруг храпел, стонал и мучился после тяжелого дня пленный люд. Ярко пылала пузатая лампа в пятьсот ватт. В разящем свете и лиловых тенях бредово сместились очертания двухъярусных нар, фигур спящих. Слепли от мороза стекла оконных переплетов. Но спали не все.
– Кто там? Проходи! – окликнули новичка.
Подо мной скрипнули нижние нары. Севастьяныч, наш выборный старшой, закряхтел, высунул стриженую угловатую голову навстречу вошедшему.
– Свои… – глухо, равнодушно сказал человек у двери и шагнул на голос. Резкая, на летучую мышь похожая тень сломалась в углу и вдруг, метнувшись книзу, исчезла под сапогами.
Под лампой, в трех шагах от меня, стоял скуластый парень в длинном ватнике без хлястика и немецком зимнем картузе набекрень, с котомкой за плечом. На сером, заморенном лице, как на негативе, белели вылинявшие коротенькие брови. Расстегнутый ворот старой гимнастерки обнажал жилистую шею и крепкие шишаки сходившихся в разрезе ключиц. На них холодно трепетал свет. Новичок был еще силен – плен, видно, не успел еще истощить его тела.
Расспрашивать людей и вообще много говорить в лагере не принято. Но когда всякий новый человек появлялся в нашем бараке, именуемом на немецкий лад «блоком», вместе с ним входила его слава: сюда не попадали случайно. Севернее же. ашего лагеря, по общему мнению, был конец света.
Севастьяныч пытал новичка взглядом и как бы приценивался: было в парне что‑то наособицу отпетое, равнодушная готовность ко всему, что уготовит ему не сегодня – завтра судьба.
– Бежал? – вполголоса спросил Севастьяныч, по привычке оглядываясь на нары.
– Да нет… – усталым голосом и с каким‑то небрежным жестом возразил новичок. – Так, пустяки. Попал в непонятную, вроде власовского джаза: семеро дуют, один стучит. Ну… накрыл там одного пыльным мешком…
Давно уж все привыкли к этому старинному жаргону, нет – нет да и проскальзывали такие слова у нас, даже когда говорил бывший учитель или агроном. Но в этот раз нельзя было не почувствовать некое блатное щегольство и плотную пригонку слов одного к одному – тут был знаток «фени», определенно. Не мог он унизиться до ясных слов: попал, мол, в такую бражку, где каждый спешит донести друг на друга, а именно так вот – «семеро дуют, один стучит»…
Парень выразительно шевельнул тощую котомку («пыльный мешок»), лениво добавил:
– Пока дело разбирается – к вам. Следственный, стало быть… Место найдется?
Парные нары стояли так тесно, что в промежутках едва мог пройти человек. По соседству со мной вчера освободилось место – схоронили Зайцева.
Старшой молча кивнул, парень боком втиснулся в проход, бросил на голые доски свою котомку и, легко опираясь руками, вскочил наверх.
– Зовут‑то как? – шепотом спросил Севастьяныч.
– Володька.
Неловко скорчившись под низким жердевым потолком, парень стянул с себя ватник, расстелил,
сунул в голову котомку и лег спинои ко мне.
Кажется, я громко вздохнул, вспомнив другого Володьку, что занимал место по соседству, да Зайцева. Новичок понял, что я не сплю, и повернулся на другой бок.
– Ишачить куда гоняют? – спросил он хрипло.
– В лес. Дрова пилим…
Нужно было бы еще сказать, что дровами у нашего полустанка грузились составы для южных цементных заводов. Немцам с осени прошлого года понадобилось очень много цемента для дотов: они отступали по всему фронту.
Но я не сказал этого. Я думал о языке новичка, о слове «ишачить», жестоком и обидном, которое могло явиться в обиходе лишь в самую жестокую пору, когда сама человеческая жизнь, не говоря уж о работе, теряла какую‑либо цену и смысл.
Меня привлекло вдруг лицо соседа, изуродованное багровым шрамом. Рваная рана оставила багровую подковку от виска до подбородка – несмываемое клеймо.
– Немцы? – вопросительно кивнул я.
– Не… По пьяному делу… – с издевкой глянул он на меня и прижмурил свои короткие, белые ресницы. Бережно, будто по незажившей ране, провел ладонью по щеке и вдруг засопел. Поздний час, тяжелый дух барака морили в сон.
«Что за человек?» – озадаченно подумал я, засыпая.
Ночь в лагере – короткое спасение от изнуряющего дня, она ощущается нами как мгновение. Не успел уснуть, тело еще болит и просит отдыха, а на вахте уже бьют по рельсу, стеняще и тревожно звучит проклятое железо, за проволочной зоной поднимается оголтелый собачий лай и вой. Немцы-надзиратели бегут вдоль бараков, стаскивая с нар всякого, кто рискнул нарушить режим. Около кухни во тьме выстраивается черная молчаливая очередь, звякают котелки, плескается вонючая, жидкая баланда
– рабочий паек. Запах нечищенной картошки, брюквы и рыбной сырости сводит челюсти.
Выход на работу «без последнего».
Последнего бьют резиновыми палками и железными воротками в острастку остальным. Не задерживайся!
Я спешил к вахте, пытаясь увлечь нового соседа, но безуспешно. Володька собирался слишком уж неторопливо, старательно и умело наворачивая портянки перед дальней дорогой, как старшина – инструктор, обучающий новобранцев. Он вышел из блока одним из последних и все же дошел до ворот непобитым.
Я видел его издали. Володька шел снежной тропой, сильно сутулясь, угнув круто посаженную голову, зверовато оглядываясь по сторонам.
Было в нем что‑то волчье. Точно так при облаве неторопкой, тяжелой рысцой уходит в лесистую логовину, наверное, матерый волк. Гончие псы могут и догнать его, но ни один не рискнет первым схватить. Не снижая однажды принятого машистого бега, волк лишь чуть повернет голову, рванет клыками – надвое перехватит горячую, неопытную собаку. И дальше…
За воротами лагерный люд разбивался на пятерки. На каждую – сани с нехитрой конской упряжью, только без привычной дуги. Человек – коренник набрасывает на шею себе чересседельник, схватывающий концы оглобель, берет их под мышки, а двое закидывают на плечи каждый свою постромку. Остальные двое упирают ьуестами в заднюю подушку саней.
– Ржать хотя, гады, дозволяют? – спросил Володька, вооружаясь шестом.
Никто не ответил. Человек этот не хотел становиться в оглобли ни при каких условиях, и в этом его нежелании было что‑то обидное для остальных.
Процессия растягивается вдоль дороги. На делянку, за пять километров, мы везем пустые сани, а вечером придется доставить к лагерю на каждых по два кубометра дров. Потом перегрузить в вагоны.
Узкая дорога словно канава в глубоком снегу. Охраняют нас четверо ветхих немцев из тотальников. Двое идут впереди с карабинами наперевес, двое замыкают строй. Зимой охрана ослаблена, собак нет. Отсюда не так далеко до шведской границы, но куда побежишь, если вокруг снег по пояс, а единственная тропа ведет к станции и контрольному пункту?
Голубое норвежское утро с порхающими снежинками постепенно бледнеет, проясняются очертания деревьев. Поднимается ветерок, взвихривает порошу, дорога пятнится отпечатками деревянных колодок и лаптей. Шаг в шаг, дыхание в дыхание вслед убегающему полозу идет каждый из нас…
На делянке чернеют остатки вчерашних костров. Старший конвоир Генке – чисто выбритый, кривоногий старик – кладет зажигалку на пень и отходит в сторону. Он доверяет зажигалку нам – нужно развести костры для конвойных по углам деляны и один для себя. Костры разгораются. Севастьяныч остается истопником для конвойных, а нам пора лезть в снег, валить лес.
Я поднял с саней двурукую русскую пилу, предложил Володьке второй конец. Он скептически глянул на пилу, потом на мои острые плечи и длинные руки, отвернулся.
– Таскать тебя на ней? – бормотнул он и, подхватив станковую лучковку, шагнул к ближнему дереву в одиночку.
– Волчуга! – сказал старик Федосов в спину Володьке и перехватил конец моей пилы.
Мы оттоптали снег лункой вокруг первой шершавой ели, а Володька мешкал. Он долго стоял у соседнего дерева, задрав голову и завороженно глядя на вершину. Обглоданный морозами хвойный шпиль весь был покрыт ледяной чеканкой и, кажется, позванивал на ветру.
Володька беззлобно посмотрел в нашу сторону, вздохнул:
– Ох, высоко от нас нынешняя горбушка с баландой! На са – а-мой верхотуре!
И добавил:
– Пыхнет, сволочь, в снег – ищи ее потом до вечера! – и со злостью рванул по стволу блестящим полотном лучка с хорошо разведенным канадским зубом.
…К вечеру мы выбивались из сил.
Мы пилили по три и четыре кубометра на брата при норме пять. За это нас выдерживали в лесу до глубокой темноты. Тогда запрещалось подходить для обогрева к огню, конвоиры стреляли по нашему костру.
Но страх никогда не удваивал человеческие силы.
Худой, нескладный итальянец Джованни и его напарник – рыхлый, с выбитыми зубами француз из Лотарингии Жан уселись в глубине делянки на хвою, под прикрытием поваленной сосны. Им все равно. Даже выстрелы не смогли бы теперь поднять их и заставить пилить.
Володька подсел к ним, закурил тоненькую самокрутку, с любопытством рассматривал незнакомых людей. Парни были раздавлены работой, голодны, сидели плечом к плечу, и каждый безучастно следил пустыми глазами за полетом белых снежных облаков над верхушками леса. Куда плыли облака? Может, в южную сторону, к ломбардским долинам и виноградникам Лотарингии?
Люди были беспомощны и жалки. А Володька, как видно, не терпел человеческой слабости. Путая немецкие и французские слова со своими, русскими, он то пытался расспрашивать их о чем‑то, то грубо материл обоих. А они пугливо оглядывались на него и беспричинно улыбались, поглядывая на окурок, закушенный в его синих злых губах.
Окурок трещал, обжигал губы и пальцы. Но Володька упрямо продолжал сосать его, поджимая рот, морщась и сдвигая к переносью коротенькие брови. Потом злобно отшвырнул в сугроб. В белой целине снега осталась черная метка – будто пулевой след. Соседи разочарованно вздохнули, проследив жадными глазами полет крошечной теплой искры.
– Тебя, стало быть, Жаном зовут? А тебя – Жованни? – привстав на колени, спросил Володька. – Оба, значит, вы Иваны в дословном переводе, а – слабаки. Как же так?
Я присел около, круто потянул его за рукав:
– Отстань от людей! Оба с прошлой недели на тот свет лыжи направляют, не видишь, что ли?..
– Откуда они взялись тут? – недоумевает Володька.
– То‑то и оно!
Откуда взялся в норвежском лагере француз, и в самом деле никто не знает. Зато история Джованни известна кое – кому из нас. Ее нужно хранить в тайне, но я почему‑то доверяюсь Володьке.
В прошлом году итальянец перебежал к нашим партизанам. Его там не успели еще как следует проверить, как немцы взяли отряд в клещи, мало кто спасся.
Фатальная судьба! Если немцы установят личность Джованни, ему несдобровать.
Воподька чувствует себя так, словно за ворот ему насыпали мякины. Лапает себя за карманы, вздыхает, готов, видно, свернуть новую цигарку. Но в карманах у него пусто…
Совсем стемнело. Конвой приказал строиться.
В лагере существует час всеобщей благоговейной тишины. Это час вечернего принятия пищи.
За время войны многие узнали, что такое голод Но что такое психический голод, то есть постоянное, многолетнее голодание, заполняющее все существо человека, как неутолимая, жестокая страсть, когда существуешь за счет собственного тела, костей и даже костного мозга, знают, по – видимому, только люди, пережившие блокады и плен.
Котелок удивительно мал, наливается в него жижа, едва прикрывающая ржавое донце. И кусочек эрзац – хлеба – настоящего лакомства. Хлебную пайку называют горбушкой, крылаткой, пташкой – на разные лады. Хлеб исчезает в наших пустых желудках мгновенно.»
Люди сидят на нарах, обняв котелки, судорожно двигая челюстями, молитвенно созерцая убывающую порцию еды. И в ней – жизнь…
После того как опорожнили котелки, еще сильнее хочется есть.
Только невероятная усталость и слабость могут заставить уснуть голодного. А во сне он видит еду… Это наваждение.
Снятся ему горы пельменей и желтая разваренная пшенная каша, заправленная топленым маслом, и вареники в сметане, а то – разливанное море молока и кирпичная кладка из добрых формовых буханок.
Перед сном кто‑то не выдерживает, пытается рассказать, какие яства приходилось ему отведывать дома, в колхозе, на свадьбе и у соседа на именинах, каким глупцом он был, не доев однажды сковородку жареной картошки в доме у механика МТС… Его обрывают грубо, зло, с откровенной ненавистью к
человеческой слабости. На разговоры о пище по общему молчаливому согласию давно наложен запрет. Надо сохранить силы, не травить себя воспоминаниями.
Володька после еды сидел не разуваясь, скрестив по – азиатски ноги, молча и тупо уставясь глазами куда‑то мимо меня, в пустоту, и в лице его застыла глухая сосредоточенность.
– Как думаешь, раздачу теперь кончили? – вдруг спросил он.
– Пора бы… – сказал я.
Он свесил одну ногу с нар и неуловимым движением извлек из‑за голенища нож.
Нет, не какую‑нибудь отточенную железку, которую легко спрятать даже и в лагере, а настоящий «косарь», за который и в мирное время не сносить головы. Он сунул его поближе – в нагрудный карман ватника, спрыгнул и, прихватив котелок, исчез из барака. Никто не обратил на него внимания.
Я не спал, когда он вернулся.
Володька поставил на нары котелок, полный жидкой каши – того, что, по моему представлению, оставалось на дне котла раздачи супа, и стоя начап есть.
Подбородок его приходился на уровень со вторыми нарами, и котелок стоял у самого лица. Локти, прочно устроенные по обе стороны, почти не двигались, но зато уши ходили вверх и вниз с завидной методичностью, чавкал рот.
Лучше бы уснуть, не травить себя! Но я не мог спать.
Хотелось огреть его табуреткой, вырвать котелок, хотя бы глянуть в глаза. Заглянуть, какая мысль жила там в неподходящую минуту, под этими коротенькими, вылинявшими бровями! Но я лежал, полуприкрыв веки, добросовестно старался уснуть. Я ведь не верил, что он так просто достал эту кашу, не верил даже в силу ножа, потому что у повора на кухне хватало и ножей, и тяжелых мешалок, чтобы отвадить любого храбреца раз и навсегда. Мог этот новичок оказаться обыкновенным стукачом, а кашу такие получают из рук шефа… Только те, правда, не носили бы её в общий барак…
Он, конечно, знал, что я не сплю.
Звякнув ложкой о днище, Володька лениво повернулся и вдруг поставил котелок с торчащим черенком мне на грудь.
– На. Заскреби там, – спокойно и даже как‑то деловито сказал он. – Заскреби и помой.
Как возненавидел я его в эту минуту! Но руки мои жадно и благодарно схватили котелок, обильно испачканный изнутри кашей – размазухой.
Нет, он дал мне вовсе не пустой котелок! Там еще можно было набрать три – четыре ложки еды… Три – четыре ложки в иное время способны продлить человеческую жизнь на целые сутки! Сутки жизни…
Я съел его дар, но с этого дня стал смотреть на него как на выродка.
А Севастьяныч исподволь проникался к Володьке доверием.
В следующий вечер наш выборный старшой долго сидел на его нарах, расспрашивал о жизни, рассказывал и свою историю, и я был по их молчаливому согласию свидетелем разговора.
Слава Богу, люди никогда, даже в самых опасных обстоятельствах, даже в бараках с длинными ушами, не опасались при мне открывать свои души. И, может, поэтому мысли мои всегда странным образом совпадали с раздумьями товарищей. Любил и ненавидел я не в одиночку, а вместе с людьми.
Севастьяныч склонился к Володьке и будто дремлет. Он застит мне электролампочку, и я вижу его сутулые черные плечи на зыбком фоне света. Храп и бормотание спящих надежно гасят его тихий, глуховатый голос.
Старик в оккупации под Ровно работал конюхом в немецкой комендатуре, куда будто бы нанимался добровольно. Он открыто рассказывал об этом и раньше, чтобы не возбуждать излишней подозрительности немецкой агентуры здесь, в лагере. Но я всегда чувствовал, что этот человек «шел в услужение» не без важной причины. Я просто очень хорошо знал его – это не ходячее брюхо, а наш русский человек, до времени обросший старческой бороденкой.