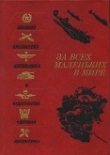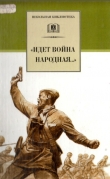Текст книги "Живите вечно.Повести, рассказы, очерки, стихи писателей Кубани к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне"
Автор книги: Григорий Василенко
Соавторы: Кронид Обойщиков,Анатолий Знаменский,Виктор Логинов,Виктор Иваненко,Николай Краснов,Николай Веленгурин,Сергей Хохлов,Вадим Неподоба,Иван Варавва,Валентина Саакова
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
Сообщил угрюмо:
– Попал в бомбежку около «катюш».
Вдаваться в подробности не стал, да и зачем было толковать о том, что через пяток минут повторилось, правда, по несколько отличному от недавнего сценарию.
Сначала «юнкерсы» бомбили батареи тяжелых минометов неподалеку – и нас как будто это не касалось. Бомбы перелетали через КП – знай только следи с облегчением, что, кажется, и теперь мимо…
Ф – фу, улетели и эти, но один почему‑то остался. Сделав круг, он чуть не долетая, вполне неожиданно для нас завалился вдруг на крыло, и я еще успел увидеть в нараставшем, почти физически уплотнявшемся, как бы даже зримом вое сирен (прикрепленных к крыльям для дополнительного устрашения) оторвавшуюся от самолетного брюха чернильную капельку бомбы.
Что‑то внутри как бы стронулось: уж эта – твоя! Эта – по точному адресу! Рухнул на дно щели, сверху свалились, ужав меня, еще трое или четверо. В тот же миг что‑то коротко и тупо качнулось (взрыва не слышал), землю словно бы мгновенно провернуло вместе с нами в чертовом;:олесе – и странная, болезненная, с нудным где‑то писком пала тишина. Вероятно, отключилось сознание, был какой‑то обрыв, а когда очнулся – в горле удушливо першило от пыли и песка. И полное ощущение раздавленности, лицо в мокром, в слякоти, но я еще не хотел думать, что это кровь…
Когда дивизионные саперы, оказавшиеся поблизости, разгребли землю над нами, разбросали комья, и я, размазывая по лицу слезы и кровь, огляделся, мне стала ясна картина происшедшего.
Летчик был безусловно ас. Видно, имел право на свободный поиск и выбор цели. Но, скорее всего, на сей раз имел задание как раз относительно нашего КП. Не зря же накануне тут «рама» настырно летала, разведчик «фокке – вульф», а мы тем временем натягивали у нее на виду на свежевырытые щели белую зимнюю маскировочную сеть, других не было. Набросали сверху перекатиполя, ковыля, сухой травы всякой, однако никого не обманули. Бомба немецкого удальца попала точнехонько между двумя щелями, в перемычку между ними, в самое «яблочко». Образовалась одна сплошная воронка. Взрывная волна с осколками ударила с рассеянием вверх, а мы оказались внизу как бы в мертвом пространстве. Что нас и спасло – всех, за исключением, кажется, красноармейца – телефониста, его, верхнего, и в щели достало…
Могло быть куда хуже, если бы немец не продемонстрировал предельной точности: бомба угодило бы либо в нашу щель, либо в параллельную ей соседнюю. А это уж – кровавая каша либо у нас, либо у соседей. Он же попал точно в перемычку!
Но вот ведь судьба: пережить что ни на есть прямое попадание крупной бомбы – и остаться живым, при своих руках – ногах! Сколько раз она щадила меня и берегла, вот и недавно у тех «катюш». Однако выбор ее вполне слеп, – почему‑то не пощадила, например, телефониста, я‑то чем лучше его… Лотерея, рулетка, слепая удача: мне – жить, ему – погибнуть.
Все же я был контужен, у меня совершенно было расквашено лицо. Тошнило… Меня отвели в ненадежное укрытие, в тень эскарпа, а оттуда второпях отправили на повозке в медсанбат. А позади уже сваливалась в пике новая волна «юнкерсов»…
5.
Я был в сознании, запомнил и эту поездку. С ездовым нас было всего трое. Рядом лежал смертельно контуженный артиллерист, на одной ноте и частоте умолявший ехать медленнее («Ой, тише, братики, тише! Ой, тише!»). Лошади и без того плелись еле – еле по взбитой до состояния пыльной пудры дороге, ни одной кочки на ней или комка, разве что местами воронки. Но артиллериста, не пролившего ни капельки крови, терзала неутихающая внутренняя боль, и не в наших силах было чем‑то ему помочь.
Ездовой сунул трофейную пятнистую плащ – палатку.
– Прикрой… Вишь, солнце глаза ему жгеть…
И это была последняя ласка человечества, прощальный привет вселенной, из которой, навсегда уходил человек еще молодой, поди, лет за тридцать всего. Неизвестно, зачем он пришел в этот мир (уж, конечно, не по своему желанию), неизвестно, зачем до срока, в муках его покинул – по злой воле все тело все того же мятущегося, не находящего себе места и покоя человечества. Он давно уже затих. Я отвернул плащ – палатку, еще на что‑то надеясь. Но он был уже мертв, восковой нос у него странно и как‑то сразу заострился.
И опять – ни имени его, ни фамилии. А где‑то, быть может, живут его дети, внуки, не подозревая, что есть еще на этом свете свидетель агонии их отца, их деда, каких‑то слов, его последнего страдания. Печальное свидетельство, но все же… Всем нам важны и скорбные приметы такой вот памяти – если мы люди…
Я столько навидался за эти два – три дня смертей, самых ужасных и кровавых, вплоть до оторванных рук, ног и даже голов, что эта, по – домашнему тихая, покорная и безответная, никак меня уже не задела. Снова прикрыв артиллеристу лицо, прислушиваясь к тягостно екающим болям в помятой собственной груди, я не упускал из виду и двух «мессеров», по – хозяйски беспечно – широко рыскавших в небе. Да, наших там не было. Небо было немецкое. Вполне. Никто в этих «мессеров» не стрелял, зенитки если где‑то и были, стояли большей частью на прямой наводке, имея другую задачу (все дни тяготило ожидание прорыва немецких танков). Очереди две – три пилоты истратили шутя и на нашу телегу, пули взбили впереди пыль – и только. Видно, и впрямь не было заинтересованности в результате. А я так и не успел испугаться, не поняв сразу, что снова оказался мишенью.
Кое – чего уже повидавший на веку ездовой опасливо косил глазами на них, но лошадок не торопил. Кто бежит, за тем и гонятся. Житейская мудрость подсказывала: война войной – а ты не суетись, в этой телеге хватит и одного покойника. Все там будем, но не всем же сразу…
«Мессершмитты» разбросали попутно листовки – четвертушки бумаги, как бы специально нарезанные из газет под кульки для табака или семечек, для другой какой нужды… Но из каких газет – из наших! «Комсомольская правда», «Известия», «Красная звезда»…
Однако то была лишь уловка: поневоле нагнешься, а пока поймешь, что газетки не те, что‑то и западет в голову. К листовкам немецким нам и подходить‑то запрещали, не то что читать. Но, хоть и украдкой, читали их все: любопытно все‑таки, о чем они там врут. Ложь их была оголтелой – сдающимся в плен обещали отдых и лечение на лучших европейских курортах, чуть ли не на Лазурном берегу. Но и правда иногда проскальзывала, тяжкая и смущающая.
Читал я тогда листовку с сообщением о разгроме «второго фронта» под Дъеппом. Фотографии: горы покореженной техники наших союзников, трупы, трупы… Конечно, не о «втором фронте» шла речь, до него еще было два года, речь могла идти о прощупывающем, рекогносцировочном десанте союзников, потерпевшем полную неудачу. Немцы, естественно, ударили в литавры, подняли шум, чем не повод, а там поди разберись.
Помню листовку пострашнее, где в черный шрифт был впечатан как бы оттиск кроваво – красной пятерни – символ репрессий 1937 года. Я тогда уже понимал (не доискиваясь первопричин, не моего ума дело), что здесь и о судьбе моих дядьев по матери Андрея, Никифора и Григория Кузьменко, замученных и расстрелянных непонятно за какие вины в тех же 1935–37 годах. Колхозник, сельский учитель, лесотехник. Какую они могли представлять угрозу советскому строю, какой грех неотмоленным унесли в могилу?.. Скорее всего никакого не числилось за ним греха, – но думать об этом не хотелось не только мне, а и тем, кто был постарше и помудрее. В том‑то и общая наша вина, – мы, мол, ни при чем. Без нас решали. И даже когда плеть над нами свистела, рабски извиняли эту плеть: бьют – значит, так нам и надо, значит, заслужили.
Может, действительно заслужили? Хотя бы и тем, что терпели эту клику, с именем главаря которой, бывало, ходили и в атаку (если слишком рьяный попадался политрук).
…На повозку тихо спланировал еще один листочек, такие я уже встречал. С одной стороны фотография: Яков Джугашвили и Виктор Скрябин, Берлин, 25 ноября 1941 года. Два каких‑то типа в шинелях и пилотках – без знаков различия, без ремней… Смысл листовки: сдавайтесь в плен, что и сделали уже сыновья ваших главарей, давно осознавшие тщету и бессмысленность сопротивления. Вы‑то, небось, их не умней, чего же мешкаете, поторопи – тесь. Германская армия непобедима! Штыки в землю! Сталин капут! В таком вот роде…
Ну и врут, ну и врут, – брезгливо думалось мне, – да чтобы сын самого Сталина – и вдруг в плену у фашистов, и наши об этом ни слова?! Да кто же поверит?»
Возможно, были и такие, что верили. Но большинство – нет. Обычная, мол, лживая пропаганда врага. Чем ложь нелепей – больней и глубже достанет. На то у них, у немцев, и расчет.
Не знаю, кто такой Виктор Скрябин, был ли у Молотова сын, скорее всего не было, но Яков‑то Джугашвили действительно погиб в немецком концлагере. О чем я узнал лет двадцать спустя.
Мне стало плохо, и я стряхнул с рук листовку, уже ни о чем не задумываясь, ни о чем не страдая, кроме как о самом себе. Впереди госпиталь. А дальше‑то что? Куда мне дальше, потому что, похоже, «домой возврата нет»?
Да на ту же войну, которой длиться еще долгих три года.
ХХХ
Посетив в дни празднования 50–летия Сталинградской битвы Волгоград, зашел я и в музей – панораму, где запечатлена была история этой битвы в тысячах и тысячах экспонатов, документов, фотоснимков, во множестве и немецких. Среди них попался все же один любительский, на котором некий младший лейтенант, ротный замполит 339–го стрелкового полка, посмертно удостоенный звания Героя Советского Союза. Дело в том, что 308–я дивизия позднее была передислоцирована непосредственно в город, сражалась среди его руин. Мой полк в ее составе получил здесь звание гвардейского, соответственно и. другой порядковый номер – 339–й… Но это уже как бы иной полк, иная его история, иные герои. От 351–го же времен Котлубани не осталось между тем и такого фотоснимка! Да что от полка – от всей дивизии. Даже от всей 42–й армии, куда дивизия входила. Нет его в экспозиции музея. Как, надо, считать, к нынешнему дню не осталось никого и в живых из состава того полка. Почти поголовно полегли все те сибирские ребята в степи под Котлубанью в два с половиной страшных сентябрьских дня. Ведь перед тем, как накрыло меня той бомбой, в одном из батальонов оставалось всего семь человек, в двух других мало чем больше. Тогда‑то и погнал майор Савин в очередную атаку писарей, поворов, ездовых.
…За рюмкой водки, наскоро организованной для таких, как я, незаслуженных, приехавших в Волгоград без специального приглашения, вполне на спой страх и риск, разговорился с соседом. И вдруг выяснилось, что 12 сентября 1942–го он был ранен именно под Котлубанью и отправлен в Камышин в эвакогоспиталь. Надо же, чтобы так совпало! В тот же день, что и меня. И в тот же Камышин… Будто брата родного встретил, о котором и не чаял, что жив.
С Урала он, трактористом, механизатором всю жизнь работал, теперь вот на пенсии. Соловьев Николай Иванович…
– В каком полку, какой дивизии?
А вдруг рядом был, если уж и вовсе не из 351–го стрелкового?
– Ничего не знаю, ничего не помню. Ни полка, ни дивизии. Я там день или два всего… с пополнением прибыл. Сразу в бой – тут же и ранило. Помню, что под Котлубанью. Именно 12 сентября…
Значит, есть еще свидетели тех дней, есть! Кто‑то еще жив – и далеко не все еще сказано о котлубанской той эпопее. Да почти ничего и не сказано. Невысказанное и недосказанное осталось как бы в тени славы города героя. Но ведь это и котлубанцев слава, без них бы на Волге не устоять.
Семён РОГОВ
АВГУСТ 1944–ГОВЕСЕННЯЯ РЕКА
Свой ратный труд свершили пушкари,
В четвертый раз в боях сгорает лето…
На рыжих космах утренней зари
Зияет танк обугленным скелетом.
На нем война оставила следы,
Огонь и кровь хранят борта крутые.
К нему клонясь, под ветром молодым
Трепещут хлеба волны золотые.
Над рожью дремлет неба высота,
Ржавеют в танке черные снаряды.
Живая рожь и мертвый вражий танк,
Как жизнь и смерть, остановились рядом.
Весений ветер дунул и растаял,
В далекой дымке берега излом.
Гляжу в глаза любимой, как листаю
Живую книгу…
Шевелю веслом.
И перед нами затихают волны,
Свои холсты раскинула луна.
И звездочки над ними так безмолвны,
И так звенит над миром тишина.
Нам ветерок дорогу в волнах вымел
И приутих на дальнем берегу.
А звезды в небе стынут часовыми,
Любовь и радость нашу берегут.
Борты лодчонки глажу я руками,
Дрожа, читает нарези ладонь.
Вот эту лодку в орудийном гаме
Я сам с бойцами вел через огонь.
Переправлялись с ходу батальоны,
Вскипали взрывы, пламенела сталь…
А ныне нас, счастливых и влюбленных,
Уносит лодка в радостную даль.
Валентина СААКОВА
ПОКЛОНИМСЯ СОЛДАТСКИМ МАТЕРЯМПАМЯТНИК МАТЕРИ В СТАНИЦЕ ДИНСКОЙ
Поклонимся солдатским матерям, —
Прислушайтесь, как долгими ночами
Они как бы с живыми говорят
С погибшими своими сыновьями.
Поклонимся солдатским матерям —
Их скорби, их душе, рукам усталым,
Поклонимся солдатским матерям, —
Их на земле уже осталось мало…
Поклонимся солдатским матерям:
Какой нечеловеческою мукой
Оплачена их долгая разлука,
Оплакана тоска по сыновьям.
Но подняла б война свой тяжкий меч
И гарь пожарищ опалила дали —
Они бы снова сыновей послали
На правый бой:
Отечество сберечь.
Поклонимся
Солдатским
Матерям!
СТАРАЯ ПЕСНЯ
Гремит в полях комбайновая рать,
Страда,
страда,
страда —
Хлеба поспели.
А за околицей
Динская Мать
Качает каменные колыбели.
Там, где земля тяжелая просела,
Придавленная вечной тишиной,
Сыны,
сыны, —
зерно ее посева
Лежат, под корень скошены войной.
И каменна в глазах ее печаль,
Качается над ней пустое небо,
Ей не судьба
Сынов с полей встречать
Душистым, теплым караваем хлеба.
Летят над ней
Ветра родных сторон,
И голову склоня.
Проходят годы.
Динскую Мать
Проведать люди ходят
И памяти ее
Отдать поклон.
И кто – то
Ей во славу песню сложит
И, преклонив колени на песок,
К ее ногам
Взволнованно положит
Вплетенный в маки хлебный колосок.
Ласкает ветер спелые колосья,
Полынный дух доносит со степей,
И Мать людей
О мире молча просит
Для всех земли родимой сыновей.
Молода жена плачет до росы утренней, а мать – до веку.
Пословица
ПАМЯТИ МАТЕРИ
Прислали с фронта похоронку —
И в тихий дом пришла беда:
Заплакала невестка горько
И стала в голос мать рыдать.
И, как ведется, по старинке —
Чтоб легче боль перетерпеть,
Пришли соседки на поминки
И стали тихо песню петь:
«…Жена найдет себе другого,
А мать сыночка – никогда…»
В счастливый день рожденья сына,
Чтоб рос парнишка молодцом,
В садочке алая рябина
Была посажена отцом.
А в год, когда сынка женили,
Чтоб молодые прижились,
Рядком калину посадили,
И ветви их переплелись.
А в год, когда сынка убила
Та распроклятая война,
Засохла старая рябина,
Калина – выспела, красна.
И все, как в песне старой, вышло,
Загаданное злой войной:
Давно невестка замуж вышла.
А мать —
Все сына ждет домой!
Как половодье, схлынут годы,
Но русла жизни глубоки,
По осени светлеют воды
Моей родной большой реки.
Сойду на берег утром ранним,
И, сердце памятью пронзя,
Далеких лет воспоминанья.
По глади солнечной скользят:
И там, где ветер травы выстлал,
Выходит мать зарю встречать,
Качает ведра коромысло
На молодых ее плечах.
О, как ее спокойны руки,
У лба не видно седины, —
Как будто не было разлуки,
Как будто не было Войны…
И по воде, как отраженья,
Немой тревожа тишиной,
Проходят давние виденья,
Как довоенное кино.
Склонившись над водою синей
Над лесом всходит новый день,
А мать со вздохом вспомнит сына
В лихой пилотке набекрень,
А за плечом щебечет роща,
И звонок птичий пересвист,
И у воды кленок подросший
В струю роняет желтый лист.
Александр СТРЫГИН
ГЛОТОК ВОРЫУ каждого человека хранится в памяти множество событий и людей. В тайниках мозга хранится даже то, что кажется забытым. Но вот в разговоре возникла какая‑то дата, какая‑то фамилия или яркая деталь
– и совершается чудо: вспоминается давнее – давнее событие во всей объемности, словно волшебный фонарик вдруг высветил его. И становится радостно от встречи с прошлым.
Позванивая орденами и медалями, Савченко ходил по комнатам, еще заваленным экспонатами, слушал объяснения Макара Максимовича, прикидывал, где бы он хотел видеть материалы своего полка, освобождавшего станицу. Ему не понравилось, что Колодин задумал начать экспозицию сразу с действий полка – освободителя. Надо с обзора освобождения всей Кубани!
Закончив осмотр комнат, Савченко сел перекурить и высказал Колодину свое несогласие с его планом.
– А какая разница? – небрежно и весело ответил Макар Максимович.
– На фоне всех событий войны наш полк будет выглядеть скромно и, значит, честно. Зачем выпячиваться?
– Ну! Ты как мой сосед Ельшин! Тот скромнягой всю жизнь прожить хочет!
– Как ты сказал? Ельшин? – насторожился Савченко. – Кто он такой?
– Да живет рядом со мной инвалид войны, бывший учитель. А что?
– А где он воевал? – уже заинтересованный, пересел Савченко поближе к Колодину.
– Кажется, на Смоленщине… Там и в плену был.
– Лицо длинное и крупный двойной подбородок? – уже с загоревшимися радостью глазами допрашивал Савченко. – Брови бесцветные?
Макар Максимович обрисовал, как мог, облик соседа и очень удивился необычному волнению собеседника.
– Вы его знали?
– Еще не знаю, он ли. Того я считаю погибшим. А вдруг он?
Прошло столько лет! Савченко все реже вспоминал эту фамилию, хотя совсем забыть не мог. У него дома хранится даже статейка из фронтовой газеты, где он рассказал о своём спасителе.
В сорок первом, под Смоленском, авиабомба разнесла его ротный блиндаж. Савченко с распоротым боком лежал на жухлой траве. Его выбросило взрывной волной. Мимо пробегал незнакомый младший лейтенант. Видимо, из другой части.
– Браток, дай глоток воды, – попросил Савченко, – и попрощаемся. Видишь, как меня распахало?
Младший лейтенант подал флягу. Потом вынул из его кобуры пистолет. Достал кусок полотнища,
приложил к кровоточащему боку, быстро забинтовал. Сколько Ельшин тащил его, Савченко не знал. Он пришел в себя от резкого запаха нашатыря. Открыл глаза и увидел над собой лицо спасителя.
– Спасибо, браток, – едва слышно проговорил пересохшими губами. – Как твоя фамилия?
Назвав себя, младший лейтенант пожелал скорее выздоравливать и ушел, а Савченко унесли на носилках в санитарную машину.
После операции, придя в себя, он услышал разговор хирурга с медсестрой, упомянувших фамилию Ельшин.
– Что с ним? – подал едва слышный голос Савченко.
– С кем? – спросил хирург, обернувшись к раненому капитану.
– С Ельшиным.
– Это мы должны вас спросить, кто такой Ельшин. Вы эту фамилию раз десять упомянули, пока выдыхался наркоз.
– Это мой спаситель. На руках меня нес с передовой.
– Богатырь ваш Ельшин. Чтите его!
Именно богатырем и остался в памяти Савченко младший лейтенант Ельшин. Неужели чудом остался жив? Какой стал теперь? Узнает ли его? В тыловом госпитале, уже перед выпиской, Савченко разговорился со старшим лейтенантом из. соседнего полка. Когда Савченко рассказал ему, что остался жив
благодаря Ельшину, Веткин вдруг нахмурился и печально произнес: «Погиб твой спаситель…» Савченко был потрясен этим известием, хотя и знал, что ни один фронтовик не застрахован от смерти.
Вот что он узнал от Веткина. Взвод, если только можно было назвать взводом оставшиеся два пулеметных расчета, прикрывал отход батальона к небольшой высотке. В бою Ельшин сам сменил первого номера у пулемета. Веткин видел в бинокль, когда поднялся на высотку, что сразу несколько разрывов накрыли обе пулеметные точки. В живых там никого не осталось. У повалившегося пулемета Ельшина виднелась горка земли, из которой торчала нога…
Подошли немцы, попинали ногами и, смеясь и жестикулируя, скрылись в лощине…
Несколько дней после этого рассказа Савченко не подходил к Веткину, словно тот был повинен в гибели Ельшина.
Савченко поведал эту историю Макару Максимовичу.
– Да – а, – раздумчиво сказал тот. – Скромняга Епьшин никогда не рассказывал о себе.
– Он дома сейчас? – нетерпеливо спросил Савченко. – Увидеть мне его надо, непременно, Макар Максимович.
Макар Максимович понимал состояние фронтовика, рвущегося увидеть своего спасителя, только ведь Ельшина надо подготовить к такой встрече. Потерял человек всякую надежду на восстановление своего доброго имени. Недаром же говорил тогда, на пенечках, что еще не вернулся с войны.
– Ну вот что… тогда пойдем ко мне, полковник. Ты у меня посидишь, я его подготовлю к встрече… вместе пообедаем, фронтовое братство вспомянем. Да и заночуешь. У меня целый дом пустует.
– Горю нетерпением, – Савченко быстро поднялся со стула и зашагал первый к выходной двери.
Познакомив Корнеевну с необычным гостем, Макар Максимович пошел к Ельшину.
Алексей Михайлович ремонтировал старенький чемодан. Неожиданным появлением соседа, обычно занятого в это время в музее, был удивлен.
– Ты куда это собираешься, Михалыч?
– Да вот для Гали готовлю. В Москву и в Тамбов собирается. С бабкиным домом решать надо.
– Конечно, надо, – согласился Макар Максимович. – А я тебе весточку добрую принес… живую, можно сказать.
– Что значит живую? Загадку загадываете, Макар Максимович?
– Наоборот, отгадываю. Помнишь, ты мне заливал насчет правды, которой верить трудно?..
– Ну и что?
– Так вот… оказывается, рано или поздно всплывает правда‑то. Ты фамилию такую – Савченко – помнишь?
Ельшин положил на стол отвертку, которой завинчивал шурупчик, настороженно посмотрел на соседа.
– Что‑то не припоминаю. А кто он такой?
– Да ты получше память напряги… Савченко Сергей Сергеевич.
– Не помню никакого Савченко, да и не называли на фронте по имени – отчеству, вы сами знаете… Звание и фамилия… Не помню такого.
– Ты кого‑нибудь спасал на фронте, под Смоленском?
– Там все друг друга спасали, и я, конечно, спасал.
– А вот тебя человек запомнил, которого ты спас.
– Спасибо ему, что доброе дело помнит.
– А ты сам ему это сказать не хочешь?
Ельшин замер. Лицо его напряглось, под глазом забилась жилочка. Он неловко переступил протезной ногой, чтобы ближе подойти к Колодину.
– Как? Где сказать?
– Мы одного полковника пригласили помочь экспозицию музея составить, разговорились. Он со своим полком нашу станицу в сорок третьем освобождал, а в сорок первом на Смоленщине капитаном был. Вот тогда, вроде бы, и спас ты его.
– А где он сейчас? – уже возбужденно спросил Ельшин.
– Он у меня. С Корнеевной сейчас беседует. Я его позову. Ты не волнуйся только…
Ельшин сам открыл дверь и отковылял несколько шагов назад, впуская необычного гостя. Глаза его впились в незнакомое лицо пришельца, и Савченко сразу понял, что Ельшин не узнал его. Конечно, столько лет прошло! Из худенького капитана, которого Ельшин нес на руках, Савченко превратился в «полновесного полковника». Но Савченко сразу узнал Ельшина. Вытянутое лицо с белесыми бровями, крупный подбородок, словно рассеченный на две половины… Он!
Преодолевая спазмы в*горле, Савченко решил произнести слова, которые должны же расшевелить память Ельшина:
– Браток, дай глоток воды… И попрощаемся. Видишь, как меня распахало?..
Как налетный ветер вдруг схватывает рябью поверхность воды, так пробежали конвульсии по лицу Ельшина, но тут же засияло лицо от радости, будто солнцем*осветилась ветровая рябь.
– У разбитого блиндажа? – глотая воздух открытым ртом, спросил Ельшин и подался всем телом к Савченко.
Они хлопали друг друга ладонями по спине, потом уперлись руками в плечи, пристрастно всматривались в каждую черточку лица, и у каждого в глазах стоял грустный вопрос, обращенный к судьбе: как же так, столько лет жили, ничего не зная, и только невероятный случай свел!..
Макар Максимович стоял на пороге, наблюдая за побратимами, и ему завидно было, словно сосед неожиданно получил высокую награду. Да, для Ельшйна это было, наверное, самой высокой наградой.
Галя испуганно выглядывала из своей комнатки, Макар Максимович кивком головы показал ей, что все хорошо, все нормально.
– Галя! Дочка! – крикнул взволнованно Ельшин. – Иди сюда, познакомься с моим фронтовым побратимом. Вот капитан… простите, теперь полковник Савченко.
– Сергей Сергеевич, – представился Савченко. – Очень рад, что у моего друга такая дочь.
– Галя, – каким‑то необычным для него голосом, приказным, что ли, сказал Ельшин. – Готовь на стол, неси все, что у нас есть в холодильнике. Самого дорогого гостя встречаем!
– Ну вы тут поговорите, а мы с Корнеевной к вам в пай вступим, принесем тоже все, что ну. жно для такого случая.
Уже в сенях Макар Максимович расслышал слова Савченко: «А ведь мне тогда Веткин, твой комроты, в госпитале сказал, что видел в бинокль тебя убитым. Потому и не искал я тебя». И ответ Ельшйна: «Я Веткина через архив разыскивал. Погиб он в сорок четвертом».
…Сколько фронтовых воспоминаний было в тот день! Как преобразился Ельшин!
– Вот теперь, Макар Максимович, и я по – настоящему с войны вернулся. Теперь к моей высшей награде, что жив остался, прибавилась еще одна, не менее высокая: человек добро не забыл! – и Ельшин кинул счастливый взгляд на свата.