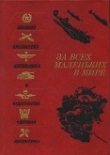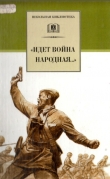Текст книги "Живите вечно.Повести, рассказы, очерки, стихи писателей Кубани к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне"
Автор книги: Григорий Василенко
Соавторы: Кронид Обойщиков,Анатолий Знаменский,Виктор Логинов,Виктор Иваненко,Николай Краснов,Николай Веленгурин,Сергей Хохлов,Вадим Неподоба,Иван Варавва,Валентина Саакова
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
– Свои.
Потом стал спрашивать, куда эта дорога ведет и какая впереди станица. Я ответил: «Не знаю!». И не стал вступать в объяснения с ним.
Выбравшись из гор, начали бои за освобождение кубанских станиц. Помню, как радовались мы, когда узнали, что подбили несколько немецких орудий. Но и наше орудие засекли немцы. Мы стояли в лесополосе и начали рыть окопы – ровики, чтобы прятаться при обстреле. Я успел вырыть окоп в полметра глубиной. На рядом расположенный бугорок вырытой земли положил шинель. Немцы начали обстрел нашей позиции. Я упал в окоп. Что же стало с моей шинелью! Она вся была иссечена осколками. Рядом
– огромная воронка. В ней лежала убитая прикрепленная к нашей батарее девушка – санинструктор. Были ранены несколько человек из орудийного расчета. Но беда не приходит одна – наше орудие было разбито.
Вскоре комдив Кулаков решил пополнить потрепанный в боях 1135–й стрелковый полк за счет артиллеристов, оставшихся без орудий и тылов. Так как у нас уже не было орудия, то меня и других зачислили в этот полк командиром отделения. Но это уже другой рассказ.
Сейчас на месте старинной станицы Абинской вырос красивый город. Он сохранил старое название – теперь он Абинск. В книге «Абинск», написанной В. Неподобой и С. Волковым, сообщается о нем многое. И то, что в нем шесть микрорайонов, что одна из самых красивых в нем улиц – Комсомольский проспект с многоэтажными домами, что в нем есть летний концертный зал и много других примечательных мест. В прошлом же в Абинском укреплении побывали многие выдающиеся люди – писатели А. Бестужев – Марлинский, П. Катенин, С. Кривцов, многие декабристы и военачальники во главе с генералом Вельяминовым.
Тогда же, в памятном 1943 году, приближаясь к станице Абинской, мы ничего об этом не знали. Знали только одно. В февральских боях за Холмскую, Ахтырскую и высоту 179.2 на подходе к Абинской полки 339–й дивизии понесли большие потери. Во время штурма высоты 179.2, которую пытались взять несколько раз, обескровлен был 1135–й стрелковый полк. К 15 февраля 1943 года в этом полку, как свидетельствует журнал боевых донесений, осталось лишь 3 стрелковых роты. Рота, насчитывающая всего 23 человека, 2 расчета пулеметов, 2 расчета ПТР и 2 миномета. Это в переюм батальоне. Во втором батальоне осталась 1 стрелковая рота (35 человек) и рота ПТР с расчетом. Еще меньше осталось людей в третьем батальоне – 17 человек в стрелковой роте, один расчет ПТР и один расчет миномета.
Полк вынужден был перейти к обороне. В журнале боевых действий полка за 16 февраля 1943 года есть строки: «Вследствие больших потерь и малочисленности личного состава, отсутствия артподготовки, сильного сопротивления противника, ухода с обороны 8–й стрелковой роты в 1133–й с. п., полк оставался на прежних рубежах, в обороне, ожидая указаний командира дивизии».
Командир дивизии Теодор Сергеевич Кулаков, получив задачу овладеть Абинской и не имея достаточных подкреплений, чтобы пополнить 1135–й полк, вынужден был пойти на крайнюю меру – взять часть личного состава из артполка и других подразделений и тылов дивизии и направить в 1135–й стрелковый полк.
Так в феврале 1943 года вместе с другими я оказался в 1135–м стрелковом полку нашей дивизии. Меня назначили командиром отделения пятой стрелковой роты. В то время мне едва исполнилось восемнадцать лет. И хотя в отделении, кроме молодежи, было несколько пожилых солдат, назначение меня командиром отделения все приняли как должное. Кроме нескольких кубанцев, в отделении были сибиряки и кавказцы. В большинстве же – молодежь.
Наш полк разместился между Холмской и Абинской в небольшой роще. Сюда почти каждый день прибывало пополнение, оружие. Нашему отделению выдали автоматы и винтовки, гранаты, саперные лопаты. Хорошо помню февральские оттепельные дни. И хотя они и тянули к отдыху и безмятежности, но поддаваться этому было некогда. Мы готовились к штурму. Днем осваивали оружие, учились маскироваться, окапываться. Ведь некоторые прибыли в полк, еще не побывав на фронте и в боях. А когда наступал вечер, собирались у костра (ночи были холодные, морозные) и рассказывали о себе, друзьях, о родных местах. И как‑то даже не верилось, что, возможно, через считанные дни всем придется идти в атаку, под огонь врага.
В эти февральские дни подразделения нашего 1 135–го и 1133–го, 1137–го полков дивизии уже начали бои на восточной окраине Абинской. Но это скорее была проба сил, нежели серьезная операция. Мы знали, что Абинская врагом хорошо укреплена. Это был, в сущности, первый боевой форпост знаменитой Голубой линии немцев. Но мы даже не предполагали, насколько Абинская в укреплениях немцев – крепкий орешек.
И хотя после принятых мер полки нашей дивизии были пополнены, но мы видели у ощущали на себе нехватку нашей авиации. Над нами то и дело безнаказанно летали немецкие самолеты. И хотя части полка находились в роще, мы нередко вынуждены были бросаться в открытые щели, спасаясь от падавших с высоты немецких бомб.
Гитлер придавал большое значение удержанию Абинской и Крымской. В допопнение к авиации, базировавшейся на аэропортах Крыма и Донбаса, на Кубань, как сообщает об этом А. А. Гречко, были переброшены соединение пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс-87» из Туниса и несколько групп истребителей из Голландии, и весной 1943 года Гитлер добился численного превосходства своей авиации на Кубани. Западнее станицы Абинской гитлеровцы соорудили взлетно – посадочную площадку и принимали на ней самолеты. Это мы вскоре ощутили на себе, когда штурмовали укрепления под Абинской.
По приказу командующего 56–й армией генерал – лейтенанта А. А. Гречко для наступления на Абинскую были направлены шесть дивизий и 7–я гвардейская стрелковая бригада. Ударная группировка состояла из двух эшелонов. 1135–й стрелковый полк 339–й дивизии, в котором я находился, выдвигался в первый эшелон, на острие планировавшегося наступления на Абинскую.
Наступление на Абинскую несколько раз назначалось и по разным причинам откладывалось. В эти дни в батальонах побывал командир 1135–го стрелкового полка майор Иван Иосифович Сцепуро. Высокий, стройный, подтянутый, он шутил, смеялся, вселяя в бойцов веру в себя и свои силы. Не обошел он и наше отделение. Спросил меня: давно ли на фронте. Узнав, что раньше я служил в артиллерийской разведке, он сказал: «Это хорошо. Опыт пригодится…» Обрадовался, когда узнал, что большинство солдат отделения – комсомольцы.
И вот пришел день, когда мы узнали, что намечено наступление на Абинскую. Скорее, это был не день, а вечер. Уже стемнело, когда передали, что завтра, 10 марта, полк начнет наступление. Нам выдали скромное энзэ – по шапке сухарей. Мы припрятали сухари в вещмешки. Я проверил свой автомат. Он действовал безотказно.
Все отделение собралось у небольшого костра. Подбрасываем в костер сучья, тихо переговариваемся. Каждый в эту минуту думает о своем. Я начал говорить о том, что нас ждет завтра. О предстоящей операции, о том, как должен действовать каждый из нас. Главное – держаться друг друга, не отставать я не забывать о товарищах. После этого все как‑то успокоились. Впрочем, я мог бы об этом и не говорить – все подразумевалось само собой. Но молчать в эти часы было тягостно. И живой голос ободрял и как‑то делал всех роднее.
Забылись коротким сном на согретой костром земле. Задолго до рассвета полк подняли и вывели на железнодорожное полотно. Было темно, морозно, ярко блестели звезды над головой. Не прошли мы и двух – трех километров, как впереди нас раздались сухой треск взрывов и крики раненых. Те, кто шел впереди, нарвались на заложенные немцами в железнодорожном полотне мины. Мимо нас побежали к месту взрыва санитары. Полк свернул в сторону и направился вдоль обочины железнодорожного полотна.
Прошли еще с километр. Поступает приказ: свернуть вправо. Полк растягивался, чтобы начать наступление на Абинскую с северо – восточной стороны. Идем по схваченной морозом, чуть грузнувшей пахотной земле. Каждому батальону, роте и взводу – свой участок. И мое отделение' тоже заняло свое место. Сзади нас отрывают окопчики командиры взвода и роты. Выбираем и мы удобные места и окапываемся в темноте. Перед станицей – укрепления гитлеровцев: окопы, дзоты. Лежим тихо. Делаем все скрытно.
На рассвете – артиллерийская подготовка, налеты нашей авиации на укрепления гитлеровцев. Потом дымовая завеса.
Холодная земля бросает в дрожь. Кое‑кто закуривает. Шепчу: «В рукав, чтобы не видно было».
Гулко, одна за другой ударили подтянутые к станице наши батареи. Впереди всполохи огня, взметнувшаяся веером земля. И сразу застучали немецкие пулеметы. Ждем самолетов. Но их все нет. Наконец, несколько наших самолетов пролетели над немецкими окопами и скрылись.
Все больше светает. Впереди взметнулись клубы дыма. Это наши саперы ставят дымовую завесу. Взлетела в небо ракета – сигнал к наступлению.
– Вперед, товарищи! – кричу бойцам и сам бегу вперед. Смотрю на товарищей – они рядом, не отстают. Уже совсем светло. Отчетливо виден каждый бугорок, схваченные морозом лужи, каждая впадина. Впереди дымовая завеса, но и она постепенно рассеивается. Бежим рывками – метров десять и к земле. Иначе нельзя – пули как град. Только слышен посвист пролетающих мимо нас пуль. Снова вперед. Никто из отделения не отстает. Кто‑то из «старичков» отделения в горячке и запале бежит прямо по замерзшей луже. Ледок проламывается, и «старичок» хлюпает ботинками по воде. Успеваю крикнуть: «Обходите лужи! Иначе ноги будут мерзнуть!» В эти секунды подумалось и об этом.
Рядом со мной Василий Петренко, почти земляк, кубанец, отличный стрелок. Он уже примеряется и дает короткую очередь. Но вижу – рановато. Слева курган. Под его прикрытие уже бросилось несколько бойцов. А вдоль него веером хлещут пули немцев. «Сюда!» – кричу бойцам.
Пока все живы и никто не отстал. Всматриваемся: впереди чистое поле. В метрах пятидесяти бугорки. Еще один рывок, и мы снова найдем прикрытие. Показываю бойцам на бугорок. Они понимают без слов. Совсем близко окопы немцев. Наши батареи продолжают обстрел окопов и узлов сопротивления немцев. Особенно помогла нам истребительно – противотанковая 45–миллиметровая пушка, расположенная восточнее нас, которой командовал, как я позже узнал, лейтенант Алексей Василина. Меткими орудийными выстрелами он подавил пулеметный расчет немцев, который мешал нам двигаться вперед.
В те минуты я бежал буквально через визг рвавшихся снарядов») бомб, веерную россыпь впивавшихся рядом с тобой немецких пуль. От них только мелкие всплески на земле. Смотреть некогда, ты несешься вперед, не чувствуя ног под собой, но зорко и мгновенно все замечаешь и фиксируешь в сознании. Все это в какие‑то доли секунды. Тело в мгновенной реакции пригибается, виляет, падает, вскакивает, мчится вперед. И ты как наблюдатель, как невероятной мощности электронно – вычислительная машина каким‑то подсознанием все это фиксируешь на ходу, на лету, уже бог весть каким подсознанием и сознанием мгновенно подчиняется мозгу твое тело. Ты знаешь цель – как можно быстрее, словно там твое спасение, ворваться во вражеские окопы. И еще знаешь и помнишь: за тобой отделение солдат. И ты не один на один с войной.
Еще рывок, и мы у немецких окопов. Но подняться трудно: над нами висят немецкие пикирующие бомбардировщики, заходят на поле боя один за другим. Летит земля, секут все вокруг осколки рвущихся немецких бомб. Несколько человек из отделения легко ранены, но никто не покидает строй. Да и уйти некуда. Понимаем: наше спасение – бросаться вперед. Вот и просвет: самолеты улетели. Берем в руки гранаты, на бегу швыряем в окопы. Направляю автомат, на бегу даю длинную очередь. Подбегаем к окопам. Справа – дзот. Подбираюсь к нему и бросаю противотанковую гранату. Взрыв и крики немецких солдат. Даю очередь из автомата вдоль окопов. Замечаю: падают солдаты в зеленых шинелях. Разгоряченные схваткой бойцы отделения прыгают в траншею. Одним из первых – Андрей Мешков, сибиряк. Он стреляет в замешкавшихся немецких солдат. И в эту минуту меня горячо и больно ударило в руку и ногу. «Не ко времени это!» – мелькнуло в голове. Бедро как‑то одеревенело. Но автомат не бросаю, стреляю. Немцы выбиты из окопа. Лишь где‑то вдалеке, за изгибом, раздаются их выстрелы. Рядом со мной лежат раненые бойцы. Подумалось: «Значит, не я один…» Перевязку не делаю. Лишь спустя ее сделали мне в медсанбате. И уже там я узнал, что в меня стреляли немцы, видимо, из приземистых окраинных хат автоматными очередями, вперемешку с разрывными пулями. Потому что вторая, ударившая в бедро, была разрывной. Потом в бедре нашли множество осколков. А одна пуля, попав в мой карман с патронами, вонзила один из них в ногу.
Не очень удобно, но стреляю, окапываюсь у разрушенного дзота. Прошу ребят держать под прицелом фланги.
Солнце – в зените. Над головой, в метрах двадцати, проносятся самолеты. Отчетливо видны огромные нарисованные на крыльях черные гитлеровские кресты. Летчики в шлемах наклоняются, высматривая цель, бросают бомбы, бьют из пулеметов. Обидно, что наших ястребков почему‑то нет. А мы их так ждали. Оглядываюсь назад. Все поле усеяно распластанными фигурами в серых шинелях. Кто‑то ранен, кто‑то убит. Кто‑то притаился, выжидая удачное мгновение, чтобы подняться и броситься вперед. В воздухе гарь, висят клочья дыма. Подняться с земли почти невозможно. Только к вечеру стихает перестрелка. Ночью оставаться в траншее опасно. Прошу бойцов залечь у брустверов, здесь лучше обзор и можно быстрее заметить врага. Почти все бойцы отделения ранены. Но держатся хорошо. Сзади слышатся стоны тяжелораненых наших солдат. Санитаров не видно. Да и не просто добраться сюда, почти до переднего края. Немцы следят, то и дело взлетают ракеты. Проносятся длинные очереди трассирующих пуль. Иногда простучит, словно с испуга, захлебнувшийся пулемет.
В перестрелке проходит и следующий день. Я пробую встать. Опираясь на автомат, подхожу к бойцам отделения. Выясняю, кто ранен. Некоторые сами сделали перевязки. Прошу тех, кто не может вести бой, когда наступит темнота, перебираться через ничейную полосу, чтобы им помогли наши санитары. Ложусь в неглубокую ямку. Рядом убитые. Они прикрывают спереди от пуль.
Наша артиллерия продолжает обстрел немецких позиций. Потом снова атака. Мне видны бегущие вперед бойцы. Хотя наступление ведется уже не такой плотной цепью, как прежде, оно радует нас.
Оставшиеся в строю бойцы отделения продолжают бой. Бьем по хатам. Там тоже засели немецкие солдаты. И как накануне, снова в воздухе безнаказанно летают немецкие самолеты, выискивая цель на бреющем полете. Но бойцы второго эшелона все ближе и ближе подбираются к немецким окопам, и все реже, реже стреляют из траншей немцы. Гитлеровцы открывают минометный огонь по наступающим. Меня больно бьет в плечо. На мгновение в глазах потемнело. Рука, опиравшаяся локтем о землю, подворачивается. Оказывается, осколок мины или бомбы, ударив в плечо, раздробил плечевой сустав. Рука как плеть, двигать ею и стрелять уже невозможно. Томительно долго тянутся часы. Обстрел с двух сторон продолжается с той же силой. Не по – мартовски ослепительно яркое солнце иногда совсем исчезает в клубах черного дыма и в тучах взметненной снарядами пыли. Вижу рядом ползущих к своим раненых бойцов своего батальона. Иногда они судорожно вздрагивают и затихают. Значит, в них попал осколок или пуля врага. Сколько замертво легло в те дни на абинской земле молодых солдат. И какое мужество и отвагу проявили они здесь.
Бой продолжается до позднего вечера. Наконец, затихает. Лишь изредка постреливают с двух сторон. Боль в плече невыносимая, но притерпелся и к ней. В сторожкой тишине различаю шаги. Кто‑то движется в мою сторону. Беру левой рукой автомат, окликаю. «Свой!» – раздается голос. Пригибаясь, ко мне подходит молодой солдат, почти ровесник. Спрашиваю, кто он. Отвечает: из пулеметного взвода, который занял позицию левее нас. Солдат послан в разведку, а заодно и посмотреть, есть ли раненые. Он спросил меня: могу ли я двигаться? Отвечаю. «Как стемнеет, пришлем санитаров. Жди!» – заверил он.
Действительно, через несколько часов подошли четыре человека с плащ – палаткой и мой знакомый пулеметчик. Как они разыскали меня в кромешной темноте, до сих пор для меня остается загадкой. Но, видимо, пулеметчик все приметил и дал верные ориентиры. Меня уложили на плащ – палатку и понесли. Несли осторожно, но все же было мучительно больно. Почти в полночь доставили в знакомый лес, где размещалось хозяйство нашего полка.
Я не ел несколько дней. И не хотелось. Но когда комбат приказал налить мне кружку разбавленного спирта, я с жадностью выпил. И озябшее тело сразу наполнилось теплом. Прежде чем направить меня в палатку санбата, он коротко расспросил о том, как проходил бой. Записал фамилии тех, кто ворвался вместе со мной в окопы врага.
О том, как врачи в течение семи месяцев боролись за мою жизнь, сколько я перенес операций в Холмской, Краснодаре, Кисловодске и Тбилиси и как вернулся в родную станицу Староминскую и еще с незакрытыми ранами пошел работать в райком комсомола, нужен уже другой рассказ.
Здесь же скажу, что о том бое командир 1135–го стрелкового полка полковник Иван Иосифович Сцепуро, подводя итоги боя за Абинскую, позже писал в газете: «Особенно упорно и отважно сражалось отделение комсомольца Николая Веленгурина. Солдаты этого отделения первыми ворвались в немецкую траншею и в рукопашной схватке уничтожили до двадцати фашистов. В этом бою Веленгурин был тяжело ранен, но остался в строю. Двое суток отделение удерживало отбитую у врага траншею. Веленгурина ранило вторично. Только на третью ночь его в тяжелом состоянии унесли в тыл».
Вскоре станица Абинская была освобождена от фашистских захватчиков. За этот бой я был награжден орденом Отечественной войны. Получили награды и другие бойцы моего отделения.
Когда я шел в атаку под Абинской, у меня на груди, в кармане, лежала характеристика на члена ВЛКСМ Староминской средней школы Веленгурина Николая Федоровича, члена ВЛКСМ с ноября 1939 года, билет № 10906464. В ней сообщалось, что я «за время пребывания в рядах ВЛКСМ Староминской средней школы показал себя дисциплинированным, выдержанным и инициативным комсомольцем и был членом учкома и комитета комсомола, добился улучшения оборонной работы в школе». Заверил характеристику тогдашний секретарь Староминского райкома комсомола Ф. Цыгикало. И дата – 27.04.42 г. Характеристику потребовал военкомат как документ, необходимый для поступления в военное училище. В училище я не поступил, было не до него. А вот характеристику пронес через всю войну и вместе с ней шел в свою последнюю атаку на гитлеровцев. На ней остались следы моей крови, которая после ранения в плечо залила грудь. И она для меня сейчас как свидетельство испытания верности.
И еще есть один документ – бесхитростная запись. В моей записной книжке сохранился небольшой листок, переданный мне Анатолием Тагановым в самом начале нашей кавказской эпопеи:
Здравствуй, Коля!
Нахожусь в пехоте и очень каюсь, что не попросился тогда к вам в артиллерию. Гоняют нас целый день, как Сидоровых коз. Будят рано, не то что в артиллерии. Передай привет бывшему нашему лейтенанту (командиру огневого взвода). Желаю вам всего наилучшего. Кормят нас не очень хорошо, два раза в день чайку, т. е. супику и 500 г. хлеба. Через четыре дня выезжаем на передовую. Хороший у нас был комбат, все спрашивал, как дела. А тут…
Анатолий Таганов.
Он был нашим ровесником, семнадцатилетним пареньком, занесенным из Донбасса в Староминскую. Как и многие другие, он вскоре пал в бою на кубанской земле.
Иван ДРОЗДОВ
ПОСЛЕРНИЙ ПОБЕГ«Лета юности! Кто вспоминает о вас без удовольствия? И чем старее мы становимся, тем приятнее вы нам кажетесь», – как‑то воскликнул Николай Михайлович Карамзин.
Иван же никогда не забудет жестоких и неблагодарных людей…
Но то было время войны. Вроде бы как то время их ожесточало. А в мирное?..
К его несчастью, встретились Ивану такие люди и много позже, после войны. Топчут один одного. Своему горю плачут, чужой радости не радуются.
Ну да в семье не без урода.
Сумрак, ясность, ненастье сменяются теперь в его душе, как в непостоянном кубанском апреле.
…Идет Иван Берестов мимо гостиницы «Кавказ», смотрит на ее веселые стекла, на радостные улыбки девушек, столпившихся у дверей ресторана, и ему не верится, что на этом месте был лагерь военнопленных и что здесь звучало немецкое «хальт!»
В боях под Сталинградом Берестов был тяжело ранен и попал к немцам в плен. Его привезли в цимлянские лагеря военнопленных.
Когда его внесли на носилках в сарай, где прямо на сыром полу лежали тяжелораненые, ему показалось, что они укрыты сплошным зеленым бархатом.
Это были зеленые мухи – жирные, прилипчивые. Иван вначале от них отмахивался, но потом смирился. Пальцем не в силах был шевельнуть. Шевельнешь – сразу ощущаешь голод.
Цимлянские лагеря… У Ивана даже сейчас при воспоминании о них сердце стынет. Чего только фашисты не придумывали, чтобы унизить человеческое достоинство. Горше всех доставалось евреям. Их каждое утро заставляли «форсировать» выгребную яму лагерного отхожего места. В этой яме утонуть можно. И кто был маленького роста, того евреи повыше поддерживали на плаву, чтобы не захлебнулся…
Беглецов же, независимо от национальности, развешивали «зелеными фонариками» вокруг лагеря, для острастки. Неделями качались они на виселицах. Дизентерия сотнями косила пленных.
Ивана спасла от смерти девушка Валя, командир конной разведки, тоже плененная под Сталинградом. Она его и выходила. Она и помогла ему бежать из лагеря.
На костылях через линию фронта не перейти, и Берестов решил пробраться на Кавказ, к отцу, в партизаны. По пути зашел в родную станицу Старокорсунскую узнать у мамы: где, в каких горах он партизанит?
Мать, Мавра Дмитриевна, несказанно обрадовалась, что ее первенец Ваня жив. Перед уходом в партизаны отец получил на Ивана похоронку.
– А как папа? – поинтересовался Иван.
Мавра Дмитриевна потемнела лицом, с трудом промолвила:
– Немцы повесили. Люди видели, как он висел на вербе за Кубанью.
И разрыдалась. На ее руках пятеро детей. Четверо за юбку держатся, пятая – у груди.
Маленькая, сухонькая, она смотрит на сына своими серыми глазами как на единственную опору. Куда ей в одиночку с такой оравой?
– Мама, я должен пробраться к партизанам, – виновато бормочет Иван.
– Иди, сыночек! Иди, а как же!..
Тогда все от мала до велика понимали, в какой опасности находится наша Родина. Это сейчас будто разум помутился у россиян. Родину в клочья рвут, разворовывают, а мы…
В ожидании позднего часа – днем через Кубань не переправиться, полицаи, как мухи, облепили берега – Иван прилег на кровать в расчете на то, что ночью уж как‑нибудь перехитрит их. Если между немцами проскользнул, то между ними… Как‑никак, вроде бы свои по роду – племени.
Выглянул в окно. Над зеленью садов пласталось синее, без единой помарки, сентябрьское небо. «Хотя бы луны ночью не было», – обеспокоенно подумал Иван.
В эту минуту без стука, без всякого на то разрешения и ввалился в комнату полицай.
– Ты Берестов? – строго, с подчеркнутой важностью происходящего обратился он к Ивану.
– Ты шо, Алексей?.. Или не узнаешь? – удивилась Мавра Дмитриевна такому неожиданному превращению соседа.
– Собирайсь! – повелительно, не терпящим никаких возражений голосом скомандовал он и взял винтовку наперевес.
Мавра Дмитриевна непонимающе смотрела на полицая.
– Русские – русских? – наконец спросила она озадаченно.
Придя в себя, попыталась усовестить Алексея:
– Или забыл, как ты провалился под лед и как Ваня тебя спас?
– Молчать! – прикрикнул на нее полицай и добавил: – Ты радуйся, что мы щадим твою семью.
– Радуйся?.. Иуды вы, иуды! – огорченно проговорила Мавра Дмитриевна. – Это только иуды, «ударяя в ланиту Иисуса Христа, божественного сына», восклицали: «Радуйся, царь иудейский!..»
В управе Иван попытался смягчить сердце станичного атамана Луняки.
– Дядя Мытро, – обратился он к нему. – Меня‑то за что арестовали?
В колхозе Луняка был учетчиком в полеводческой бригаде. В школьные каникулы Иван помогал ему обмерять делянки. Бывало, в жаркое время он после сытного обеда спит под навесом в холодке, а Иван ходит с сажнем по полям, замеряет: кто сколько прополол. Потому он так запросто и обратился к нему: «Дядя…» За что сразу получил тычок в зубы от начальника полиции.
– Какой он тебе «дядя»? Он – господин атаман!
Иван выплюнул выбитый зуб и не с укоризной, а с сожалением посмотрел на начальника полиции. В колхозе он был ездовым у Иванового отца.
В тот день вместе с Иваном согнали в каталажку шесть человек. Иван помнит только две фамилии – Логинова и Петю Смирнова. Живы ли они?..
Тогда он еще не знал, что, передавая немцам, полицаи оформили их партизанами. А с партизанами у немцев разговор короткий – к стенке!
Ивану Берестову, видевшему столько зла, и в голову не пришло, чтобы свои люди в благодарность за все доброе приговорили его к смерти.
Спасла их случайность.
В каптерку краснодарского лагеря военнопленных, куда их завезли для передачи лагерным властям, неожиданно припожаловало какое‑то высокое начальство с серебряными погонами. И фельдфебель, который принимал Ивана «со товарищи», стараясь поскорее убрать прочь с глаз высоких чинов этих «грязных русских свиней», в спешке втолкнул не в дверь подвала каменного дома, куда собирали партизан с тем, чтобы ночью погрузить их в душегубку, а в ворота лагеря военнопленных.
Потом‑то немцы хватились.
– Берестов, Смирнов, Логинов… – выкрикивали они по лагерю.
Ни Иван, ни Петя, ни Логинов не отзывались. Знали: за хорошим не позовут. На лбу у них не написано, кто они. Документов – никаких.
– А если пригласят старокорсунских полицаев для опознания?..
Вот только когда когти страха впились в их груди.
Перед входом в лагерь Иван, имея уже опыт побегов, был более оптимистичен. И пока стража возилась с многочисленными запорами, изучал подступы… Так сказать, производил рекогносцировку места.
Напротив, по ту сторону улицы Красной, громоздится недостроенное здание пищевого института. Есть где укрыться в первые минуты побега…
Но это там, за воротами лагеря.
А здесь…
Лагерь огорожен двумя высокими, не менее трех метров, заборами из колючей проволоки. Это еще куда бы ни шло. Но вот – полицаи! По трое ходят между рядами колючей проволоки. И все вооружены палками. Немцы не доверяли им оружия. Если они предали своих, то с такой же легкостью предадут и их, немцев. Иуды всегда остаются иудами.
*—о—*
Снаружи лагерь охраняют автоматчики со свирепыми овчарками. По углам – вышки с ручными пулеметами, направленными во внутрь лагеря.
Угрюмым, исподлобным взглядом озирался Иван вокруг.
Там, в цимлянских лагерях, было проще. Немцы тогда еще верили в свою победу и уже считали Россию своей колонией. Так что, беги – не беги – все равно останешься в их руках.
А здесь, в Краснодаре…
Шел октябрь 1942 года. Под Сталинградом немцы увязли окончательно. Было от чего им рассвирепеть. С военнопленными обращались как со скотом. Чуть замешкался – били чем попадя: дрыном, доской, прикладом… а то и на месте пристреливали, если уж кто совсем обессилел.
Одного такого обессилевшего немец пырнул штыком. Но, видимо, не насмерть. Тут‑то и накинулись на несчастного полицаи. Тот втянул голову в плечи, загородился руками. Был виден только его распяленный в крике рот. Полицаи били его палками с таким усердием, словно выколачивали до последнего зернышка сноп пшеницы. Потом подцепили крючком и поволокли, словно дохлую собаку к подвалу. Хотя у того сквозь прорези мученически оскаленных зубов высовывался еще живой, в трепещущей дрожи язык. И все еще шевелились сдвинутые болью брови.
– Проклятые! Вы же и собственной смертью не покроете свою вину! – рванулся было Иван к полицаям.
Спасибо Логинову, удержал. И вовремя. Как зверь чует над собой черную дырочку дула, так и Берестов почувствовал на себе удар недоброго взгляда, как плетью по спине. Оглянулся.
Перед ним – начальник лагерных полицаев. Грудь колесом, одну ногу вперед выставил, стоит, как буква «я». Ссучил пальцы в узловатый кулак и – в ухо.
Небо показалось Ивану зеленым в красных рубцах. И откуда‑то колокольный звон, тихий, печальный. Мир тихонько, блаженно закружился, качнулся. Вот это и есть последнее, через край – больше нет сил. Только слышно, как тюкает сердце.
– Скажи спасибо, что я сегодня добрый.
После Петя рассказывал:
– Не успел я тебя подхватить – полицаи тут как тут. Слетелись, как воронье на падаль. Не дай Бог, коснулся бы земли – все, хана.
…Ночь. Тьма над городом густа. А здесь, посреди барака, чадит прикрепленный к гвоздю, изолированный электрошнур. Колеблющееся пламя выхватывает из темноты черепа, обтянутые кожей. Вместо глаз – безжизненные стекляшки. Они безразлично смотрят из‑под побитых лишаем, как молью, бровей на коптилку. Некоторые военнопленные выгребают из‑за пазухи вшей.
Петя испуганно жмется к Ивану.
– Ты думаешь спрятаться от вшей под козырьком Берестова? – зло шутит Логинов.
Иван невольно окидывает барак, нары в два яруса – на них вповалку люди… Не люди, а скелеты, прикрытые кто чем: кто серой шинелью, кто каким‑то трудно опознаваемым тряпьем.
В углу, у пламени другого коптящего электрошнура, чубатая голова, слепые впадины глаз, слушающая голова – набок, по – птичьи. Из‑под шинели выглядывает нательная рубашка, когда‑то белая.
– Он на голову выше начальника полицаев. Так тот и приказал, по примеру Наполеона, лишить его этого преимущества… Но не тут‑то было. Сержант оказался здоровым, как бык. Полицаи только сумели выколоть ему глаза. А потом и забыли о нем, – рассказывает сосед по нарам.
Вытянув шею, сержант щупает пустоту, спотыкается, как на грех, хватается за руку проходящего мимо полицая.
– Прочь, урод! – выдергивает тот свою лапищу и со всего маху бьет палкой по шее. Тонкая шея сержантика вянет, он, не крикнув, оседает, клонится вниз, лицом в колени.
Иван смотрит на него – широко, кругло. Был бы полицай один. Но они в одиночку не ходят. Всегда – стаей.
Мучительно тугим кольцом сгибается тело сержанта.
Петя что‑то говорит, но Иван его не слышит. Он стоит на коленях, слушает свое сердце – раз, два, три
– как звон часов ночью, в бессонницу. Если б не быть человеком – если бы не знать жалости! Сострадания!
С ума сойти…
Сержантика волокут крючком. И уже никто никогда не узнает, как было его имя.