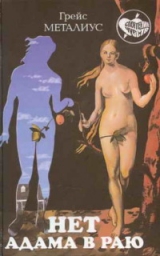
Текст книги "Нет Адама в раю"
Автор книги: Грейс Металиус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
Металиус Грейс
Нет Адама в раю
Металиус Грейс
Нет Адама в раю
Книга первая
Глава первая
Умирал Арман Бержерон долго, мучительно долго, но даже с приближением последнего мига жизни никакой величественности, свойственной смерти, не ощущалось. Возможно от того, что был он еще довольно молод. Он лежал в полном одиночестве, посредине двуспальной кровати, которую вот уже больше двенадцати лет делил со своей женой Моникой, и в минуты просветления мрачно размышлял, что все эти годы их постель была такой же холодной, как и теперь. Огромная и громоздкая, изготовленная из золотистого дуба и отполированная до блеска, кровать внушала Арману отвращение. Моника обожала, чтобы кругом все сверкало, и любая вещь отражала, словно зеркало.
Блестит, подумал Арман. Все вычищено, стерильно и сияет. Как и сама Моника.
В спальне удушливо пахло хлоркой, и вместе с тем неуловимо пробивался кисловатый запах рвоты и крови – запах, пропитавший комнату, как ни старалась Моника отмывать и проветривать ее.
Арман не без самодовольства вспоминал вчерашний вечер. Вчера вечером – во всяком случае ему показалось, что вечером, Моника вошла в спальню. Было уже очень поздно, а Армана опять вырвало. Моника принялась мыть и чистить умирающего, громко ворча.
– Свинья! – в сердцах бросила она. – Чтобы ты захлебнулся в собственных нечистотах!
Арман лежал с закрытыми глазами, чтобы Моника не заметила в них смеха.
– Свинья!
Она обмыла его и переодела в чистую рубашку, а Арман, обмякший и тяжелый, не помогал ей, стараясь лежать неподвижно. Потом Моника, болезненная в своем стремлении к чистоте, принялась стаскивать с матраса перепачканные простыни. Трудно было притворяться спящим, пока Моника билась над ним, но Арман терпел, стиснув зубы. Он толком и не понял, что тяжелее. Сдерживать стоны, несмотря на пронизывающую боль – Моника не церемонилась, перекатывая его, словно мячик, чтобы выдернуть из-под него простыню и застелить взамен свежую, – или безумный смех, видя ее налитые яростью глаза и гневно застывший рот.
Когда она закончила, Арман облегченно вздохнул. Моника опять проветривала спальню, и леденящий ветер, врывающийся через открытое настежь окно, немилосердно хлестал кожу Армана, вгрызаясь в его тело. Сейчас его пробьет дрожь, и Моника поймет, что он вовсе не спит, а притворяется, подумал Арман. Но Моника, закончив наводить чистоту, даже не взглянула на него. Она вынесла в ванную тазы и тряпки и лишь тогда осмотрелась. Немного опустила окно, оставив щель шириной в добрых шесть дюймов, в которую задувал колкий февральский ветер, потушила свет и ушла, хлопнув дверью.
Арману сразу стало не до смеха.
Он понял, провести Монику ему не удалось. Она догадалась, что он прикидывается спящим, и ушла, в наказание оставив мужа мерзнуть всю ночь. А ведь знала, как ненавидел зимой Арман открытые окна.
Арман не знал, сколько он пролежал, зябко поеживаясь и дрожа от холода, превозмогая боль, которая раскаленными углями прожигала внутренности, но он понял, что, должно быть, не выдержал и застонал или даже закричал. Дверь спальни бесшумно отворилась – Арман даже не заметил, что она открыта, пока не увидел полоску света из коридора. Маленькая тень в белой ночной рубашке прокралась к окну и опустила его до конца.
Арман снова улыбнулся, но теперь открыто – он уже не боялся, что улыбку заметят. Маленькой тенью была его дочурка Анжелика, единственное существо, которое любил Арман, единственная, кого он любил за долгие, долгие годы.
– Mon ange* **Мой ангел (фр.)** , – прошептал он, и девочка, приблизившись к кровати, остановилась у изголовья. Арман с превеликим усилием приподнял руку, и Анжелика сжала ее обеими ручонками.
– Mon petit ange du ciel* **Мой маленький небесный ангел (фр.)** , прошептал Арман.
Но слов не было услышано. Лишь губы беззвучно шевелились. Анжелика прижала его холодную ладонь к своей щеке.
– Папа. Папочка, – пробормотала она.
Кап-кап, обожгли слезинки руку Армана.
– Non, non, ma petite* **Нет, нет, моя малышка (фр.)**, – сказал он. – Не стоит из-за меня плакать.
Анжелика стояла молча, сжимая обеими ручонками отцовскую ладонь, пока та не потеплела. Потом девочка поцеловала кончики пальцев и бережно отпустила руку.
Дверь бесшумно закрылась и спальня снова погрузилась в темноту. Арман перестал бороться с дремотой, сознание его заволокло пеленой. Он уже немного согрелся, да и боль притупилась. В воспаленном мозгу роились неясные образы, всплывали осколки давно забытых видений, из углов спальни доносились бессвязные обрывки речи. В последнее время это случалось с ним все чаще и чаще, и сегодня Арман даже обрадовался.
– Оставлю только самых хорошеньких, – сказал он сам себе. – На других и смотреть не стану, да и слушать всякую чепуху не буду.
Впрочем, Арман прекрасно знал, что это далеко не так просто. Порой казалось, звуки и видения, обретали собственную жизнь, и дело кончалось тем, что они одерживали верх, и Арман целиком оказывался в их власти.
Арман Бержерон родился и вырос на ферме, недалеко от южных границ канадской провинции Квебек и вплоть до пятнадцати лет от роду краем света считал ближайшую деревушку Сент-Терезу. Нет, он знал о существовании внешнего мира, ведь его дедушка Зенофиль выписывал монреальские газеты, да и в Сент-Терезе порой появлялись незнакомцы, искавшие счастья на безлюдных притоках реки Святого Лаврентия. Но газеты Армана не интересовали, а незнакомцы годились лишь для того, чтобы немножко попялиться на них и праздно посудачить о цели их приезда. Деревушка, ферма, соседи и особенно – семья Армана составляли всю его жизнь и ничего другого в пятнадцать лет он от мира не требовал.
Арман родился седьмым, а всего в семье было одиннадцать детей – шесть мальчиков и пять девочек; все как на подбор крупные, драчливые и умные. Иметь одиннадцать детей для франко-канадской семьи не считалось чем-то из ряда вон выходящим. У Пакетов, например, на ближайшей ферме, вниз по реке от Бержеронов, было четырнадцать детей, а у Тюркотов из Сент-Терезы и того больше. Еще до рождения у Бержеронов Армана Мари-Роз Тюркот произвела на свет семнадцать младенцев; когда же на пятьдесят втором году жизни детородная способность этой достойной женщины угасла, по улочкам Сент-Терезы разгуливали двадцать два, маленьких и уже не очень маленьких, Тюркота.
Все Бержероны были здоровяками. Старый Зенофиль Бержерон достигал в росте шести футов, а его сын Альсид вымахал еще больше. Как и все внуки Эдуард, Пьер, Кристиан, Жак, Арман и Антуан, – хотя спесивый старик отказывался это признавать. Все мужчины рода Бержеронов были широкоплечие, с огромными ручищами, мощными ногами; любой из них мог помериться силой с быком. Внушительное было зрелище, когда воскресным утром они топали гурьбой в деревенскую церквушку.
Церквушка и без того была крохотная, а когда в нее набивались Бержероны, то, как жаловались местные прихожане, все прочие казались гномами, а сама церквушка сразу становилась игрушечной.
Впрочем, еще внушительнее Бержероны выглядели субботними вечерами в ратуше, когда выстраивались плясать кадриль. Пол содрогался и все здание гуляло ходуном, а танцующие и зрители громко хохотали, наблюдая, как восемь здоровенных мужиков хлопают, притопывают и от души веселятся, передвигаясь, как ни странно, не неуклюже, а с какой-то звериной грацией.
Хвастаться, конечно, грешно, говаривали местные жители, но правда есть правда, а она состоит в том, что таких красавцев и здоровяков не сыскать больше нигде. Даже в Монреале. Да что там – в Монреале, таких молодцев, как Бержероны, не найдешь ни в Квебек-сити, ни даже во всей провинции.
Могучие и высоченные, мужчины рода Бержеронов были необыкновенно громкоголосы. Их зычный смех, выкрики и проклятия доносились, если верить соседям, до самой Оттавы. По местной легенде, лишь сила легких спасла как-то младшего из братьев, Антуана, который, охотясь в лесу, сломал ногу.
Антуан, прихватив ружьишко, отправился на охоту довольно поздно, перед полуднем. Ночью высыпал снег, и Антуан надеялся выследить оленя. К вечеру, когда поднялась метель и сгустились сумерки, домочадцы забеспокоились.
– У меня дурное предчувствие, – не выдержав, сказала Берта своему мужу Альсиду. – Позови отца, возьми мальчишек, и идите искать его.
– Брось, ma petite* **Моя малышка (фр.).** , не волнуйся из-за пустяков, – ответил Альсид.
Даже босиком Берта Бержерон была ростом в пять футов и десять дюймов* **Около 178 сантиметров.** , но Альсид с того самого дня, как начал за ней ухаживать, и до сих пор неизменно называл ее "ma petite".
Берта скрестила руки на пышной мягкой груди, выпрямилась во весь рост и, указав кивком на железную кухонную печь, провозгласила:
– Ни один из вас не получит ни кусочка, пока вы не вернетесь вместе с Антуаном. Повторяю: у меня дурное предчувствие.
Альсид запрокинул назад крупную голову с копной черных волос и расхохотался. Потом подошел к жене и легонько, без усилий, словно Берта и не весила больше двенадцати стоунов* **Один стоун равен 14 фунтам, или 6,35 килограммам.** , приподнял ее за локти. Потом поцеловал в губы, опустил на пол и смачно шлепнул по заду.
– А какое у тебя от этого предчувствие, ma petite? – спросил он, прижав ладонь к ее лобку. – Скажи, ma petite, не стесняйся. Что ты чувствуешь?
Берта оттолкнула его.
– Ты старый развратник, Альсид Бержерон. В твои-то годы, а ведешь себя, как молодой кобель. – Как Берта ни сдерживалась, она все же улыбнулась, и на короткое время лицо ее прояснилось.
– Значит, все-таки приятно, да? – поддразнил Альсид и принялся ласкать ее грудь. Даже через грубую хлопчатобумажную ткань он почувствовал, как набухает и твердеет упругий сосок.
– Иди же, Альсид, – сказала Берта и отступила на шаг. – Сейчас же, не мешкай. Я и вправду боюсь за Антуана.
– Ты ведешь себя, как американка, – покачал головой Альсид с притворным недовольством. – Все там у них в Штатах недотроги, да и держатся, словно палку проглотили.
Тем не менее отца он позвал, собрал сыновей, и они отправились на поиски Антуана.
Снег валил стеной, да и сугробы уже намело высоченные. Фонари в руках Бержеронов, которые рыскали по лесу, утопая в снегу, с трудом пробивали бреши в снежной пелене, и час спустя даже Альсиду стало не по себе. Лишь, углубившись в чащу миль на пять, они впервые услышали крик Антуана.
– Он там! – крикнул Альсид остальным, и они двинулись на голос.
Антуан лежал, наполовину занесенный снегом; правая нога неестественно вывернулась, а лицо было багровым от ярости.
– Сучье отродье! – вопил Антуан, пытаясь приподняться. – Чертов ублюдок!
Альсид, стоя над младшим сынком, принялся громко хохотать. Секунду спустя к нему присоединились и все остальные.
– Дурачок мой бедный, – выговорил старый Зенофиль, давясь от смеха. Почему ты лежишь и вопишь дурным голосом, когда у тебя в руке ружье? Тебе стоило только выстрелить, и мы бы услышали тебя еще час назад.
– Да, верно, – подтвердил Эдуард. – Объясни, братишка, почему ты так валяешься в снегу?
– Ты, чертов сукин сын! – завопил Антуан. – Я сломал ногу – разрази ее гром! Лучше подними меня, а то я тебе башку снесу.
– Аа-а, – протянул Пьер. – Хорошо, что мамочка не слышит, как выражается ее младшее чадо. Она бы сняла с тебя штаны и надрала задницу.
– Ну, ты у меня дождешься, Пьер! – выкрикнул Антуан. – Вот заживет нога и я тебя отделаю по первое число.
– Фу, как стыдно, – улыбнулся Арман.
Они осторожно подняли Антуана и, выстроившись в колонну, понесли его на плечах домой, всю дорогу гогоча и распевая непристойные песенки.
Тем временем Берта, которая не находила себе места из-за "дурного предчувствия", послала одну из дочерей в Сент-Терезу за врачом. Она поступила очень мудро, поскольку нога Антуана, как оказалось, была сломана в двух местах.
– Что ж, вам еще повезло, – сказал доктор Жирар. – Эти головорезы несли его так, что любой другой вообще остался бы без ноги.
Пока врач выправлял ему ногу, Антуан сыпал проклятиями и ругался, как извозчик; Берта же, которая хлопотала рядом, помогая, чем могла, впервые молчала, не пытаясь его одернуть. Потом, когда дело было сделано, Берта быстро состряпала ужин, после чего мужчины, не расходясь из кухни от жаркой печки, напились до чертиков.
Много лет спустя в маленьком нью-гэмпширском городке, лежа в холодной чистой постели, Арман Бержерон пытался вспомнить, в самом ли деле он впервые напился именно тогда, в тот день, когда Антуан сломал ногу.
"Неужели и впрямь тогда? Нет, не может такого быть".
Арман не знал, когда пристрастился к спиртному. Более того, когда он переставал об этом думать, ему начинало казаться, что пить он любил всегда. Но ведь и его дед и отец, да и братья частенько прикладывались к бутылке, напиваясь порой в стельку, и ни с кем из них ничего страшного не случилось. Приготовление вина из винограда, одуванчиков и ягод каждый год превратилось для всей семьи в священный ритуал. Пока Арман со своими братьями, отцом и дедом колодовали над вином, женщины консервировали фрукты и овощи, коптили и солили мясо. Бержероны делали пиво, сидор и виски из картофеля, ячменя и кукурузы, готовили сладкие ликеры и настойки из вишни и абрикосов. Крепкие напитки всегда присутствовали на обеденном столе вместе с молоком, маслом и мясом.
Как он всегда предвкушал первую кружку холодного, золотистого, обильно пенящегося пива, когда возвращался домой с поля, где целый день гнул спину. А за ужином, насколько Арман себя помнил, он всегда протягивал руку и подставлял стакан, когда мать говорила:
– Давайте еще выпьем. Последний кусочек мяса нужно запивать глотком доброго вина.
В Сент-Терезе было лишь одно питейное заведение – старый обшарпанный бар под вывеской "Рыбарь", с темными прокуренными стенами. В каждую субботу после плясок в ратуше здесь собирались фермеры и деревенский люд.
По субботам, помнилось Арману, все упивались вмертвую. Эх, и шумели же мы тогда, подумал Арман. А как пели, как кулаками махали! Нигде не сыскать больше таких драк, как те славные рукопашные, что вспыхивали каждую субботнюю ночь в "Рыбаре". Пусть на следующий день во время обедни гудела голова, ныли ушибленные места и саднили раны, все с лихвой перекрывалось блаженством бурной ночи.
Все эти годы Армана преследовало ощущение, будто у него до сих пор на затылке багровеет шишка в том самом месте, где один из сыновей Кормье огрел его тяжелым стулом. Ах, как Арман потом с ним поквитался! Бесчувственного Кормье тащили домой втроем.
Да, прекрасные были времена, подумал Арман. И вдруг счастливые воспоминания улетучились, и Арман вспомнил врача, который посещал его каждый день, иногда даже по два раза. Врача, который с незапамятных времен предупреждал, что пьянство вгонит Армана в могилу.
Старый дуралей, подумал Арман. Несет всякий вздор почем зря.
Старый доктор Саутуорт сам был не дурак заложить за ворот, и это ни для кого не служило тайной. Да и мог ли этот чопорный иссушенный янки понять, какие жизненные соки бьют ключом в жилах франко-канадца Армана Бержерона?
Нет, Бержероны не из тех людей, которые могут приказать долго жить из-за пристрастия к алкоголю. Взять хотя бы старого Зенофиля. Вот ведь был человечище! Несколько раз в неделю старик упивался вусмерть, а отправился к праотцам в девяносто один год. И вовсе не от пьянства. Зенофиля унесла в могилу инфлюэнца – грипп, который старик подхватил во время поездки в Монреаль. А Альсид? Отец пил еще больше, чем Зенофиль. И он ушел в лучший мир вовсе не из-за пьянства. Глушил вмертвую всю жизнь, а погиб в семьдесят шесть лет, пытаясь срубить надоевший всем раскидистый клен. Проклятое дерево обрушилось прямо на него, переломив старику шею. Так что спиртное тут ни при чем. Вздор! Пропойца Саутуорт молол чепуху.
Когда Арману исполнилось пятнадцать, а это пришлось на третье августа тысяча девятьсот четырнадцатого года, дедушка принес из Сент-Терезы монреальские газеты. Зенофиль уселся за кухонный стол и молча ждал, пока Берта нальет ему крепчайшего чаю.
Покончив с чаем, старик аккуратно отставил чашку в сторону.
– Франция вступила в войну с Германией, – сказал он.
Долгое время никто не нарушал молчания, потом Альсид встал, подошел к отцу и остановился у него за спиной. Опустив здоровенную лапу на плечо Зенофиля, он произнес:
– Ты давно предупреждал нас, отец. Вот уже несколько месяцев.
– Да, – ответил Зенофиль. – Предупреждал, но надеялся, что этого не случится.
Берта Бержерон, ничего не говоря, подошла к одному из окон, выходивших на поля. Через несколько недель подойдет пора снимать урожай, который обещал быть богатым как никогда. Пышные зазолотившиеся поля предвещали сытость и тепло ее семье, деньги на покупку новых штор в гостиную и на свадьбу ее дочери Аурелии, которая должна была выйти за Омера Кормье сразу после уборки урожая. Берта повернулась, посмотрела на мужа и перевела взгляд на свекра.
– Нам нет никакого дела до этой войны, – твердо заявила она.
Зенофиль обернулся к ней и Арману, следившему за дедом во все глаза, показалось, что тот за несколько часов превратился в старца.
– Нет, есть, – отрезал он. – И мне, и Альсиду, и мальчикам. И тебе, Берта. И твоим дочерям. В твоих жилах течет та же французская кровь, что и в моих.
– Нет! – выкрикнула Берта, и Арману показалось, что кто-то силой вырывает слова у нее изо рта. – Это неправда! Я родилась здесь. В десятке миль от нашего дома. Я канадка, а не француженка. А раз я уроженка Канады, то, значит, я англичанка, а Англия не воюет с Германией.
Зенофиль отвернулся.
– Подожди до завтра, Берти, – глухо промолвил он. – Или до послезавтра. Англия тоже объявит войну.
– И даже тогда нам не будет до нее дела! – запальчиво воскликнула Берта и уставилась на кукурузное поле.
– Как нам поступить, папа? – спросил Альсид.
Берту словно отбросило от окна. Она схватила Альсида за руку.
– Повторяю, Альсид, это не имеет к нам никакого отношения, – почти умоляюще проговорила она, и Арман впервые в жизни увидел в глазах матери слезы.
– Ну какое нам дело до их войны? – спросила она, заламывая руки. Франция и Англия в тысячах миль отсюда. За океаном. Пусть война там и идет. Подальше от вас, от меня и от наших детей.
Альсид вырвал руку.
– Хватит, Берта, – резко сказал он. – Как папа решит – так и будет.
– Нет! – крикнула она. – Папа не смеет этого решать. Ты женат не на папа, и не он – отец моих детей. Это мой дом, в нем живете вы и мои дети, и я не хочу больше слышать о войне!
– Этот дом принадлежал папа, когда тебя еще на свете не было! загремел Альсид. – И хватит, ты уже все высказала, а теперь помолчи.
Зенофиль встал, подошел к Берте и обнял ее за плечи.
– Не надо, Альсид, – тихо сказал он. – Берта права. Это ее дом. С тех пор как ты привел ее сюда, свою невесту, и я увидел, что вы ладите, дом принадлежит ей по праву. Она родила тебе сильных парней и прелестных девчушек, да и я видел от нее только любовь и уважение. – Старик развернул Берту лицом. – Но, Берта, дело в том, что Франция – моя родина. Там я родился, вырос и женился, поэтому и не могу считать себя англичанином. Я француз.
Берта заплакала. Зенофиль попытался прижать ее голову к своему плечу, но Берта оттолкнула его. Она стояла, сжав кулаки, и по щекам струились слезы.
– Моего мужа и моих детей заберут, – ее голос сорвался на визг, сражаться за незнакомых людей в стране, которую они прежде и в глаза не видели. Их могут убить. За дело, которое никого из них не касается. Поля обагрятся кровью моих детей, которые сложат головы в чужой стране.
– Берта, Берта, – проговорил Зенофиль, почти ласково. – Война состоит не только из убийств. Да, на войне стреляют и убивают, там играют духовые оркестры, там размахивают знаменами и получают награды. И еще там едят. Есть поговорка: солдат дерется так, как ест. Вот, чем мы можем помочь Франции. Мы соберем богатый урожай и отошлем его нашим солдатам.
– Да! – всхлипнула Берта. – Накормим армию каких-то дикарей, а мои детки будут умирать от голода. Хватит! Не хочу больше слушать этот бред!
Она выбежала из кухни, и Арман услышал, как хлопнула дверь наверху. Он сидел как громом пораженный. Никогда за все прожитые годы он не видел, чтобы мать уединялась днем в своей комнате на втором этаже, кроме тех случаев, когда подходило время очередных родов. Он уставился на отца, уверенный, что Альсид сейчас бросится вслед, но отец стоял не шелохнувшись, вперив глаза в пол.
– Пойдем, Арман, – выдавил он наконец. – Нужно работать. Мы уже давно тут сидим, и остальные нас, должно быть, заждались.
Они вышли во двор; Зенофиль за ними. Впервые за всю жизнь Арман внимательно осмотрелся вокруг. Словно новыми глазами он увидел сочную зелень тучных лугов, золото пшеничных и кукурузных полей, а вдали – черные точки – головы своих братьев, с раннего утра работавших не покладая рук. Плодовые деревья ломились под тяжестью сочных фруктов. Арман невольно призадумался, почему он ни разу не остановился, чтобы полюбоваться на них весной, когда деревья усыпаны белоснежными цветами, а воздух напоен их ароматом.
Земля прогибалась под ногами, как губка, и Арман с трудом подавил желание нагнуться и пощупать руками пышную изумрудную траву. Он испытывал неловкость, чувствуя на затылке пристальный взгляд Зенофиля. Юноша знал, что на тучных пастбищах за усадьбой пасется скот, нежатся жирные бабочки, рыжие с белыми подпалинами, а на нижних выгонах, устроенных на заливных лугах, нагуливают жирок боровы и свинки, роют рылами коренья и похрюкивают от удовольствия.
Арману вдруг показалось, что его глаза разбились на множество ячеек, и поэтому он может одновременно видеть не только пшеничные и кукурузные поля впереди, но и животных на пастбищах, фруктовые деревья, увешанные плодами, виноградные лозы с тяжелыми гроздьями ягод, банки с консервами и соленьями в погребе, и даже деревянные стеллажи, ломящиеся от бутылок с вином. Стеллажи сколотил в свое время отец. Лицо обдувал знойный августовский ветерок, но Армен каким-то образом ощущал и жаркий дух кухонной печи в январскую стужу, и весеннее хлюпанье грязи под ногами.
Поля обагрятся кровью...
Арман стряхнул оцепенение и бегом бросился за дедушкой.
Grand-pere* **Дедушка (фр.).** ! – окликнул он.
Старик остановился и оглянулся.
– Что, Арман?
Арман мог без труда пробежать несколько миль, даже не запыхавшись, но, поравнявшись с дедом, вдруг почувствовал комок в груди, хотя пробежал лишь несколько десятков ярдов.
– У нас тоже будет война, Grand-pere?
Зенофиль ответил не сразу. Он внимательно смотрел на внука.
– Сегодня тебе исполнилось пятнадцать, – сказал он наконец. Невозможно представить, что ты еще мальчик – мне уже приходится задирать голову, чтобы посмотреть тебе в глаза. Он вздохнул и Арману снова показалось, что дедушка страшно постарел. Перед ним стоял глубокий старик. И это тоже невозможно было представить.
– Во время войны всякое может случиться, – произнес Зенофиль. Допустим, немцы захватят Францию. Кто тогда помешает им завоевать всю Европу? Возможно, я просто старый дурень, но мне кажется, что в том случае, если Франция достанется немцам, то с Европой будет покончено. И ничто тогда уже не спасет от оккупации единственный уцелевший островок – Англию.
– Но Англию уже много веков никто не завоевывал. Ты сам мне говорил.
– Всегда что-то случается впервые, – сказал Зенофиль. – Не забывай я же сказал: "Допустим". Так вот, допустим также, что немцы все же завоюют Англию. Ведь им уже не так сложно будет захватить Канаду, верно?
– Но за нами же стоят Соединенные Штаты, – возразил Арман.
Зенофиль сплюнул на землю.
– Соединенные Штаты. Ха! Нация пролетариев и лавочников. Нет, мой мальчик, не стоит полагаться на Соединенные Штаты. Янки в случае опасности попрячутся по норам и ни за что не высунутся, чтобы, не дай Бог, не подставить свою шкуру под пулю. Запомни: в Соединенных Штатах все совсем не так, как у нас. У них даже короля нет. У них свой президент, которого избирает народ, и если президент втянет свою страну в войну, он рискует, что на следующий срок его не переизберут. Так что не рассчитывай на Соединенные Штаты – они не станут спасать мир. Они заняты только своими делами.
– Вы идете? – позвал Альсид.
Арман поднял голову и увидел отца уже далеко впереди. Крупный черный силуэт на фоне яркой зелени и золота полей.
Поля обагрятся кровью...
А вдруг этот силуэт – вовсе не Альсид, а немецкий офицер?
Арман припустил во всю мочь и остановился только, добежав до своих братьев.
Вечером все мужчины Бержероны поехали в Сент-Терезу и уже в "Рыбаре" встретились со своими друзьями. Арман впервые оказался в деревне в будний день и с изумлением убедился, что улочки выглядят точь-в-точь, как в субботний вечер или в воскресное утро, с той лишь разницей, что не видно женщин, и единственный свет пробивается из окон таверны. Те же самые завсегдатаи "Рыбаря" сидели за теми же столами, только не слышно было звонкого смеха и песен, громких выкриков и прибауток, и – Арман знал наверняка, – сегодня никто не станет махать кулаками.
Бержероны расселись за длинным столом, вскоре к ним подсели друзья и знакомые. Морис Леме, владелец "Рыбаря", сдвинул столы вместе, и все оказались уже за одним столом. Разговор шел только о войне и Франции. Арман и его братья сидели, набрав в рот воды, и слушали, о чем говорят взрослые.
Странная способность одновременно видеть и ощущать то, что происходит в разных местах, не покидала Армана. Он следил за старшими братьями, в особенности за Эдуардом, и обратил внимание, что Эдуард поднес ко рту стакан вина и залпом осушил его. Арман видел, как задвигался его кадык, видел огромную ладонь, в которой утопал стакан, и вдруг совершенно отчетливо увидел Эдуарда, лежащего на обагренном кровью поле с перерезанным горлом и сжимающего в кулаке уже бесполезное ружье.
Но ведь в Канаде не будет войны, подумал Арман. Мы останемся на ферме, чтобы заготавливать еду и поставлять провизию в армию, как сказал Grand-pere, и наши поля никогда не обагрятся кровью. Маман сегодня была просто не в себе.
Морис Леме наполнил всем стаканы, после чего сам сел за стол и присоединился к общей беседе.
Может быть, маман ждет очередного ребенка, подумал Арман. Да, конечно. Этим и объясняется ее вспышка.
Он улыбнулся, будто камень свалился с души.
Да, маман, конечно же, собирается снова рожать. И прежде забеременев маман в первое время бывала очень вспыльчива и раздражительна. Потом же, когда живот начинал расти, все проходило. Маман пела, смеялась и шила крохотные ночные рубашечки и распашонки из фланели, отец ходил гордый как петух, сестры кудахтали как наседки и хлопотали на кухне, а братья гоготали и подтрунивали над всеми.
– Ей-Богу, – уверяли братья, – всякий раз, как маман на сносях, мы худеем фунтов на двадцать. Жратвы, что нам готовят, хватило бы разве только послушницам женского монастыря.
Да, подумал Арман, маман в положении, этим и объясняется ее нервозность. Может быть, на этот раз она принесет им девочку, и счет сравняется. Шесть братьев и шесть сестер. Беспокоиться не о чем. Война не доберется до Канады.
– ...и хотя она была уже на восьмом месяце – на восьмом, представляете! – этот сукин сын изнасиловал ее.
Арман резко поднял голову и посмотрел в конец стола. Его дедушка слушал Луи Примо и согласно кивал.
– С немцами всегда так. Свиньи. Бешеные свиньи. Война делает их кровожадными.
– Зато мы все жмемся по углам, как трусливые бабы, – вставил вдруг Эдуард.
Впервые за вечер кто-то из молодых подал голос, и все собравшиеся повернулись и уставились на него.
– Тем более, – продолжил Эдуард, – что вы недооцениваете Францию. Никогда фрицам не покорить целую нацию, которая борется за правое дело.
– Ты еще ребенок, Эдуард, – холодно произнес Зенофиль. – Ты силен как бык, верно, но рассуждаешь – как младенец.
Эдуард вспыхнул, и Арман понял – брат уже жалеет, что открыл рот.
– Но Франция... – попытался было возразить Эдуард.
– Французы не созданы для войны, – сказал Зенофиль. – Французы созданы для любви.
– Да! – пылко поддержал Луи Примо. – Может ли кто-нибудь представить, чтобы француз набросился на ребенка? Или ударил женщину?
Внезапно Арману перестало казаться, что его мать ждет ребенка.
Какая участь ожидает маман и девчонок, если немцы захватят Канаду?
И снова, хотя Арман смотрел на мужчин, собравшихся вокруг длинного стола в "Рыбаре", он видел столовую в их доме. Еще нет девяти, за столом сидит маман с девочками. Она штопает одежду, а две его старшие сестры, Аурелия и Иветта, подрубают простыни, которые принесет с собой в новый дом Аурелия после того, как обвенчается с Омером Кормье. Адриенна, третья по старшинству, вышивает; иголка так и мелькает в ее руках, выныривая то с одной, то с другой стороны белоснежной ткани, натянутой внутри деревянного обруча. Адриена украшает розовыми цветами наволочки, которые тоже достанутся Аурелии. Две младшие сестренки, все их называют крошками, склонились над учебниками. У Армана защемило в груди, когда он представил себе восьмилетнюю Мишель и Марию, которой только недавно исполнилось семь.
Разговор продолжался, стаканы и кружки мелькали чаще и чаще, а в мозгу Армана роились обрывки фраз.
Свиньи. Ее изнасиловали, когда ей было только семь... Так, кажется, сказал Луи? Семь лет, и ее изнасиловал немец? Нет. Не может быть. Или – на восьмом месяце?
Маман!
Арман внезапно вскочил, опрокинув свой стакан и едва не свалив стол.
– В чем дело? – рявкнул Альсид.
– Я хочу пойти домой, – сказал Арман.
– Так уходи, – велел отец. – Только пойдешь один, потому что мы должны еще посидеть здесь.
Он отвернулся и возобновил беседу с Луи и Зенофилем, даже не проводив взглядом Армана, который зашагал к двери.
Из Сент-Терезы к ферме Бержеронов вела узкая и извилистая дорога, которая этим вечером показалась Арману бесконечной. Было душно, жара не спала, несмотря на яркую полную луну над головой; ноги плохо слушались Армана, он то и дело спотыкался.
Должно быть, вино сказывается, подумал Арман. Никогда прежде ему не казалось, что он продирается через высокую, доходящую до пояса траву, в то время как на самом деле он шел посреди дороги. Никогда прежде он не вдыхал аромата цветущих яблонь, в то время как яблони были усыпаны спелыми плодами, и никогда не слышал заливистого звона рождественских колокольчиков знойным августом. Арман попытался бежать, но ватные ноги не слушались. Все тело вдруг отяжелело, и Арману захотелось лишь одного – прилечь где-нибудь и забыться, ни о чем не думать и ничего не чувствовать.
Вдали заблестели огоньки, и Арман понял, что приближается к ферме Жана Дюплесси. Ничего, нужно только пройти ферму, а там он приляжет прямо в поле. Хотя бы на несколько минут, пока не схлынет эта непонятная тяжесть. Арман заметил свет в одном из окон на втором этаже усадьбы Дюплесси. Свет пробивался из окна спальни Сесилии Дюплесси. Интересно, что она делает, подумал Арман. Должно быть, готовится ко сну. Расчесывает перед зеркалом длинные черные волосы, а сквозь тонкую ткань ночной рубашки просвечивают маленькие розовые сосочки.





