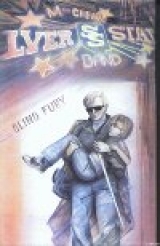
Текст книги "Слепая ярость"
Автор книги: Говард Хайнс
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
– Секундочку! – остановил Ник, в котором взыграло любопытство.
– Вы что-то хотите предложить? – оживился Айзек. – Так я слушаю!
– Нет-нет, я не о том… Позвольте задать вам один вопрос. Он, возможно, не совсем тактичный, но вы уж не обессудьте…
– Валяйте.
– А вы сами часто изменяете Кэт? – без обиняков спросил Ник.
Айзек засмеялся:
– Да что вы! Не мужское это дело, приятель.
– Понятно, – сказал Ник, ощущая, как его крыша потихоньку продвигается дальше.
– Ладно, даю вам Кэт. Спокойной ночи…
– Счастливо…
– Алло… – Это была снова незадачливая Кэт. – Что ж, я все слышала… Извините за беспокойство.
– Ерунда, все нормально.
– Всего вам доброго, Мистер Доверие… – Голос ее звучал грустно.
– И вам также…
– Да, а я вот подумала, – оживилась вдруг она, – насчет негра – может, вы и правы, а?
– Может быть, – кротко ответствовал Ник. – Вы попробуйте – чем черт не шутит.
– Ох, ну пока…
Гудки в трубке.
Ник набрал номер точного времени: половина пятого. Еще полтора часа до окончания смены.
– Эй, Миллер, как успехи? – спросил он.
– Троих уже попользовал! – радостно отозвался коллега.
– Молодец, – усмехнулся Ник.
– Еще бы! Одна такая, знаешь ли, попалась забавница – пальчики оближешь.
– Везет некоторым…
Миллер довольно забулькал в ответ.
– Ты, наверное, счастливый человек, Миллер, – предположил Ник.
– А как ты думал! Другие за девчонками рыскают туда-сюда с высунутыми языками, а на меня они сами летят, как мотыльки на свет. Очень удобно, ты не находишь? Никаких хлопот – да вдобавок мне еще за это денежки платят. Это ж идеально: занимаешься любимым делом – и именно за это бабки получаешь. Никак не могу поверить, что так мне повезло в жизни.
– Небось много тратился прежде на телефонных девочек?
– Было дело… – с легким смущением признался Миллер. – Но теперь вот нашел свое место под солнцем – хоть и в ночное время. А знаешь, почему я именно ночные смены предпочитаю?
– Почему же?
– Так ведь именно ночью телок одиноких тянет на такое-этакое – ну, понимаешь… Особенно когда полнолуние, – тут они и вовсе с ума сходят, орут в трубку: «Ну, трахай, трахай меня еще!» Не замечал?
– В общем – да, замечал… – неохотно ответил Ник.
– Ну, я знаю: ты до таких штучек не охотник. Что ж, каждому свое, сердцу не прикажешь.
– А скажи-ка: в натуре ведь все это гораздо интереснее – так почему же ты предпочитаешь телефон?
– Э, в натуре! В натуре – это тяжкая работа: пока-то ее найдешь, уговоришь… А в постели – вообще тоска: вылезаешь, будто из каменоломни. А так: ля-ля, бля-бля – и полный кайф!
Миллер шумно прихлебнул из банки «Сэвен-ап».
– Я тебе больше скажу, – продолжал толстяк, – постель как таковая – это бездуховно. Это просто-напросто профанация истинного секса.
– Неужели? – изумился Ник.
– Конечно!
– Честно говоря, довольно-таки оригинальное мнение – мне не доводилось слышать подобного, – покрутив головой, признался Ник.
– И это, между прочим, не какая-то там отвлеченная теория, а самая что ни на есть практика, – внушительно сказал Миллер.
– Ну да, ну да, – покивал Ник, не в силах сдержать легкой усмешки. – Но вот многие почему-то думают иначе – тебе это не кажется странным?
– Ты послушай сначала, а после уж будешь ухмыляться, – снисходительно изрек Миллер.
– Да я и слушаю…
– То, что происходит между мужчиной и женщиной в постели, – это только суррогат любви, – с профессорской интонацией вещал толстяк. – Подлинная любовь – это нематериальная субстанция, своего рода эманация…
– Что-что?
– Не перебивай!
– Хорошо, хорошо…
– Мы ведь не просто животные, верно? Хотя и очень на них похожи. И даже любовью почти так же занимаемся. Но отличие есть – и существенное. Животное не может осуществить любовь вербально, это доступно только человеку. И когда телка на том конце провода кончает раз за разом только от одного моего голоса, моих слов – вот это и есть вершина секса. Ничего материального – только дух! Наверное, вот так же и Господь Бог оплодотворил Деву Марию!
– По телефону, что ли? – невинно предположил Ник, закусывая губу, чтобы не заржать.
– Да ну тебя, я же с тобой серьезно…
– Ладно, не обижайся, пожалуйста. Мне и вправду интересно.
– Если подумать, на этом стоит все искусство, вся мировая литература…
– На имитации, что ли?
– А вот и не на имитации, а на высшей форме эротики. А засунуть девчонке свою фиговину в «киску» всякий дурак сможет, будь он хоть полный неандерталец. А так – в нее проникают слова, исходящие откуда-то из пространства, из пустоты. Что такое слова? Строго говоря – лишь звуки. И вот ты трахаешь их – звуком, невидимыми глазу колебаниями пространства…
«Наверное, из многих импотентов получаются недурные теоретики, – подумал Ник. – А то и поэты».
– Но послушай-ка, – сказал он вслух, – если все перейдут на такую высшую форму секса, то кто же будет детей-то рожать? Вымрем ведь…
– Не беспокойся – большинство ведь на это неспособно. Целое искусство, понимаешь ли.
– Хорошо, я понял. А вот если тебе какая-нибудь девица предложит себя в натуре, непосредственно, ты что же – откажешься?
– Нет, конечно! Но это будет совсем не то. Другой сорт – пониже. И потом, в высшей форме секса, которую я исповедую, абсолютно нет возрастных ограничений. Ты можешь быть глубоким стариком, совершенно немощным физически, таким седеньким сгорбленным сморчком – и при этом оставаться мужчиной в полном расцвете сил, Аполлоном, Дионисом, красавцем. Разве это не чудесно?
Тут Ник почувствовал, что в речи Миллера проскочила какая-то надтреснутая, с фальшивинкой нотка. И он спросил наугад:
– А она – Венерой, Данаей, Си-си Кэтч? Так?
Миллер замялся, попыхтел – и рассмеялся:
– Знаешь, у меня был случай такой… Забавно очень получилось. Сошелся я с одной телкой – неделю подряд она мне названивала, часа по три кряду балдели. Минетчица совершенно непревзойденная, ямочки на ягодицах, ноги до потолка подбрасывает, сиськи торчат, как боеголовки – в общем, мечта, да и только. Укатала она меня вусмерть, едва ноги волочил. И вот в очередную ночь чувствую – сил нет. Давай-ка, говорю ей, полежим спокойно, расскажешь мне что-нибудь… Улавливаю: недовольна. Ну, ненасытная такая утроба, понимаешь? Я и сам в этом деле марафонец, но мужики все-таки так устроены, что какой-то предел имеется, какой-то аварийный порог безопасности, чтоб не надорваться, проводку не пережечь. А бабы – что: сосуд бездонный – качай в него да качай хоть до самого светопреставления. Вот я ей и намекаю тоненько, чтоб в гроб меня не вгоняла. Что же, спрашивает, тебе такого рассказать? Ну, что-нибудь про свое детство, говорю, всякие там девчоночьи воспоминания… Ладно, говорит, нет проблем. А я еще ее предупреждаю: давай только без выдумок, из реальной твоей жизни – обещаешь? Тут она мне и выдает: на меня, дескать, в детстве самое колоссальное впечатление произвела гибель «Титаника». Кто, спрашиваю, этот Титаник-то? Песик такой у тебя был? Сам ты, отвечает, песик, кобелина несчастный. Корабль такой был, разве не знаешь? И тут до меня дошло… Брось, говорю, заливать, я же тебя серьезно спрашиваю. Нет-нет, говорит, честное слово: ты же лучший мужик в моей жизни – неужели я стану тебе врать? Вот же, думаю, вляпался. Слово за слово – начала она о себе рассказывать, и выяснилось, что лет ей… Ну, в общем, представляешь…
– Да уж, – хмыкнул Ник не без сочувствия. – Оторвал бабенку, нечего сказать…
– И оказалась она очень интересным человеком, – продолжал Миллер, – с богатейшей биографией, много повидавшим и испытавшим. Но только вот, знаешь ли, что-то такое надломилось с того раза в наших отношениях, какая-то кошка меж нас пробежала. Она по-прежнему хороша была в постели, любовница совершенно фантастическая, но… Вскоре мы расстались – и так, знаешь, сухо как-то, наскоро… Хотя иной раз я думаю: а вдруг она все-таки когда-нибудь позвонит – и что же тогда? Как поступить?
Миллер умолк. Ник понимал, что вопрос коллеги – чисто риторический, однако он ответил – не из сочувствия, а чтобы просто заполнить паузу:
– Как это ни банально, нужно доверять голосу сердца, приятель, – вот самое верное решение. Слушать, что подсказывает душа…
Миллер посопел и хмыкнул:
– А знаешь ли ты, где у человека расположена эта самая душа?
– Где же?
– В гениталиях! – И Миллер скабрезно захохотал.
– Ты думаешь, что пошутил? – усмехнулся в свою очередь Ник. – Кажется, ты не так уж далек от истины, если хорошенько подумать.
– Да, и опыт нашей работы это подтверждает, не так ли? – подхватил Миллер.
– Как и твоя замечательная теория, – добавил Ник уже не без ехидства.
– Разве это только теория? – обиженно отозвался Миллер. – Ты же сам видишь, то есть слышишь… Я даже научный термин для этого изобрел…
– Болтохерия?
– Фу, какой ты!.. Эротофонизм – вот!
– Ништяк, можешь защищать диссертацию. Будешь потом преподавать в каком-нибудь Принстоне…
– Какой, ко всем чертям, Принстон? – возмутился Миллер. – Да я отсюда – ни ногой! Тут – вся моя жизнь, понимаешь? Весь ее смысл!
– Да ладно тебе, я же пошутил… Слушай-ка, а ты не опасаешься, что среди твоих нынешних подружек тоже может оказаться такая… э-э… девушка не первой свежести, а? – полюбопытствовал Ник.
– Хм… Видишь ли, у той был на удивление молодой голос, так что попасться было очень легко, – пояснил Миллер. – И потом, такой исключительный темперамент, такое знание всех тонкостей секса…
– Насчет знания – это неудивительно. Сам говоришь – богатый жизненный опыт.
– Ну ты что, издеваешься? – обиделся Миллер. – Я тебе, можно сказать, душу открыл, а ты…
– Нет-нет, ни в коем случае! Вообще твоей интимной жизни можно только позавидовать, – поспешно сказал Ник. – И как ты только не устаешь?
– Ого – не устаю! Да я просто с ног валюсь, когда домой прихожу. И для меня внешнего мира уже попросту не существует – так только: в магазин забежать, оплатить счета – и не более…
Нику вдруг почему-то стало жаль Миллера, но он тут же себя одернул: с какой стати жалеть такого счастливого человека?
Зазвонил телефон. Ник снял трубку.
– Алло, – послышался сочный мужской голос. – Это фирма «Мистер Доверие»?
Ник удивился: мужчины звонили им крайне редко, прежде всего – гомики, которых «мистеры» старались отшивать побыстрее. Или мятущиеся трансвеститы – к таковым Ник относился снисходительнее, но тоже предпочитал не затягивать разговор: пусть организовывают свою телефонно-утешительную фирму и оттягиваются на здоровье. А тут, может, какая-нибудь несчастная баба никак прозвониться не может, – а потом заголовочек в газетной хронике происшествий: «Выбросилась из окна», «Отравилась газом», «Вскрыла вены»… А вы, ребята, обращаетесь не по адресу. Но имидж есть имидж, нужно быть корректным – и Ник вежливо ответил:
– Да, вы не ошиблись.
– Могу ли я попросить к телефону Ника Паркера? – учтиво спросил мужчина.
Это еще что за новости? Сроду такого не бывало! Может быть, что-то случилось дома – пожар? И звонят из полиции? У Ника стало нехорошо на сердце.
– Ник Паркер вас слушает…
– Привет, Ник, старина. Это Баксли говорит.
– Баксли? – удивился Ник. – Джо Баксли?
– Ну да, он самый. Слушай, тут такое дело: объявился Фрэнк Дэвероу…
6
С Джо Баксли, своим бывшим товарищем по оружию, Нику Паркеру доводилось последний раз контачить с десяток лет назад. Баксли в ту пору активничал по поводу создания некоей антивоенной организации – что-то вроде «Ветераны Вьетнама за мир», и он прислал Нику приглашение поучаствовать в этом деле. Меньше всего хотелось Паркеру тем или иным образом вспоминать о войне – и он ответил вежливым отказом. И вот – снова Баксли…
– Кто объявился – Фрэнк? – переспросил Ник.
– Ага, тот самый Дэвероу, твой бывший корешок, – подтвердил Баксли.
«И опять этот сон сегодня – как совпало», – мелькнуло в сознании Ника.
– Почему ты молчишь? – спросил Баксли.
– А что я должен говорить? – пожал плечами Ник. – Ты мне за этим и звонишь?
– Ну да…
– А-а… Понятно… И как там у тебя погода, в Хьюстоне? Ты ведь все еще там живешь?
– Нормальная у нас погода, нормальная…
– Это хорошо.
И опять возникла неловкая пауза.
– А как ты вообще узнал этот телефон? – с долей раздражения спросил Ник.
– Да это несложно…
– И названиваешь с утра пораньше, – сварливо продолжал Паркер. – У тебя что – бессонница?
– Вроде того, – буркнул Баксли.
– Сходил бы к врачу – он пропишет тебе чего надо. И тогда никаких проблем.
– А у меня никаких проблем и нет, – сердито фыркнул Баксли. – Это у твоего Фрэнка проблемы.
– А мне-то до них какое дело? – холодно парировал Ник.
– Послушай, Ник… Я тебе расскажу, что знаю, – вот и все. А знаю я немного, так что надолго тебя не задержу. Ладно?
– Ну валяй, – неохотно согласился Ник.
– Дэвероу позвонил мне сегодня среди ночи и попросил взаймы. большую сумму…
– Большую?
– Да, весьма большую. Во всяком случае, для меня.
– То есть, как я понимаю, ты ему отказал?
– Да…
– А зачем мне об этом знать?
Краем уха Ник уловил мурлыканье Миллера, занимавшегося эротофонизмом с очередной клиенткой: «И тут я опускаюсь пониже, вдоль твоего гладкого животика, ты разводишь ножки в стороны…»
– Понимаешь, – сказал Баксли, – после разговора с Фрэнком у меня стало так нехорошо на душе…
– Почему?
– Какой-то он был затравленный, загнанный. Просто в отчаянии парень.
Ник неопределенно хмыкнул.
– Ты знаешь, – продолжал Баксли, – я никогда не питал к Фрэнку особо теплых чувств. Он бывал излишне развязен в некоторых вопросах…
«Особенно по пьяному делу», – мысленно добавил Ник. Да, водилась за Фрэнком такая скверная привычка: сыпать в подпитии шуточками дурного вкуса – в частности, с расистским душком. И конечно же, чернокожему Баксли это было не по нутру.
– Да и потом – его странное поведение той ночью, когда ты, Ник, попал в плен…
– Какое такое поведение? – зло спросил Ник.
Ну зачем, зачем Баксли повел речь об этом? Что было – то прошло, зачем ворошить?
– Тебе виднее… – уклончиво сказал Баксли.
– Мне – «виднее»? – саркастически переспросил Ник. – Мне?
– Ох, прости…
– Ладно, не в этом дело. Но, понимаешь, я никогда не предъявлял к Фрэнку Дэвероу никаких претензий.
– Ты-то не предъявлял, – согласился Баксли. – И никто не предъявлял. Но тем не менее у ребят было свое мнение на сей счет… И Фрэнк не мог не догадываться об этом.
– Не знаю, я не видел Фрэнка с тех самых пор, – сказал Ник, сделав ударение на глаголе. – И мне это как-то до фонаря.
Баксли шумно выдохнул в трубку.
– Ну, в общем, имей в виду: по моему мнению, у Дэвероу явно крупные неприятности. Я никак не мог заснуть после разговора с ним – и вот вдруг решил связаться с тобой, Ник.
– Что, хотел меня порадовать, что ли?
– Ох, Ник, ну перестань… Короче говоря, если хочешь, я могу дать тебе его координаты.
– Не понял.
– Ну, адрес его у меня есть – в старой моей картотеке ветеранской.
– Я другого не понял, – упорствовал Ник, – зачем мне адрес Дэвероу? Поздравить его с Рождеством? Так еще рано. Или с Днем независимости? Так уже поздно…
– Это Майами, от тебя недалеко. А там уж сам разберешься, с чем тебе его поздравлять… Так ты записываешь?..
– Думаешь, если я – Мистер Доверие по работе, то и по жизни являюсь добрым самаритянином?
– Я просто хорошо тебя помню, Ник Паркер, – сказал Баксли. – И потом… Знаешь, меня мучила совесть все эти годы за то, что я так и не сообщил тебе координат Фрэнка…
– Но я ведь и не спрашивал…
– Мало ли что…
Они опять помолчали.
– Ты сам-то как поживаешь? – спросил Ник.
– Да все отлично, – ответил Баксли. – Ну, или более-менее, если быть точным.
– Женат?
– Еще бы. Четверо ребятишек. Младшему два с половиной года.
– Это хорошо.
– Кто бы спорил…
– С работой как?
– Нормально, старина.
– А как эта твоя лавочка – «за мир» и все такое?
– Поиграли – и хватит. Теперь ограничиваюсь борьбой за мир в границах собственной семьи. Очень, знаешь ли, непростое дело. А у тебя как дела?
– Пока не прозрел, – усмехнулся Ник.
– Погоди – еще не вечер.
– Это точно. Так, говоришь, ничего у вас там погодка?
– Подходящая… Так я диктую адрес?
– Ладно, валяй. А то и так уже уйму денег на разговор просадил – у нас тариф высокий…
Ник нашарил на столе ручку.
– …А теперь ты чувствуешь, как мой нахальный мальчонка прошибает тебя до самого дна, до самого сердца, как он молотит тебя, дорогую, единственную… – продолжал ворковать Миллер.
7
– Ну твою мать-то…
Гнилой Боб откровенно скучал. Тоскливое нынче выдалось утречко, не в дугу. Жизнь вообще – сплошное дерьмо. И бабы – дерьмо. И дружки – дерьмо. Все – дерьмо.
– Эй, Дик! – окликнул он приятеля, сидящего за соседним столиком.
– Чего тебе? – повернул тот к Гнилому Бобу свою небритую харю.
– Ну ты и дерьмо! – торжествующе провозгласил Гнилой Боб.
Вся компания довольно загоготала, а пуще всех – сам обозванный Дик. Такие шутки они любили.
Здесь, в небольшой забегаловке рядом с аэропортом Майами, их кодло кантовалось частенько. Занимались обычно тем, что подлавливали прибивающих растяп-пассажиров, каких-нибудь лохов из глубинки. Выходит такой из самолета, а тут – пальмы, солнышко, клюв разевает, восхищенно отдувается – вот тут и самое время к чемоданчику его ноги приделать. А для пущей верности можно и перышко к боку приставить, чтобы не трепыхался, а то и по маковке трубой засандалить. Бывают все же в жизни клевые моменты.
Но нынче пока не везло. Блядский какой-то денек.
Гнилой Боб с хлюпаньем дососал свое пиво, смял банку и швырнул ее в угол. Старуха негритянка за стойкой неодобрительно на него покосилась – но промолчала: с этой шоблой она предпочитала не связываться.
Снаружи, за стеклянной стеной, прошла, покачивая бедрами, стройная девушка в джинсовых шортиках.
Компания несколько оживилась.
– Хух, птичка! Поободрать бы ей перышки!
– И вставить в клювик пару штучек!
– И в сраку, в сраку! Чтоб вся уперделась!
– И до усёру, до усёру ее!..
– Титьки узлом завязать…
Один только Гнилой Боб помалкивал. Чего зря трепаться-то? Делать так делать. Повстречать такую козочку в подходящем местечке – и показать ей, что да как умеют парни из Майами. Опыт есть.
Боб поковырял языком дупло в зубе. Не-ет, черт. Пиво уж больно холодное. Дерьмо.
Вдруг в забегаловку вошел странный посетитель. Высокий блондин со слегка неестественной прямизной осанки, легонько простукивающий путь перед собой деревянной тростью, подошел к стойке и спросил порцию мексиканского жаркого.
Гнилой Боб хлопнул себя по ляжкам:
– Эй, мужики! Гляньте-ка, сейчас будет потеха…
Компания притихла и начала наблюдать за вожаком.
Гнилой Боб вразвалочку подковылял к расположившемуся за стойкой блондину. Помахал рукой у него перед лицом – нет, не врубается чувачок. Значит, и впрямь слепой. Вот козел.
– Эй, приятель, – развязно сказал Гнилой Боб, – это мексиканская жрачка. Ее с соусом надо хавать. Тебе какого плеснуть – мягкого, крепкого?
Блондин с улыбкой поднял на Гнилого Боба незрячие глаза.
– Крепкого, пожалуйста, – сказал он вежливо.
Гнилой Боб осклабился и плеснул ему в тарелку почти полную бутылочку жгучего соуса «чили»:
– Вот, лопай.
Блондин перемешал соус с гарниром и отправил себе в рот солидную порцию.
Гнилой Боб со всей компанией зареготали во все горло.
Слепой между тем аккуратно прожевал и глотнул. Затем снова широко улыбнулся:
– Неплохо. Но пожалуй, этот соус слишком слабый для меня. Может быть, есть что-нибудь покрепче?
Физиономия Гнилого Боба озадаченно вытянулась.
А блондин продолжал уплетать за обе щеки.
Ладно, сука, жри. Мы тебя только немножко облегчим.
Гнилой Боб подергал за ремень сумки, висящей на плече слепого:
– Дай-ка мне твой багажик.
– А ты уверен, что она тебе подойдет? – спокойно осведомился блондин.
Гнилой Боб посерел от гнева:
– Давай мне сумку, ты, кент!
Дружки Боба, отшвырнув стулья, приблизились к ним:
– А ну, отдай ему сумку, лишенец!
И тут Гнилой Боб увидел нечто странное: трость, только что смирно стоявшая рядом со слепцом, вдруг взвилась вверх и резко ткнулась ему, Бобу, в живот. Из груди у него сразу ушел куда-то весь воздух, изнутри к горлу подкатило чугунное ядро – и Гнилой Боб отключился, враскоряку рухнув на пол.
– Ах ты, ублюдок! – рявкнул небритый Дик.
Слепой со все той же любезной улыбкой повернулся к нему, а его трость тем временем ударила в бок верзиле с кастетом и походя чиркнула по гортани другого громилу, едва успевшего замахнуться ножом. Оба они мигом заняли место рядом с Гнилым Бобом.
Дик и еще один уцелевший представитель кодла в секунду сообразили что к чему и проворно ломанулись к выходу.
Приемник над стойкой кончил изрыгать бодренькую музычку, и игривый голос дикторши известил:
– В Майами опять восстановилась хорошая погода.
А Ник Паркер, незряче глядя в пространство, с обезоруживающей улыбкой вопросил:
Что здесь происходит? Ах, простите, я такой неловкий, Боже мой…
И тут негритянка за стойкой не выдержала и расхохоталась.
8
Мало сказать, что Фрэнку Дэвероу сейчас было не по себе. Ему было гораздо, гораздо хуже.
Потому что в данный момент он висел вниз головой на высоте тридцатого этажа и вечерняя улица, освещенная веселенькими огнями, маячила глубоко внизу под ним.
Сильные руки удерживали Фрэнка за щиколотки – пока удерживали, а там – поди знай…
– Ну как, тебе хорошо видно? – спросили у него сверху, с балкона.
К горлу подкатывала нестерпимая тошнота, далекая мостовая рябила автомобильными фарами.
– Брюс-авеню – не правда ли, прекрасная улица? – продолжали ехидничать мучители.
Вдруг пальцы на щиколотках Фрэнка чуть ослабили свою жесткую хватку.
– Нет! Нет! – истошно заорал он.
Сверкающая ниточка слюны, вылетевшая вместе с воплем, легкой паутинкой заскользила вниз вдоль этажей.
– Или тебе что-то не нравится?
Кровь прилила к голове, и казалось, что под ее напором глазные яблоки постепенно выдавливаются наружу: вот еще чуть-чуть – и выскочат вон, канут вниз бело-радужными шариками, шлепнутся об асфальт тротуара, словно яйца на сковороду.
– Очень высоко здесь, приятель, я понимаю. Но ты ведь сам напросился, разве не так?
Фрэнку вдруг пришла в голову совершенно нелепая в данном случае мысль: нет, у далеких предков людского рода никогда не было крыльев. Иначе сработал бы далекий-далекий инстинкт – и не было бы столь омерзительно страшно болтаться над Брюс-авеню.
– Ну ладно, хватит, – произнес сверху жирный голос. – Пожалуй, пора его сбросить.
– Нет! – снова закричал Фрэнк, отлично понимая, что его мнение тут мало кого интересует.
Полуобморочное марево застило взор, ноги сводила судорога.
– А почему же нет? Не волнуйся – ты быстро долетишь, зуб даю.
Его встряхнули, словно куль, – и Фрэнк лихорадочно попытался припомнить какую-нибудь подходящую молитву, но в сознании мелькнула только строчка из какого-то шлягера: «Это мы к вам идем, ребята чумовые…»
Но похоже, полет пока откладывался.
– Нет, кажется, ты еще не вполне готов к этому. Повиси еще немного, – с некоторой даже досадой произнес все тот же жирный голос.
– Прошу вас, отпустите меня, – с трудом выдавил из себя Фрэнк.
– Да? Ну ладно, уговорил… Ну-ка, Сэм…
– Нет!!! – возопил Фрэнк, поняв свою роковую оговорку, которая могла стоить ему жизни.
– Но ты же просишь! – возмутились наверху.
– Нет! Нет! Не то!
– А что же, голубчик?
– Умоляю вас…
Горло пересохло, словно резиновый шланг на знойном солнце, слова из него лезли с трудом.
– Умоляю, пощадите…
На балконе язвительно рассмеялись в несколько глоток.
– Странный ты тип, Дэвероу. Поиграл на славу, доставил себе удовольствие – разве не так?
Бездна внизу внезапно показалась не столь уж и страшной – она звала, манила…
– Тебе ведь никто не мешал, дружок: хочешь играть – играй. Угодно в долг? Ну что ж, отчего бы не подсобить приличному человеку? Получай в долг. Тут ведь все порядочные люди, не какие-нибудь там жлобы… Разве не так было, дружище Фрэнк?
Тридцать этажей – сколько это будет в ярдах? Но натренированный мозг безуспешно пытался решить столь простенькую арифметическую задачку…
– Ну что ты молчишь? Стыдно, да? Разумеется, стыдно. Ты прямо как нашкодивший щенок, Дэвероу. Пора платить, – а где же денежки?
Квадрат массы на скорость падения… Или масса на квадрат скорости? О Боже…
– Умоляю…
– Раньше надо было думать, дружок. Нам теперь остается только попрощаться с тобой. Жаль, конечно, что земля отнюдь не будет тебе пухом, но что ж поделать – от судьбы ведь не уйдешь…
– Не-ет…
Из носа хлынула кровь, заливая глаза, склеивая ресницы, а улица внизу стала, кажется, чуть ближе…
– Нет, говоришь? Ладно, приятель, тебе повезло. Мы сегодня добрые почему-то….
Неужели? Фрэнку показалось, что он ослышался. Вот сейчас эти страшные руки разожмутся – и…
– Послушай-ка внимательнее, Фрэнк. Ты ведь совсем недурной специалист в органической химии, ведь так? Тут такая оказия: мой химик попал в катастрофу – бедняга, не повезло ему… И вот образовалась вакансия. Ты меня понимаешь, Фрэнк?
А пропасть все звала и звала, улица внизу словно бы ощеривалась в гостеприимной улыбке…
Фрэнк Дэвероу собрал все свое мужество – и все последние способности к членораздельной речи:
– Я никогда… не сделаю этого для вас…
– Да брось ты – чего ломаешься, как целочка?
– Не-ет…
– Ах нет? Ладно, Сэм, бросай его. Сейчас, сосчитаю до трех… Раз… Два… Ну как, Фрэнк, надумал?
Ну вот и все. По счетам надо платить. Деваться некуда.
– Нет… Никогда… Делайте что хотите… Отпускай, сволочь!
– Ты, может, полиции боишься, Фрэнк? Так это ерунда! Тут ведь Невада – в нашем штате все законно, особенно для хороших людей…
– Я тебе сказал, гад: отпускай!
– Не очень ли ты спешишь? Я ведь могу сделать одну очень простую вещь… Навещу твою бывшую женушку в Майами. Как, бишь, ее зовут – Линн? Там у тебя и сынишка остался, между прочим…
– Ах вы, подонки…
– Что-что? Я не слышу? – переспросили с балкона.
Тридцать этажей – разве это высота?
«Жаль, что они не швырнули меня туда минутой раньше», – подумал Фрэнк Дэвероу.
А вслух с трудом сказал:
– Ладно, я согласен. Ваша взяла.
Брюс-авеню – и впрямь прекрасная улица.
9
Он редко вспоминал о Линн.
Фрэнк Дэвероу вообще предпочитал отсекать неприятные для себя воспоминания – не хотел взваливать на душу лишнюю тяжесть, забивать голову обременительными думами. Понимал, конечно, что это говорит в нем элементарный эгоизм, однако сделать себе поблажку, уступку так легко, так удобно… А совесть поворчит малость – да, глядишь, и успокоится: с нею договориться легко.
О своем детстве, например, он помнил только веселое и приятное, напрочь отбрасывая какие-либо унизительные и неприятные моменты вроде обид, нанесенных большими мальчишками или взрослыми. А подростковый период не хранил в памяти вовсе: период возмужания на пороге юности был слишком мучителен – вечные прыщи на лице, потные руки, страшная скованность в общении с девочками, изнуряющие занятия онанизмом, за которыми ему постоянно мерещилась перспектива стать в будущем импотентом… К чему беречь такой тягостный багаж – это явно лишнее.
Вот так же вышвырнул Фрэнк Дэвероу из памяти то, что произошло душной вьетнамской ночью. Хотя удалось это не сразу – зов Ника Паркера еще долго стоял у него в ушах, отчаянный, умоляющий зов.
Иное дело Билли: о сыне Фрэнк думал часто и мечтал перевезти его к себе в Рино, но тут все упиралось в Линн, которая наотрез отказалась отдать ему мальчика после развода. Это было для Фрэнка Дэвероу непреходящей болью, и лекарства от нее найти не удавалось. Он любил представлять себе, как они с Билли гуляют по парку, мастерят что-нибудь вместе или возятся с аквариумом, – и не было ничего горше этих бесплодных грез. И отрекаться от столь тяжкого креста Фрэнк не хотел – да и попросту бы не смог, даже при всем желании.
А память о Линн долго торчала в сердце острой саднящей занозой, но постепенно уколы ее притупились, а затем и вовсе сошли на нет. Их связывало очень многое: почти пятнадцать лет супружеской жизни да плюс еще период доармейского ухаживания, когда Фрэнк упорно и терпеливо пытался добиться расположения этой тоненькой белокурой девушки.
Они познакомились за пару лет до его призыва в армию – и были те годы сущим наказанием или нелепой комедией. Это как посмотреть. Какой-нибудь правоверный моралист, пожалуй, только порадовался бы на их тогдашние взаимоотношения – во всяком случае, на то, как вела себя Линн. Она была неприступной скалой, заколдованным замком, держащим круговую оборону фортом, а Фрэнк вился кругом назойливым комаром, безуспешно пытаясь найти хоть какую-нибудь брешь в непроницаемой железобетонной стене. Максимум, чего он добился, – это разрешения поддерживать ее за локоть во время перехода через улицу, но, как только они ступали на тротуар, рука девушки моментально выскальзывала из его пальцев.
Фрэнк порой проклинал все на свете, когда, проводив Линн после киносеанса, возвращался домой по темным улицам и едва передвигал ноги из-за нестерпимой ломоты в самом пылком и возбудимом месте своего организма. В такие минуты он ругал свою целомудренную подружку последними словами и в мыслях уже был готов либо навсегда закаяться встречаться с Линн, либо грубо и дерзко изнасиловать эту чертову недотрогу при первой же возможности. Но когда видел ее снова, все эти поползновения тут же исчезали бесследно, и монотонная осада начиналась сызнова.
Постепенно он даже возгордился, что имеет дело со столь высоконравственной особой. Возможно, в этом была доля мазохизма, но Фрэнк влюблялся в Линн все больше и больше, хотя таковое обстоятельство никак не мешало ему находить плотские удовольствия на стороне, разряжая свой измученный воздержанием аппарат в случайно подцепленных шалашовок, раздвигавших ножки без долгих уговоров. С ними он бывал бесцеремонен и ненасытен, словно бы отыгрываясь за неумение покорить Линн. Одним такая безапелляционная агрессивность нравилась, другие обзывали Фрэнка садистом и мужланом, но его мало трогало мнение всех этих проходных пассий: по-настоящему он вожделел только Линн.
Она превратилась в его сладкое проклятье: Фрэнк совершенно терял голову, улавливая девственный, молочный запах ее тела, видя ее скромно сдвинутые круглые коленки и нетронутые груди, выпирающие под платьем. Он не мог позволить себе ни единого сомнительного прикосновения, ни какого-либо нескромного взгляда – и ощущал себя рядом с чистейшей Линн гнусным распутником, мерзким животным, недостойным находиться подле столь невинного существа.
И пожалуй, самое обидное заключалось в том, что Линн при этом постоянно признавалась ему в любви, не чуралась называть его милым, дорогим, единственным, но тело ее по-прежнему оставалось запретной зоной.
И тем сильнее было потрясение Фрэнка после того, что случилось за три дня до того, как он надел солдатскую форму…
Он редко напрашивался к ней в гости, зная по горькому опыту, что в родных стенах она особенно сдержанна и чопорна, но на сей раз Линн сама пригласила его зайти на чашку чая. На сердце у Фрэнка было совсем невесело: в кармане шуршала призывная повестка, предстояло скорое прощание с гражданской жизнью, с утехами юности, да и учебу приходилось откладывать на потом… А Линн в этот день была как-то особенно задумчива и молчалива, – но Фрэнк совершенно не подозревал, что творится на душе у девушки.








