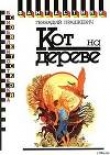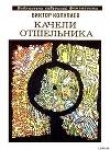Текст книги "В тридцать лет"
Автор книги: Глеб Горышин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
– Влюбился, что ли? – Слепов спросил это без усмешки.
– Не знаю.
– Так. Ясно...
И пошел дальше мужской разговор, малословный и многозначащий. Разговор о женщинах.
– Я ехал нынче через Москву, – начал Гриша. – Как всегда, остановился там на сутки. Познакомился с потрясающей женщиной... Галя Клементьева ее зовут. Переводчица «Интуриста».
– И тебе хватило суток?
– Ни черта мне не хватило. Мы познакомились с ней в «Национале». Знаешь, такое кафе на улице Горького? Она сидела за столиком. Я к ней подсел, понес всякую ахинею: Хемингуэй, то, се... Вышли мы вместе, тихонько побрели вверх, к Пушкинской площади. День теплый, асфальт нагрелся, липки по моде подстрижены, город огромный, чистый, яркий и какой-то добрый катит навстречу, и шум на улице мягкий, веселый. Я очень люблю Москву. Вот так приехать и подышать столичной жизнью.
Да. Ну, свернули, конечно, на бульвар. Сели. Напротив старикашка какой-то спит. Из прошлого века банковский служащий. У пальтишка бархатный воротник. На трость оперся, кожа на руках розовая, прозрачная, в морщинках. И синие жилы. Шляпенка на самый нос сползла. Проснулся, взглянул на нас, глазки совсем уже голубенькие. Пошевелил губами. «Счастливая молодость!» – говорит. Потом посидел, подумал, заулыбался. «Скоро, – говорит, – лето. Бабочки будем носить...» Понимаешь? Старость, умирание и полное возвращение в детство. Я о себе стал вдруг жалостно думать. Какая там к черту молодость: двадцать восьмой год. И Галочку обнять хочется дико. Я руку вытянул вдоль скамеечной спинки. Она вдруг голову запрокинула, положила ее мне на руку и зажмурилась. Я тоже закрыл глаза, начал что-то бормотать невнятное. «Вот, – говорю, – Галочка, люди стареют, а ничто от них не уходит. Ничто. Плохо, когда ничего не приходит». Выдал такую загадку и жду... Она открыла глаза, долго смотрела на меня и говорит:
«Я вас слушаю, а ничего не слышу и не понимаю. Странно, мне вдруг показалось, что вы совсем не чужой для меня человек...»
Ну, и потом пошло. В кино мы сидели, на всяких бульварах, в кафе. Убей, не вспомнить, где мы бродили, чего говорили... Да...
У нее отдельная комната. Одна живет. Ночью мы шли к ее дому. А поезд хабаровский в семь утра. Понимаешь? Я думал, как бы не опоздать. Опоздаю, думал, потом придется платить за простой контейнера. И я сказал ей такую глупость... Спросил: «У тебя есть будильник?»
– Так. Будильник, говоришь? Это, братец, не слишком красиво. Это, по-моему, запрещено.
– В том-то и дело.
– Впрочем, всяко бывает. Смотря какой она человек.
– Не знаю. Мне нравится. – Гриша замолчал, припомнил кое-что. Как стояли на лестнице с Галей. Как он рвался за Галину дверь с четырьмя звонками, как недоумевал, мрачнел, целовал ее с умыслом долго. Галя сказала ему: «Ты хороший. Мне с тобой хорошо. Но тебе уезжать завтра». Галя стояла рядом, и было так, словно она уходит все дальше. Остаться без нее одному посреди чужой московской ночи Грише казалось немыслимо, страшно. «Зайдем на минуту, – сказал он ей наконец. – Я выкурю сигарету и сразу уйду. Даю тебе слово». Галя сказала: «Нет».
Вскоре прихлопнулась старая, наезженная дверь в клеенчатой обивке. И ничего не осталось. Ни беспечной легкости московского счастья, ни благожелательной летней столицы, ни мысли о настоящей мужской биографии. Ничего.
Кое-как Гриша дотянул ночь в набитом людьми Ярославском вокзале. Ехал мрачный почти до самой Перми. А из Перми вдруг послал телеграмму на Сретенку. Вдруг понял, как важно ему все, что случилось в Москве. Как дорого, как хорошо, что именно так случилось, как страшно, что четыре месяца гор и тайги стопчут все это, подавят своей многотрудной, хлопотной жизнью.
Из Свердловска он тоже послал письмо. Из Омска и из Тайшета.
– Григорий! – позвал Слепов. – Надо бы чай подогреть. Сейчас венгр должен прийти. Ведь он не ел еще ни шиша. Голодный, как койот...
– Сейчас подогреем.
5
Пришел председатель колхоза «Красный охотник» Киштеев Семен, человек тощий, мрачного вида, озабоченный своей властью, говорящий с достоинством, без лишних улыбок.
– Семен Тимофеевич, я вас очень прошу, – сразу взялся за председателя Слепов. – Отправьте сегодня же каюров в стадо. Чтобы завтра к вечеру они вернулись с оленями. С таким расчетом, чтобы в четверг мы уже могли вьючиться.
– Как выйдет, – сказал председатель. – Олени сильно теперь одичали. У́росят.
– Ну, с оленями как-нибудь справимся. Лишь бы каюры не у́росили.
– Это от вас зависит.
– Семен Тимофеевич, – вступил в разговор Гриша, – вы тоже вот здесь, в этой школе учились?
– Здесь. Восемь классов кончил.
– Да, так послушайте, Семен Тимофеевич, – опять вмешался Слепов. – Каюры у нас будут надежные люди? Охотники?
– В Тофоларии все охотники. Охотницкая национальность.
– А вы сами убивали медведя? – Это спросил Гриша.
– Ходил раньше. Теперь некогда. Дела хватает.
– Да, еще вот что, – снова вступает Слепов, – к вам обращался, наверно, иностранец. Венгр. Он занимается этнографией, изучает язык и культуру сибирских народов. Венгерский язык, кстати, похож на тофоларский. Ему нужно помочь. Переводчика подыскать.
– Я знаю, – невозмутимо сказал Киштеев. – Венгерский язык, тофоларский – это одно и то же. К нам ученые часто приезжают. В райкоме им письма дают, чтобы содействие оказывать. У этого нет письма. Но мы не против, однако. Закрепили за ним девушку, переведет что надо.
Горят в печурке лиственничные чурбаки из интернатской поленницы. Дверца прикрыта неплотно. Свет пламени рвется наружу, вздрагивает, мечется по полу возле печурки. Трое людей сидят в темноте, курят махорку, разговаривают...
– Семен Тимофеевич, – сообщает Гриша, – венгру нужен живой шаман. Найдется у вас хоть один?
– Не думаю, чтобы нашелся. Если кто и шаманил раньше, теперь не сознается. Счастливо вам отыскать полезные ископаемые, – сказал, подымаясь, Киштеев. – Мне тридцать восемь лет, однако. Каждый год ищут. Не помню, чтобы кто находил.
– Найдем, – сказал Слепов. – Так, Семен Тимофеевич, нажимайте вы на каюров. Ей-богу, нам некогда ждать.
– Шибко спешить будешь – людей насмешишь. – Киштеев улыбнулся впервые за весь вечер. – Ну, счастливого пути. Ни пуха ни пера, как говорится.
– К черту, к черту, – замахал руками Гриша.
– К черту, – подтвердил Слепов.
Опять остаются в комнате двое. Тоненько вдруг заныл чайник, будто младенец спросонья. Закипает вода.
– Ну и венгр... – сетует Гриша. – Может, он совсем не придет, устроился ночевать где-нибудь?
Слепов думает о своем. Это старая, стойкая думка.
Все забылось, как будто и потускнело. А теперь эти странные совпадения, этот венгр, этот говор, слова с ударным началом.
– Ты вот что не забудь сделать завтра, – наказывает Слепов Грише. – С утра найди продавщицу и попроси ее пораньше прийти в магазин. Чтобы до открытия все получить по фактуре.
– Ладно, – откликается Гриша. Потом вдруг отвечает каким-то своим мыслям: – Я все думаю, черт меня дернул идти на это испанское отделение. Кончил бы геофак или, скажем, Политехнический институт. Работал бы сейчас где-нибудь на Братской ГЭС. Или на Кировском заводе. Конкретная специальность – это отличная вещь.
– Да, – сказал Слепов густым голосом, исполненным высшего знания и превосходства. – Не нужно, Гриша, возводить свои неудачи в мировой масштаб.
– Нет. Я не возвожу. Я все больше о венгре думаю. Он уже тринадцать месяцев в Сибири, лазает по тофоларским да по нанайским избам. Ты знаешь, тут всякие избы есть. Интересно, что он думает о нас, я имею в виду – о всей России?
– Это меня сейчас не волнует, – сказал Слепов. – Гораздо больше меня волнует, где он, этот венгр, не принесли ли его какие-нибудь подпольные шаманы в жертву своим духам? У венгров это какая-то национальная особенность – не вовремя исчезать.
– Откуда ты так хорошо знаешь венгров?
– Ты достань-ка палатку. Венгр придет, пусть на полу стелет, а поверх – спальник.
– Хорошие нынче спальнички достались, – Гриша потянулся в охотку. – Просторные. Благодать. Что, они двуспальные, что ли?
– Теоретически – одиночные. Но – в случае нужды...
– Да-а... – Гриша опять потянулся. – Черт бы его побрал, этот будильник.
– Знаешь что, Григорий, ты брось о будильнике. Со мной не случалось таких историй.
И опять пошел разговор своими истоптанными путями. Мужской разговор.
– Между прочим, – сказал Слепов, – у меня была одна знакомая венгерка...
6
– Ее звали Ружи... Ружи, Ружи.... Какая-то у нее была трудная фамилия. Забыл. Я работал в тот сезон прорабом в разведочной партии в Казахстане. Жара, пыль, перфораторы ломаются – трудный там очень грунт. Работяги все случайные люди попались. Нормы проходки не выполняются изо дня в день. Ходишь очумелый, охрипший от ругани. Снабжение скверное, хлеб выпекают наподобие кизяка... Да. И вот как-то выпало мне ехать в Павлодар по начальству. Просто нельзя стало дальше работать. Позарез необходим был бульдозер, десяток рабочих, действительно знающих толк в бурении, иначе квартальный план наверняка бы полетел.
Вот, значит, сел я на мотоцикл. Был у нас в партии старенький, облезлый ИЖ. На нем давно зареклись ездить. А я его весь перебрал, сам цилиндр расточил, распредкоробку поменял, еще кое-что сделал. И он у меня тарахтел. Между прочим, ИЖ вообще надежная машина. М-72 я не признаю, а вот ИЖам симпатизирую.
– Чешские ЯВы сейчас появились в продаже, – сказал Гриша.
– Отличная машина. Чехи сами на ней ездят и экспортируют... Так вот, значит, венгерка... Она была красивая. – Слепов дожег цигарку, швырнул окурок к печке. – Я не знаю, может, это не то слово – красивая. Красивых много. Ее я встретил единственный раз. Она училась в Московском университете. На факультете журналистики. Проходила практику в областной газете. Я ее встретил в редакции. Зашел к Витьке Еремину. Ты его знаешь, наверно. Он учился в одно время с тобой, а потом уехал в Казахстан.
– Знаю, ну как же.
– Он там чем-то заведует в газете. К нему на выучку попала эта девушка. Ружи... Он меня познакомил с ней. И при этом как-то странно себя вел. Смущался, что ли? Смотрел все время на нее. Разговаривал по телефону, а сам все смотрел на Ружи. Мне было тогда не до этого. Я только что развязался с делами, достал все-таки бульдозер для партии. С огромным трудом. Теперь-то я понял, что Витька был безнадежно влюблен в Ружи.
В двенадцать дня мы познакомились с ней, а в двенадцать ночи она уезжала в Москву... Целый день буйного помешательства.
– В острой форме?
– Да. И притом в рецидивирующей. Мне до сих пор иногда кажется, что я потерял в тот день что-то самое главное для меня. Понимаешь? Я четыре года женат, у меня сын, работа, которой я предан, и опыт, и уверенность, и какое-то положение, черт возьми! И наконец, я верен своей жене. Она прекрасный человек. А иногда в маршруте я вдруг начинаю думать об этой венгерской девчонке. Стою где-нибудь на гольце, высоко над миром, в облачном киселе, ни с чем не связанный, ни от кого не зависящий, сам себе владыка... И вдруг начинаю думать: что же мне нужно от мира, что бы я взял сейчас, немедленно, вот сюда, на этот чертов голец? Понимаешь? И всякий раз я начинаю думать об этой венгерке. Она потерялась давно. Я ее много искал. Ничего не вышло. И ничего не забылось. Пожизненно это, что ли? Вот, Гриша.
Слепов умолк. Гриша не стал ничего выспрашивать. Пусть Слепов покурит наедине и вспомнит. Что он там еще не забыл? Гриша знал цену таким воспоминаниям.
Но Слепов не стал вспоминать по порядку. Он подумал о том, что сказал бы венгерке, если б встретил ее сейчас. Ведь может он встретить ее? Ведь такое бывает. Он бы ей рассказал обо всем, что случилось в тот единственный день в Павлодаре. А может быть, сочинилось потом, в одиночестве экспедиционных снов и маршрутов.
«...Ружи! – сказал Слепов. – Помнишь, мы вышли из двухэтажного деревянного дома, и я тебе предложил: «Садитесь. Куда вас свезти? У меня полный бак бензину. Я могу увезти вас на двести километров. Хотите, я вас увезу?» А ты сказала: «Двести километров? Так мало? Вы такой большой, и у вас так мало бензину?» Ты ставила ударения на первых слогах. Говорила и смеялась. В твоем смехе была нежность, и радость, и мудрость. В тебе не было ни единой жесткой, грубой черты. Все в тебе было мягко и совершенно, и дьявольски живо. Я крутил рукоятку своего мотоцикла. Я выжал из него предельные восемьдесят километров. Ты сидела за моей спиной, иногда прикасаясь ко мне. Я был очень усталый, измотанный зноем, заботой, отвыкший от женских прикосновений. Крутил рукоятку, выжимал все, что мог дать заезженный ИЖ».
Слепову нравился такой разговор с венгеркой. Она слушала безответно и благосклонно. Он рассказывал ей не о том, что было тогда в Павлодаре. Какие там были слова? Было лишь чувство тяжести, силы в руках, сжимающих рукояти. И жестокий контроль над руками. Нельзя дать волю рукам. А если дать? А если взять эту девочку, смять ее, стиснуть. Руки большие, пальцы сгибаются плохо. Гладить ее, ласкать, волосы спутать... И медлить, медлить...
А еще что было? Дорога через пшеницу. Взгорки. Вверх, вниз... Холодеющий от скорости воздух...
Потом Слепов лег на ржавую травку и стал смотреть в небо. Это было необходимо ему – смотреть в небо, дать себе отдых.
Теперь, спустя пять лет, лежа на узкой койке в тофоларском интернате, Слепов думал так:
«Если бы я встретил тебя, Ружи, я бы сказал тебе: «Помнишь, что было? Близко от нас зрела пшеница. Небо подрагивало под солнечным напором, высилось, голубело. Все было огромно в мире, незыблемо и неподвластно смятению. Все было так, как нужно. И были мы с тобой. Ты сказала мне: «Ростислав, вы, кажется, уже уехали на двести километров от реальности». Ты сказала не «вы», а «ви». И делала ударения на первых слогах: «у́же у́ехали...» Я сказал тебе: «Может быть. Это ничего не значит. Еще весь бензин цел. Садитесь, поедем вместе». Ты вдруг сказала серьезно: «Я бы поехала, Ростислав. Да. Ви такой большой. С вами не страшно ехать. Но мне надо ехать в Москву. А потом в Венгрию...» Я сказал: «Вам нравится у нас в России?» Ты ответила: «Да. Мне очень нравится».
– Ростислав! – вдруг позвал Гриша. – А фамилию той венгерки ты помнишь? Спроси у нашего венгра, вдруг он с ней знаком?
– Не помню. Да, собственно, я и не знал ее толком.
– Наверное, Урбан. У них в каждом фильме обязательно хоть один Урбан да есть.
– У нее была какая-то особенная фамилия. Что-то вроде Рио-де-Жанейро...
Огонь в печке погас. Чайник умолк.
– Нет, – сказал Слепов. – Не буду я ни о чем спрашивать этого венгра. Всё это блажь в общем. Да, а все-таки знакомство мое с венгеркой кончилось очень грустно.
Он вспомнил, как оно кончилось. Как он гонял на ИЖе по городу, хотел купить шампанского. Нигде его не было в тот день. Но он достал. Они пили шампанское в комнате Витьки Еремина. Венгерка пела маленьким, верным голосом песенки по-венгерски, по-испански, по-французски и по-русски, конечно. Она смотрела на Слепова и тихо, радостно смеялась. Говорила: «Какой ви большой! Как ви все это едите и пьете!»
Слепов сидел неподвижно в тот вечер и говорил совсем мало. Потом свез ее на вокзал. Опустился рядом со своим мотоциклом на цоколь ограды. Близко шумела и торопилась вокзальная жизнь. Ему не нужно было все это: шипение пара, фырчанье машин, радиоголос вдали над путями, людская толкотня...
Ружи стояла с ним рядом недолго. Он не видел ее. Только чувствовал, что она стоит. И чувствовал, как все безнадежно теперь и кончится скоро.
– Ростислав, – позвала Ружи. – Мне уже надо идти... Ростислав!
И он пошел с ней рядом, глядя в асфальт и сутулясь. Возле вагона он сказал ей:
– Ружи, останьтесь. Вы поедете завтра. Я вам все оформлю с билетом. Поменяю. Не уезжайте...
Она сказала:
– Я была очень рада узнать, что в России живете вы. Но у меня есть Венгрия. Я не могу не ехать сегодня в Венгрию.
Она подняла лицо, потянулась и поцеловала Слепова в губы. Так вышло впервые. Слепов не ждал этого, не был готов к поцелую сейчас, посреди людей, у зеленой вагонной стенки. Он качнулся вслед за уходящей Ружи, но ее уже не было рядом с ним, она стояла на вагонной ступеньке. Повернулась к нему, махнула рукой...
– Я ее проводил, – сказал Слепов Грише. – Не дождался даже, пока тронется поезд. Откуда-то появился Витька. Звал меня ночевать. Я завел мотоцикл и рванул черт знает куда. Как не свернул себе голову – удивительно. Отмахал километров полтораста по тракту. Весь бензин сжег. Чуть-чуть в себя пришел, когда мотор заглох. Тишина вдруг такая наступила... Потом до самого утра тащил ИЖа по тракту. Пришел в себя наконец.
За окном саянская ночь. Что-то в ней неумолчно звучит, погрохатывает. Люди здесь ни при чем. Люди спят в Алыгджере. До тех пор, конечно, пока кто-то не возвратится после долгих таежных трудов, какой-нибудь работяга-геолог, каюр, охотник или сборщик кедрового ореха. Тогда долго не будет сна в Алыгджере, будут песни и крики – гулянка, веселье одолевшего тайгу человека.
Лают собаки. Сползают осыпи. Сочится дождь. Ночь.
7
Венгр пришел совсем поздно. Слепов не выглянул из мешка. Может, он спал, а может, считал, что не нужно выглядывать. Гриша поднялся, едва хлопнула дверь. Он зажег свечку, шепотом рассказал венгру, что нужно съесть и где спать. Венгр от еды отказался, прошептал:
– Я кушал тофоларские блюда. Оленье молоко.
Спать устроился быстро, притих.
Утром на улице, под окном девушка крикнула: «Вирмош!» Голос был утренний, ясный и радостный: «Вирмош!» Так доверчиво кличут очень знакомых людей.
Венгр поднялся быстро, пригладил свои курчавые, тяжелые волосы и быстро, в одной майке вышел на крыльцо. Увидел саянское утро. Ночное урчанье невидимых, недобрых сил сменилось веселым разноголосьем. Звуки сгладились, посеребрились. Влажно и мягко пахло лесом, хвоей, мехом. Облака ползли из распадков, тянулись, будто им было стыдно попасть на глаза человеку в своих ночных земных прибежищах. Матовый от тумана, розовел гранитный лоб на берегу Уды. Неподалеку, возле забора, стоял олень. Его голову низко притянули к ноге веревкой. Другой олень лежал там же. Были они малы, облезлы, тщедушны, совсем не похожи на полезных в хозяйстве животных. Казалось, что вовсе они не олени, а странно выросшие травяные жуки.
Венгр увидел все это разом и улыбнулся девушке, стоявшей на крыльце. Сказал ей смущенно:
– Я – как это? Про́спал...
– Я нарочно пораньше, – сказала девушка, – нам ведь идти далеко. Километров двадцать до стада. Вы не спешите. Я подожду.
Девушке было лет восемнадцать. Тонкая и рослая, с каленым, смуглым и в то же время нежно-румяным лицом, с чуть раскошенными ярко-карими глазами, она казалась метиской. Рост и румянец – это российское, а сухость и невозмутимость лица – это таежное, горное, тофоларское.
На голове у девушки был платочек, юбка длинная, а под ней еще синие лыжные брюки вправлены в голенища кирзовых сапожек. На черном жакетике комсомольский значок.
– Пожалуйста, Саша, – сказал венгр, – пять минут еще... Я себя немножко помою.
Венгр достал из мешка смятое полотенце, побежал с ним к Уде. На крыльцо вышел Слепов, мельком оглядел небо, горы, тайгу, двух олешков у изгороди.
– Эх! – сказал он себе и девушке Саше. – День хороший. Жалко его терять. А каюров наших все не видно. Не знаете, это чьи олени?
– Охотовед ездил в тайгу, – сказала Саша. – Соболям ревизию делали. Двух оленей с собой брали: быка и ва́женку.
– Григорий! – вдруг крикнул Слепов.
Тот сейчас же откликнулся:
– Ау...
– Кончай ночевать. Возьми у меня в планшетной сумке фактуру и беги в магазин, а я тут пока чай вскипячу, надо венгра хоть покормить до отхода. А то он костьми ляжет вместе со своей этнографией... – Слепов опять повернулся к девушке. – Вас, кажется, Сашей зовут? Сашенька, как имя этого венгра? Вы должны его знать. Вы, кажется, с ним уже в большой дружбе.
– Да нет... – Саша смутилась. – Меня назначил председатель колхоза с тофоларского на русский переводить. У него имя Вирмош. А фамилия сложная – Риосеги.
– Рио-сеги? Вы уверены в этом? – быстро спросил Слепов.
– Не знаю. Он мне так назвал...
– Риосеги... – Слепов заломил правую бровь.
– Григорий! – строго сказал он вышедшему на крыльцо коллектору. – Ты скажи продавщице, чтобы она хорошенько посмотрела, нет ли кофе. Только обязательно натуральный, все эти эрзацы – дерьмо. Помню, года два назад мы вели двухсоттысячную съемку на Таймыре. Там вообще невозможно без кофе. Дров нет, керосин на себе тащишь, для примуса. Ветер ледяной, голый камень. Бредешь, как ишак, с вьюком, свалишься от усталости, заваришь кофе покрепче – опять можно двигаться. Так вот была у нас там одна геологиня. Перед отправкой поручили ей кофе купить. Ну, она там купила что-то. Мы запаковали, не посмотрев. Пришло время заваривать, глядим, на пачках написано: «Натуральный желудевый кофе». Мы накинулись на геологиню: «Ты что купила? Мы же тебе говорили – натуральный нужен». Она очень удивилась. «Я, – говорит, – купила натуральный. Вот же здесь написано».
Саша слушала Слепова. Ее лицо было внимательно и невозмутимо.
– В Тофоларии кофе мало пьют, – сказала она и вдруг застенчиво улыбнулась. – Чай любят пить.
– Чай и водку, – сказал Слепов.
– Да, – согласилась Саша, – пьют еще лишнее.
Пришел венгр, ширококостный, белотелый с мокрыми, глянцевыми волосами.
– А-а вот и вы, – сказал Слепов. – Будем знакомиться, наконец. Ростислав. – И протянул руку.
Венгр крепко стиснул ее.
– Вирмош.
– Очень приятно, – сказал Слепов. – Вы не вздумайте уходить без завтрака. Сейчас я затоплю печку, и будем чай пить.
– Спасибо, – сказал венгр. – Я хочу, пробовать тофоларские кушанья. Оленье мясо и молоко. Это мне будет нужно знать.
– Да? – вскинулся Слепов. – Вы уверены? Ну, смотрите, ради науки чего только не съешь. Я писал диссертацию на тему: «Архей бассейна реки Дотот». Пока собрал для нее материал, мне довелось и беличьего мяса отведать, и бурундучьего. Оленина – это, в общем, даже деликатес.
– Да, – сказал венгр, – наука – как это? Всеядна. Все кушает.
Оба весело захохотали. Саша тоже посмеялась.
– Науке всегда все мало, – сказал венгр. – Я написал диссертацию: «Словообразование в нанайском языке». Четыре года работы. Одна миллионная часть того, что нужно сделать. Что нужно – это очень много. Это больше, чем одна жизнь. Да?
– Да, конечно, – согласился Слепов.
– Я читал протоколы инквизиторских судов в Венгрии. В них есть общие слова с шаманскими песнями обских угров. Я сделал карты распространения шаманства, библиографию по шаманству – тысячу двести карточек. Читал византийские, китайские летописи. В Улан-Удэ читал бурятские документы. Это история жизни людей. Общность истории, языка. Как разделились народы в мире? Что происходит с их языком, культурой? Нет, не все народы. Все – это слишком много для меня. Только финно-угорская группа. О-о-о! Это тоже очень много. Очень. – Венгр совсем разволновался, закурил сигарету «Байкал».
– Слушайте, – сказал Слепов, – бросьте вы курить эту дрянь. Вот берите лучше «Беломор».
– «Байкал» – это дешево, – сказал венгр и улыбнулся. – Шестьдесят копеек. Венгерская академия наук послала меня в Сибирь в командировку на месяц. Я уже живу тринадцать месяцев. Мне можно курить уже – как это? Мох... Да? Мои деньги не могут меня догонять. Мне посылают в Салехард, а я в Улан-Удэ. Нужен, как это? Постоянный записка?
– Прописка, – подсказал Слепов.
– Да, да, прописка. – Опять весело посмеялись венгр, и Слепов, и Саша.
Слепов пошел за дровами. Сказал, уходя:
– Только смотрите, не убегайте без завтрака. Через двадцать минут все будет в порядке.
– Спасибо, – сказал венгр.
8
Ушел он без завтрака. Увел под руку Сашу. Нес магнитофонный чемодан, фотоаппарат на грудь повесил, волосы спрятал под берет. За деревней пошли с Сашей порознь. Она сказала:
– Давайте я понесу магнитофон.
– Спасибо, – сказал венгр. Магнитофона не отдал.
Шел и думал на своем венгерском языке, похожем на тофоларский. О разных вещах в одно время. Об электрических батареях: скоро они сядут совсем, перестанут вращать диск магнитофона. Скоро кончится пленка в аппарате «Экзакта», последняя пленка чувствительностью 180 единиц. Скоро кончится лето. Посольство в Москве уже напоминало: пора домой. А нужно еще побывать в Туве. Неужели придется уехать, не услышав тувинского языка?
Дорога за Алыгджером сошла в тропу, потянулась лиственничным лесом. Венгр думал об этом лесе: какая нежная, влажная хвоя у лиственниц. Лес был прохладен, свеж, невелик ростом; поодаль, меж темных хвойных стволов виднелись березки, поляны с цветами желтой саранки. Идти лесом было славно, а еще лучше стало на косогоре, когда открылось все небо, все солнце, Уда внизу, и выводок рябчиков выпорхнул на опушке.
Венгр смотрел на идущую перед ним девушку Сашу. Он думал о ней. Она обернулась. Венгр улыбнулся ласково и мягко.
– Красиво, – сказал он и закинул голову, посмотрел вверх, туда, где тучный, в травах, склон плешивел, венчался сечеными резко скальными гранями.
– Красиво, – опять сказал венгр. – Это очень красиво. Это редко увидишь в европейских странах: красиво без вмешательства человека...
– У вас в Венгрии, наверно, еще красивее, – сказала Саша. – У нас климат плохой. Сегодня ничего, правда, а так все время дождь.
– О, – сказал Вирмош. – Я прожил в Венгрии тридцать пять лет. А в Тофоларии всего один день. Я не видел в Венгрии таких гор.
– А вы поживите у нас подольше, хотя бы месяц, – сказала Саша.
– Хотя бы месяц... – повторил венгр. – Это было бы прекрасно – месяц.
– Вирмош, ну давайте я понесу магнитофон...
– Нет, спасибо. – Он прошел немного молча и сказал неожиданно для себя, о чем думал давно, все утро, с тех пор как увидел черноволосую девушку Сашу.
– Саша, – сказал венгр, – вы похожи на мою сестру. Я смотрю на вас и вижу сестру, Ружи...
– Она у вас работает или учится? – спросила Саша.
– Она умерла.
Тропа соскользнула в глубокий распадок к ручью. На дне топорщились ржавые плахи залубеневшего снега. Видеть его рядом с цветением летней земли было холодно и тревожно.
Снова вспорхнули рябчики. Молодняк попрятался где попало, а матка села на голый кедровый сук. Она топталась, ерошила перья, отчаянно свиристела. Не ждала она добра от идущих людей. Сидеть открыто ей было страшно и неуютно. Но птица все не слетала, кудахтала, чтобы люди ею занялись, забыли о выводке – малых, бесхвостых, плохих летунах. О детях.
– А я кончила нынче десятый класс, – сказала Саша, – хотела в Иркутск поехать, поступать в медицинский, а потом так вышло – осталась. В колхозе теперь работаю. На ферме – дояркой.
– О-о-о! – сказал венгр. – Дояркой.
– У нас вообще-то колхоз охотничий. Вот приезжайте осенью, в октябре. Никого не найдете в Алыгджере. Ни людей, ни собак. Все уйдут – на промысел...
– Спасибо, – сказал венгр. – Я постараюсь приехать... – Он не очень слушал теперь Сашу. Она говорила долго. Ей было легко и важно рассказывать о колхозе. Венгр видел только черные Сашины волосы, юность девушки, чувствовал ее родственность этим горам, и цветам, и лесу. Он думал о своей сестре, Ружи.
Представил ее посреди саянской страны Тофоларии. Она шла уверенно и легко, ничуть не страшась безлюдья, чужой природы, огромной и дикой. Она никогда ничего не страшилась, Ружи. Все в мире было ей новым, близким и дружеским: лес, поле, толпы людей на бульварах Пешта, джазовый блюз, рабочая будничность сибирских селений...
Недавно, весной, Вирмош был в Павлодаре. Ружи ему говорила про этот город. Про его зной, про степь, про пшеницу, про людей: какие у них большие плечи и руки, как они одержимы своим трудом. «В Павлодаре есть бульвар, – говорила Ружи. – Ни один мужчина не гуляет по нему днем. Само слово «гулять» означает «выпить».
Вирмош гулял по этому бульвару днем. Единственный праздный мужчина на всем бульваре. Сидел на скамейке и слушал голос рабочего города. Голос был негромок, ненавязчив и деловит: без шарканья ленивых подошв и шин. Звуки рождались и быстро гасли, уносились куда-то мимо, по делу. Протарахтел мотоцикл.
Вирмош представил Ружи на мотоцикле. Ружи в белом открытом платье, с летящим пуком волос, рядом с надежным мотоциклистом, очень большим русским парнем. Она говорила об этом парне. Наверное, ехала, склонялась немного к его спине. И улыбалась.
Пока Ружи была жива, Вирмош не думал о ней подолгу. Она росла самостоятельной девочкой. В шестнадцать лет курила сигареты, пела в концертной бригаде и возглавляла какой-то там комитет.
Воспоминания о Ружи незаметно для Вирмоша и неизбежно приводили его к мысли о собственной жизни. Как его везли на войну в большом немецком грузовике. Ему не дали автомата. Он должен был рыть окопы для немцев, двадцатитрехлетний студент-филолог. Он должен был слушать команды немцев, повиноваться. «Нет, – говорил себе тогда Вирмош, – это нечестно. Я венгр. Это не моя война. Русские мне не враги».
Под первой русской бомбежкой в ночной суматохе Вирмош бежал из своей команды. Его поймали и снова везли куда-то, и снова немецкая брань...
Все стихло внезапно. Исчезли звуки внешнего мира. Остался лишь скрежет обрезков жести внутри головы. И боль. Очнулся Вирмош от боли. Узнал, что контужен, что все считали его безнадежным, но молодость помогла. «Молодость, только молодость тебя спасла», – сказали ему старики. Они принесли полумертвого парня к себе в землянку. Они разжимали ему челюсти и вливали в рот кислое прошлогоднее вино.
Когда Вирмош впервые встал на ноги – это было очень больно. Ноги слабы, и кости хрустят. И никак не вспомнить название своей улицы в Будапеште.
Дом, где жила семья Риосеги, был разрушен бомбой, остался стоять один угол – две сцепившиеся друг с дружкой, ненужные теперь стенки. Все остальное ссыпалось наземь: битый кирпич, исковерканное железо, хлам порушенного жилья. Внутри стоящего домового угла были видны обои: синие девочки верхом на оранжевых лунах. Обои маленькой комнаты Ружи...
Вирмош вспомнил все это, сидя на павлодарском бульваре, вспомнил маленькую могилку на городском кладбище. Фанерку с чернильной надписью: «Риосеги».
Близко, возле ограды, играли мальчишки. Кидали в небо белый лоскут, смятый в комок. Лоскут расправлялся в небе и падал. На тонких, ниточных стропах к нему был привязан камень. Падал он быстро, крохотный парашютик... Серьезная девочка в белом платье смотрела на эту игру. «Ружи!» – тихо позвал Вирмош. Девочка обернулась. Глаза ее были печальные, взрослые и родные. «Ружи!..»
Ружи быстро повзрослела. В стране было голодно. Вирмош днем учился, ночами ходил разгружать вагоны. Поезда привозили с Востока русский хлеб, и картошку, и доски.
Кончив курс в университете, Вирмош был принят ассистентом в Институт этнографии. История языка и культуры Венгрии стала его профессией. Он занимался наукой. Прежде всего наукой. Тайнами языка и культуры. Наука вела его к человеческой древности, к первооснове сообщества людей, к единству слова и мира.