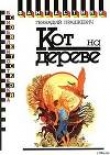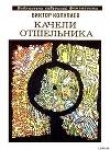Текст книги "В тридцать лет"
Автор книги: Глеб Горышин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Тихонцев сидит на бревнах. Ему, пожалуй, не встать. Он глядит на реестр. «Жалкий чечако, – говорит себе Григорий. – Ты не смог работать в тайге, так хоть сделай, о чем тебя просят люди...» Эти слова действуют на него. Он поднимается и снова идет. Покупает в сельпо носки. Отыскивает избу Сергея. Там темно, и дымно, и пьяно.
Всю водку, что есть на столе, Григорий сливает в три стакана. Они пьют втроем – коллектор и двое каюров: Торкуевы. Потом каюры хотят пойти добавить еще чего-то. Коллектор их не пускает, обороняет дверь. Он сильнее Торкуевых. Они лезут и злятся, но им не осилить Гришу. Они засыпают, устав.
– Григорий Петрович, – долго бормочет еще Сергей, – Григорий Петрович, полбанки сообразим...
Тихонцев ночует здесь же в избе. Ложится на пол у выхода. Спит мало. Утром будит Сергея. Тот ищет опохмелиться, кличет свою жену Лену, разговаривает с ней по-тофоларски, но так, что Григорию все понятно. На Григория он не глядит. Часа через два начинает вьючить оленей.
Вьючиться надо возле Иванова дома: там все имущество. Иван вышел, глядит, но ничем не помогает. Что-то его тяготит. Весь он хмурый и грубый. Жена его стоит поодаль смиренно и в то же время настороженно.
– Вань, – говорит она мужу, – ты бы ехал на покос. Дожди пойдут, без сена останемся.
– Успеется.
– Ваня, – спрашивает Тихонцев, – а когда же мы с тобой двинем в путь?
– Я, может, еще совсем не пойду, – отвечает Иван не глядя. – Сено косить надо.
К полдню вьюки готовы. Двинулись тихо олени. Сучик поплелся мордой в траву. Пушок остался молча сидеть, внимательно глядя. Он все понимает. Тихонцев пошел следом за караваном, сильно хромая, дошел до ворот, до ограды села. Там он простился с Сергеем и с Леной.
– Счастливо вам поправиться, – сказал Сергей. – На третьи сутки мы обязательно будем на месте. Шибко пойдем. Ой-ой-ой. Олени свежие.
Григорий глядит, как уходят олени, как бежит сверху, с Саян, звонкая речка Уда. А там дальше Кара-Бурень, Белая Дургомжа, пенно-зеленый Дотот. Там Чукин, Валерий, Симочка, Вася. Они очень ждут и теперь уже скоро дождутся.
«Я сделал все, что в силах был сделать, – думает Тихонцев. – Теперь можно лечь на траву, или пойти в больницу, или сесть в самолет и лететь в Нижнеудинск. Не за что отвечать. Некем руководить». Новое чувство легкости, невесомости томит Григория и тревожит. Ему хочется самому вести караван к ребятам, идти по тайге... Он вспоминает, как торопился прочь из горелого леса, из лагеря, как ликовал, уходя. Это было лишь четыре дня назад, но уже стало дальним и странным, как глупое детство.
Ударение на первом слоге
1
Его звали Ростиславом. Он родился в тридцать первом году в Ленинграде. Не очень любил свое имя. Сына назвал Алешкой. Сына рождения пятьдесят пятого года. Но не в этом суть дела. До двадцати четырех Ростислав ходил в Славках. Потом стал Ростиславом Сергеевичем.
Ростислав Сергеевич Слепов, научный сотрудник отдела докембрия, начальник семнадцатой партии, летит теперь в Алыгджер на самолете ЯК-12.
Он думает о многом сразу. Ему кажется, нужно держать баланс, сидеть прямо и неподвижно. Если нарушить баланс, ЯК-12 ковырнется набок, как лодка, скиф-одиночка.
Ростислав вспоминает о скифе, о веслах марки «Рудер». «Теперь научились, наверно, – думает он, – сами делаем приличные весла. А может, по-прежнему нет лучше «Рудера»? И скифы были немецкие. Какие теперь, интересно?»
Рядом с пилотской спиной впереди за стеклом – спина в замшевой куртке. Короткая, крепкая шея. Берет на затылке.
Слепов кричит, покрывая дрожь мотора, соседу, коллектору Грише:
– Сидит как Будда.
Гриша чуть-чуть улыбается. Он тоже думает о человеке с широкой замшевой спиной.
Было время садиться в кабину. Пилот грел мотор. ЯК-12 дрожал, легонький, узкий, ширококрылый работяга-самолетик.
Слепов и Гриша грузили имущество партии. Весело, возбужденно грузили и слушали ЯКа. Воздух летел от винта, травины шарахались наземь, белели, ложась, теряли беспечную прозелень.
Геолог Максимова Оля, юная девушка, горняцкий инженер, стояла поодаль, ждала, когда позовут садиться. Она никогда еще не летала на таком маленьком самолете. Очень хотела лететь и боялась, конечно.
Никто не заметил, откуда вдруг взялся начальник отдела перевозок. Вместе с ним пришел мужчина в замшевой куртке, в берете, в заграничных ботинках на рубчатых толстых подметках. Начальник замахал руками пилоту. Пилот снял газ.
– Возьмёте с собой товарища, – крикнул начальник и указал головой на мужчину в берете.
Пилот свесился через борт, возразил:
– Я беру только троих.
– Ну конечно, – сказал начальник. – Товарищам придется кому-нибудь подождать. – Он повернулся к Слепову и строго прибавил: – Больше двухсот пятидесяти килограммов на один рейс не положено. Вот товарищ полетит в первую очередь, иностранец...
Слепов держал в руках тюк. Он бросил его на траву и чуть-чуть вскинул подбородок. Подбородок в юности был белый и круглый, а теперь потемнел, отделился от нижней губы резкой морщиной. Слепов поднял правую бровь. Светлая, незаметная бровь обозначила вдруг себя. Он сказал:
– То есть как? Мы не можем больше ждать. Вы понимаете это?
– Ничего не могу сделать, – сказал начальник. – Отправим следующим рейсом. Такие есть распоряжения.
– Ах, распоряжения? Значит, интересы геологической партии – это чепуха?..
Человек в берете слушал. Лицо у него было крупное, угловатое, с желто-серым налетом усталости. А может, болезни. Или тоски... Смотрел он мимо всех стоявших вокруг. Потом медленно забрался в самолет, сел в кресло рядом с пилотом. Только шея его порозовела немного, но вскоре и это прошло.
Геолог Оля Максимова осталась стоять на лётном поле. Девочка в лыжных брючках. Ничуть она была не похожа на горняцкого инженера. Не верила еще, что лететь не придется, что осталась одна на чужом, пустом поле. Стояла, не шевелясь.
Гришу Слепов взял себе в помощь: нужно заключить договор с колхозом на аренду оленей, вьючиться, точить топоры, сухари насушить. От женщин мало проку в этих делах. И от инженерских дипломов – тоже...
Злым, раздраженным отправился в Алыгджер начальник партии Ростислав Слепов.
ЯК-12 с надсадом ревел на лету. Снизу он казался, наверно, плавной большой стрекозой в летнем небе.
В окошке кабины виднелась земля. Она колыхалась немного, все на ней было красочно, крупно: бурые, серые – горы, в пепельной зелени – лес, светло-зеленое – поле, речка – длинная, синяя густо, до черноты. Голубой воздух был напитан солнцем, подвижен. Ни одна тень не пятнала его. Непокрытый, густоволосый затылок пилота казался молодым, спокойным и дружеским.
Слепов не мог долго оставаться сердитым. Бровь его распрямилась, стала совсем незаметной на лице. Что бы там ни случилось, он был рад этому утру. Рад небу, земле, утратившей мелкие очертания, солнцу, едва ощутимому привкусу риска. Он любил такую жизнь.
Летел. Вспоминал что придется. Нужно было держать баланс на сиденье. Слепов думал о скифе. О спорте. О гребле. О Косте Речкалове, олимпийском чемпионе. Они начинали когда-то вместе в учебной четверке. Хорошая это вещь: шелест воды о днище, запах ее, близкий и свежий, слитные ходы весел, рук, спин.
После первого курса Слепов уехал в Саяны. В октябре возвратился, пришел в клубный эллинг. Боцман его не узнал. А может, узнал, только говорил на «вы» и строго. Не разрешил садиться в гоночный скиф. Назывался тот скиф странно: «Мистификация». «...Кто их так называет?» – подумал Слепов и улыбнулся. Вспомнил, как в клубе ему говорили: «Будешь работать – поедешь на первенство Союза, а там в Югославию, в Лондон, на Хейнлейскую регату...» Много раз говорили об этом. Предрекали спортивную славу. Слепов был выше, сильнее Речкалова. Но удивить Лондон ему не пришлось. Он ездил лето за летом в Кузнецкий Ала-Тау, на полуостров Таймыр, в Якутскую тундру.
А Речкалов наматывал километры. На Крестовке, на Невке, на узкой мазутной Ждановке, на взморье, вдоль лахтинских камышей. Он греб по утрам, когда на воде встречались только буксиры. По вечерам ставил лодку бортом к косой волне от бегущих речных трамваев. Волна вскидывала узкий скиф, вальки вырывались из рук, нужно было цепляться за воду веслами.
В осенних потемках Речкалов ходил с фонарем на носовом фальшборте. Греб часами, годами. Греб, греб... Стал чемпионом Союза, Хейнлейской регаты, Европы и Олимпийских игр.
Слепову очень хотелось в Мельбурн, на Темзу, на озеро Балатон. Он читал о Речкалове все, что писали газеты. Читал и твердил себе: «Мог бы и я, мог бы и я...» Губы его сжимались, округлялись в иронии: «студент Речкалов». Так писали три и пять, и одиннадцать лет – студент.
Последний раз они встретились осенью на Крестовке. Это было года четыре назад... Слепов только вернулся из экспедиции. Вода казалась черной уже, и листья плыли не густо. Грустно, тревожно тянуло из парков дымом. Дымом особым, осенним. Слепов, чуть-чуть подгребая, плыл на учебном спуннинге. На воде и на берегах было пусто. Только чей-то скиф-одиночку потихоньку сносила Крестовка. В скифе сидел человек в синем свитере с белым кантом. Он держал одной рукой вальки весел – для баланса, другую свесил до самой воды. Поднял лицо, плывя мимо. Все на лице было выбелено: брови, губы, глаза, даже в морщинках у рта белела соль морей, или пыль ветров, или еще что-то такое. Очень спокойное, знакомое лицо.
– Здравствуй, – сказал Слепов и вдруг заволновался.
– Привет.
Лицо не изменилось нимало.
Слепов еще не придумал, что сказать олимпийскому чемпиону. Что-нибудь очень простое, детское даже, чтобы отлетели годы, прошедшие разно, осталась только улыбка двух поживших, уставших немного людей, и эта осень, черная вода внизу, дым сгорающих листьев лета.
– Ну что? – сказал Речкалов. – Все на спуннингах ходишь? Учишься гресть?
Слепов сломал свою бровь, ему захотелось сказать что-нибудь обидное Речкалову, но слов таких не находилось, и он вдруг вспомнил прежнего Речкалова. Был он в юности тонконогий, щекастый и слабый. Превратил себя в самого сильного в мире гребца. Победил поляка Коцерку, американца О'Келли и австралийца Вуда. Добыл славы не только себе – стране.
Слепов ничего не сказал тогда, гребнул посильнее, прочитал на носу речкаловокой лодки: «Мистификация».
Слепов припомнил все это и улыбнулся. Сказал себе: «Еще года два продержится Костя и сойдет. В тренеры подастся, наверно. Ну что же, поглядел хоть на белый свет». Подумал без зависти, без прежней иронии, даже с сочувствием. Сам он давно уже мог поехать работать в Китай, в Индонезию, в Сирию, к чехам или в Гвинею. Никуда не поехал. Только в Сибирь. Чем больше он ездил в Сибирь, тем сильнее хотелось ездить.
«Нужно себя ограничивать в чем-то, – сказал Слепов, – или спорт, или дело». Сказал и бросил думать о прошлом, о лодках. Стал думать о будущем, о древнем саянском докембрии, об оленях, о сухарях, о рабочих – наймешь ли их теперь в Алыгджере?
– Чегой-то его несет в Тофоларию? – крикнул он в ухо Грише, кивнув на замшевую спину.
– Кто его знает, чистый Будда, – улыбнулся Гриша.
– Ну, мы его не будем обожествлять.
2
Есть такое место в Сибири – Алыгджер. Когда-то был здесь райцентр, потом его перенесли в Нижнеудинск. Остались на память лишь административные здания: бывший потребсоюз, бывшая милиция... Не осталось только въезда в деревню. Его и не знали здесь никогда. Не знали ни ворот, ни дороги, ведущей в иные места. Была седловина в горах, окруживших деревню. В ту седловину метили пилоты. Быстро гасили скорость и высоту. Негде кружиться над Алыгджером. Рулили по сочной траве к аэропорту – большой избе с трехступенным крылечком. Начальник порта шел не спеша навстречу машине. Крепкий, присадистый, голубоглазый сибирячок в аэрофлотской куртке с угольчатым шевроном. Дочку начальник держал на руках, а сын уже сам научился встречать самолеты.
Начальник аэропорта улыбался, встречая. Поднимется хмарь над горами, закроет небо, будет висеть неделю, а может, месяц, будет сочиться дождем или сыпаться снегом, никто не прилетит по такой погоде. И приехать нельзя в Алыгджер: горы вокруг, лиловеющий камень, красно-кирпичные осыпи, кедры у нижней границы снегов, ягель, изюбровы тропы...
Начальник всем улыбнулся: пилоту, Грише, иностранцу. Сказал:
– Придет сельповская лошадь – вещи отправим до места.
С пилотом пошел оформлять бумаги. Дочка крепко держалась за отцовскую шею. Сын остался стоять неподвижно, глядел на самолет. Много он их повидал за свои восемь лет. Не было для него погоды ненастной, теплой или туманной. Была только летная и нелетная. Все нелетные дни казались ненастоящими, проходили не в счет.
Иностранец вылез из самолета и сразу уединился, ушел в сторону ото всех. Принялся рассматривать горы. Гриша со Слеповым быстро скинули вещи. Сели перекурить. Завернули махорку. Уже началась особая, «полевая» жизнь, в которой радости проще, чем в прежней, городской. Забористей, круче... Взять, например, клок газеты, всыпать щепоть махры, туго ее завернуть и курить с треском, особенным жаром и смаком.
Скурив вполовину цигарку, Слепов крикнул вдруг иностранцу:
– Чего вы сбежали от нас? Идите сюда, покурим.
Иностранец тотчас же обернулся. Его замкнутое крупное лицо вдруг изменилось. Перемена случилась мгновенно, будто он ждал слеповских слов, ждал долго, хотел их услышать, терпел и страдал, дожидаясь. Иностранец улыбнулся. В улыбке все растворилось: серый налет на лице, медлительность взгляда, непричастного к подробностям жизни. Улыбка вышла смущенной и доброй. Он сразу шагнул поближе, сказал:
– У меня сигареты. Я могу вам предложить. Да? – Он достал измятую пачку «Байкала», дешевых и тощих табачных изделий. Слова выговаривал робко, с заминкой, ударения делал на первых слогах: «Я мо́гу».
– Постойте, – сказал Слепов, – я знаю, кто вы такой. Вы же венгр. Чего же вы сразу нам не сказали?.. И зачем вы курите эту дрянь? Курите махорку. Вот нате.
– О-о-о! – воскликнул иностранец. – Ма́хорку... Да, да, я уже ку́рил ма́хорку. Нет. Кури́л... Так?
– Ну конечно, так.
– Она по́падает... Нет, как это? Она сыплется... Так?
– Так.
– Она сыплется в рот и мо́тает... Нет. Кру́тит. Она сыплется в рот и крутит голову.
– Крутит? – Слепов вдруг весело засмеялся. Впервые за весь сегодняшний полет.
Гриша смеялся еще веселее, чем Слепов. Он давно уже был готов и рад подружиться с иностранцем. «Почему Слепов решил, что он венгр?» Иностранец тоже смеялся. Говорил он много и радостно:
– Этнография. Такая наука. Вы, может быть, не слышали?
– Немножко слышали, – сказал Слепов. – Чуть-чуть.
Иностранец перестал улыбаться.
– Мне не надо было лететь, – сказал он печально. – Я должен был уступить место женщине. Но не было... как это? Вихода́...
– Выхода.
– Да, да. Выхода.
– Что у вас за неотложное дело? Если не секрет, конечно.
– Я венгр. Этнограф. Венгерский язык очень близкий языкам сибирских народов. Ханты и манси... Буряты. Тофолары. Это очень мало изучено.
– Ну как же, – сказал Слепов, – это известно: финно-угорская группа языков.
– Да, да. Финно-угорский... Как это? Я хочу написать монографии о языках сибирских народов. Нет... Это большое счастье. Этому мало жизни. Просто мечта... Мне надо уезжать. Я приезжал на один месяц. Уже пошел тринадцатый месяц. Мне нельзя терять больше ни один день... Так вышло.
– Ничего, – сказал Слепов серьезно и твердо. – Пожалуйста. Мы на вас не в претензии.
Иностранец вскинул на плечо рюкзачишко, обыкновенный зеленый мешок со шнурками, собрался куда-то идти.
– Подождите, – сказали Слепов и Гриша вместе. – Чего вам спешить. Сейчас придет лошадь, погрузимся и поедем.
Венгр покачал головой.
– Времени нет. – Тряхнул мешком. – У меня есть магнитофон. Я хочу записывать песни. Старые тофоларские песни. Я хочу искать шаман. О-о-о! Древность... – Венгр пошел по дороге, порезанной вдоль тележными колеями. Слепов крикнул вдогонку:
– Ну, дай вам бог стопроцентного шамана! Приходите к нам. Мы в школе остановимся. В интернате. Спросите – вам покажут.
– Спасибо.
Когда венгр отошел подальше, Слепов сказал:
– Вот это да! Другой приедет в командировку, первым делом – что? Харчиться. Причем основательно, не как-нибудь. Потом – отдохнуть. Коечку получить. Ночку скоротать как следует. А потом уже – за работу.
– Да-а-а, – сказал Гриша. – Деловой венгр.
– Подвижник какой-то. Чтобы лететь в Тофоларию за шаманской песней?.. Такое не часто встретишь. Ну а мы с тобой вот что. Сейчас отвезем имущество на склад и займемся немножко бытом. Не будем подвижничать?
– Не будем. А как ты угадал, что он венгр?
– Да пришлось мне один раз вступить в контакт с этой национальностью. Был такой случай... Черт, только жалко Максимову. Когда она теперь прилетит? Вот ведь идиотская манера делить людей по сортам. Почему этнографу первая очередь, а геологу вторая?
3
Оля Максимова не думала о том, кому какая очередь. Она еще не умела отделять свои горести от себя, судить, обобщать, выносить приговоры.
Ей было грустно видеть, как уменьшается самолет в небе, как он сближается с черной, рубленой кромкой гор. Чем дальше он улетал, тем казался ближе к горам. Вот он исчез на мгновение, снова мелькнул отдельно от гор и стерся – теперь уже насовсем.
Оля тихо, бесцельно пошла по аэродрому. Он казался ей неприязненным – пустое, огромное поле. Кузнечики прыгали из-под ног, пускали в ход крылья, взлетали, звеня, шелестя, в меру сил подражали хозяевам поля.
От здания аэропорта ехал мотоциклист. Он догнал Олю возле ворот, чисто выбритый, вежливый парень в куртке и галстуке аэрофлота, – видно, летчик. Он остановил мотоцикл, и тот зафыркал реденько, вразнобой.
– Вы разве не улетели? – спросил летчик тоном участия и доброхотства, словно был давно озабочен Олиной жизнью. – Ведь ЯК-12 пошел в Алыгджер, Команев полетел, Вася.
– Какого-то иностранца посадили. – Оля не смогла скрыть обиду. Старалась быть выше случайностей жизни. Но не вышло на этот раз.
– Да, я знаю, – сказал летчик, – еще вчера командир отряда хотел отправить иностранца вне очереди. Согласно законам гостеприимства. Гроза помешала... А за вас мы не беспокоились. У вас ведь в экспедиции есть мужчины. Можно же было уступить вам место в самолете. Или это мне показалось – что есть мужчины?
– Места уступают в трамваях, – строго сказала Оля, – и то не всегда...
Она пошла дальше. Нельзя же было ей, горняцкому инженеру, стоять возле незнакомого парня и ждать чего-то. Но идти не очень хотелось. Идти одной по пустому полю. Слова летчика были нежданны, приятны ей. Значит, кто-то здесь думает все же о ней и о партии Слепова, на этом аэродроме.
– Садитесь, нам по пути, – вежливо предложил летчик. Он тихонечко тронулся следом за Олей, но вровень не подъезжал.
Оля остановилась.
– Что ж. Везите.
Устроилась на заднем сиденье.
– Вы в город едете? – Летчик обернулся. Оля увидела совсем близко его твердое и доброе молодое лицо, улыбку.
– Я еду в Алыгджер. Только в Алыгджер. – Оля тоже улыбнулась в меру.
– Тогда все в порядке, – обрадовался летчик. – Идем одним курсом.
И они куда-то поехали.
Впервые в жизни села Оля на мотоцикл. Старалась сидеть прямо, иначе, казалось, получится крен.
День был недавно жаркий и неподвижный. Теперь он ожил весь, засвежел, рвался навстречу упруго, прохладно. Лишь иногда возле сосен он вздыхал мягко и знойно, наносил запах хвои, смолы, цветущего лета.
Ехали широкой песчаной дорогой, обгоняли машины. В них сидели люди в рубашках – белых, синих, праздничных. Было заметно, что им не сидится, людям, в этот воскресный день. Они пели, махали руками. Их спины и шеи не умещались в стандартных рубашках Госшвейторга. Эти спины калило солнце, их гладило ветром, сибиряцкой жизнью, в которой летом и в зиму – под сорок.
Машины катили быстро и тесно, густо пылили. Оле было немного страшно в этой сумятице тракта. Страшно и весело. Близко, рядом совсем сидел летчик, нажимал какие-то там рукояти, мотоцикл лез вперед уверенно, ходко. Спина у летчика была широка, надежна. Нет, не страшно было Оле рядом с таким человеком.
– Наглотались пыли? – крикнул он, обернувшись. – Сегодня все едут в Дунькину рощу на гулянье. Каждое воскресенье ездим.
– Мы не туда поехали, —крикнула Оля. – Алыгджер в другой стороне.
– Туда. В самую точку. Алыгджер от нас не уйдет. Я вас туда запросто увезу. Между делом... – Он засигналил идущему впереди МАЗу.
Тот ехал себе, будто не слышал. Шофер в красной воскресной рубахе выпростал плечо из кабины, глянул насмешливо, двинул рукой: «Давай нажимай, если можешь».
В кузове были видны и слышны гармошка, гитара, цвели цветочки на платьях, имелся один торжественный галстук, фиолетово-синий, с большим узлом.
Летчик прибавил газу, свернул с укатанной колеи в песок обочины. Мотоцикл мотнуло. Оля выпустила скобку поручня, обхватила за талию летчика, подалась, прижалась к нему. Иначе нельзя было ехать теперь.
Шофер убрал плечо из окошка кабины. Он не хотел выпускать вперед крохотную машинку на двух колесах. Он вступил в состязание с мотоциклом, в веселую, шумную гонку. Гитара, гармошка умолкли в схватке моторов. Люди тоже вступили в гонку, подсобляя чем можно: голосом, взмахами рук.
Оля чувствовала натугу, дрожание, азарт машины и человека. Ей тоже хотелось махать руками и подсоблять мотоциклу в гонке. Но руки держали крепко, в обнимку, незнакомого летчика.
МАЗ отставал понемногу. Он был не способен гоняться с новым ИЖем на тракте в воскресный день. Медведь на носу у МАЗа поднял приветственно лапу, хотел шагнуть вдогонку и тоже отстал.
Оля кивнула медведю и подмигнула: «Пока, косолапый!» Гладкая колея снова пошла под колеса, чистый, без пыли воздух рванул навстречу. Весело стало Оле, совсем не страшно.
– Не стыдно вам, – крикнула она летчику, – ездить наперегонки с такой неуклюжей махиной?
– Не могу, – крикнул летчик, – душа не позволяет, чтобы шофер пилота обогнал.
Можно уже было не держаться за летчика, но Оля держалась. Так и въехали в Дунькину рощу. Летчик пристроил мотоцикл в скопище разнообразных машин и повел Олю по роще. Не было в этой роще нудных табличек насчет газонов. Не было портретных галерей и плакатов, без жалости бьющих проклятого стилягу. И границ, ограды тоже не было. Люди лежали на траве, ходили, смеялись. Цвел одуванчик, солнечно-желтый и долгостволый, всюду белела россыпь ромашек, вздрагивал колокольчик от неслышных другим дуновений. Выбрав себе полянки, в державном росте и буйстве цвел иван-чай, глушил всякое мелкоцветье, ярко-лиловый и узколистый. Кое-где стояла красотка сибирских полян – саранка...
Люди хмелели немного в этом мире цветов, берез, солнца, ольховой, рябиновой тени. К тому же с торговых машин продавали вино, пироги, колбасы. Крепкие юноши в жарком загаре с номерами на белых майках играли в волейбол... «Волетбол», – говорили болельщики.
Медные трубы ревели взахлеб. Оле вдруг показалось, что все здесь так, словно это открытие парка под Ленинградом. А может быть, не совсем так. Или вовсе не так.
Оля не знала еще такой вот Сибири, в веселом, громогласном и откровенном отдохновении. Она знала только другую Сибирь: маршруты, маршруты, длиннорукий молоток, злые брызги разбитого камня, приторный запах комариной мази – диметилфталата, усталость, ночевки на голой земле, где-то в метре от вечной мерзлоты, и снова работа, маршруты... Много работы в Сибири. Некогда отдыхать.
И вдруг эта Дунькина роща. Совсем как гулянье в Пушкинском парке.
Кто-то вдруг крикнул на Удинской протоке:
– Спасите! Тону!
Может быть, так, в шутку крикнул. Но «волетбол» прекратился мгновенно, ларьки на колесах свернули торговлю, даже трубы споткнулись, умолкли. Люди бросились в реку: в ботинках и кепках, в отглаженных к воскресенью рубахах, мелькнул в воде фиолетовый галстук... Летчик, правда, успел снять форменный пиджак, брюки с голубым кантом, бросился тоже.
Стало тесно в Уде. И совсем непонятно, кого же спасать, кто тонет. Все плавали долго в холодной воде, ныряли, искали, пытались друг друга спасти. Никто не хотел вылезать, и никто не сознался, что тонет.
После удинского крещения в Дунькиной роще стало еще веселее.
Оля и летчик вместе со всеми смеялись, стукали по мячу, пьянели немного, пили вино, бродили по роще, а может быть, уже не по роще, в пустынных местах, где трава росла непримята. Летчик держал Олину руку. Это было глупо, сентиментально, по ее современным понятиям, ходить с парнем, взявшись за ручки. Она иногда усмехалась, но сразу же забывала. Летчика звали Гоша, Георгий.
– Гоша, – сказала Оля, – мне очень нравится в вашей Дунькиной роще. А почему она называется Дунькиной?
– Я не знаю точно. Хотите, я завтра вам точно узнаю?
– Да нет, зачем же. Наверное, просто какой-нибудь Дуньке понравилась эта роща, и она утопилась вон там, в Уде, от любви к благородному принцу.
– Может быть, и так. Ничего нет удивительного, – сказал летчик странным, изменившимся голосом.
– Конечно. Я вполне понимаю эту Дуньку.
– Нет, я этого не понимаю – топиться... Если можно жить, летать... И любить. – Летчик говорил медленно, смотрел на Олю, вдруг стиснул ей руку и потянул к себе.
Воздух набух солнечным зноем. Пахло сосной, земляникой и клевером-кашкой. Глаза у летчика были чисты, сини и близки. И все здесь в Дунькиной роще было близко Оле, казалось родным, забытым по глупой, досадной промашке и найденным вновь...
«Сейчас он меня поцелует», – подумала Оля. Она знала, что надо быть гордой, противиться. Или не надо?
– Оля, – тихо позвал летчик, – Оля...
Ей хотелось сказать ему доверчиво, кротко только одно чуть внятное слово:
– Что?
Но она взяла себя в руки.
– Оля-то Оля, – сказала она, – только когда эта Оля попадет к себе в партию, в Алыгджер?
Летчик сразу же стал серьезным. На его гладком, юном лице обозначились крепкие скулы.
– Я сейчас занят вообще-то, патрульные полеты над тайгой. Пожаров много. Завтра не обещаю. А послезавтра, может быть, между делом свезу. Поговорю с командиром отряда...
4
Посредине комнаты стоит железный ящик на кирпичной подставке: летняя печка – чай кипятить. Трубы подведены к отдушине большой, зимней печи. Зимой здесь интернат, летом он пустует. Школьники улетели в Иркутск, на областной сбор юннатов. Тофоларские школьники. Дети самой маленькой нации в мире. Всего двести тофов живут в Саянах. Может, немного больше.
Маленькая страна, маленький народ, темный еще недавно, лесной. Детей его берут сызмальства в интернат, кормят и учат бесплатно. Пусть подрастает народ... В конце октября тофолары уходят в горы, в тайгу, белкуют, бьют из «тозовки»-малопульки соболя. Мех – валюту дает Алыгджер государству.
Слепов и Гриша постелили спальные мешки на интернатские койки и лежат теперь, разговаривают. Откровенно говорят, не столько друг с другом, сколько каждый сам для себя. Разговор волнующий, медленный, тихий. Нельзя иначе говорить в стране Тофоларии. Семь тысяч верст до дому. Слышно урчание быстрой, холодной воды. Этой воде нужно катить четверо суток, чтобы к шуму ее примешались звуки идущих машин, паровозов, многие голоса большого хозяйства людей.
В вечернем, тускнеющем окошке видны скалы, стесанные временем, водами, ветром, розово-чистые и прямые. Виднеются темные горки, белые облака, длинные к вечеру. Облака тянутся на ночлег в распадки, жмутся к вершинам. Не могут они висеть всю ночь без опоры.
Нельзя в такой стране говорить под вечер без дела, без чувства и откровенности.
– Вот черт, досадно, – говорит Слепов. – Нет в сельпо натурального кофе. Залезем тысячи на две метров в горы, кофе там – незаменимое, подкрепляющее средство.
– Водку возьмем? – справляется Гриша.
– Максимум две бутылки. В добавление к аптечке.
– В качестве душевного эликсира?.. – Заметно, что Гриша имеет на этот счет свои особые мысли.
Гриша – мечтательный, хмурый и мягкий внутренне парень. Когда-то они учились со Слеповым вместе в университете. Слепов кончил геологический, а Гриша – филфак, испанское отделение. Выбрал себе в восемнадцать лет яркое, пряное, сильное, непонятное – Испанию. Приводили в смятение Гришу взрывчатые слова: Эль-Греко, Гойя, коррида, торреро, Хемингуэй, фиеста, форель, мaха, интербригада, Пассионария. Эти слова порождали томление, зависть к настоящей, мужской жизни. На первом курсе слова были неразделимы, а потом обособились, прояснели и отдалились. Все дальше была Испания, чем ближе маячил конец университетской науке.
После выпуска с трудом подыскалась работа по специальности: ведать испанскими книжками в Публичной библиотеке. Испанские женщины, вереск испанских нагорий, корриды, неотомщенные республиканцы – все это заслонили карточки каталога. В Испании властвовал Франко. Не было нужды в специалистах испанского языка. Гришины однокурсницы пошли работать в многотиражки, в конторы, библиотеки, в лучшем случае – замуж, в худшем – воспитателями детских садов.
Мечтательный парень, Гриша не выдержал вскоре, бросил свой каталог и поехал с геологами в Саяны. Съездив раз, он не мог уже оторваться от геологии. От гор, тайги, ружья за плечом, молоточка в руках, трехмесячной бороденки на скулах – от проветренной зноем, потом, снегом дубленой жизни. Он ломал себе кости в горах, тонул в реках, плутал по тайге, болел ревматизмом, выздоравливал и ехал опять в Сибирь. Не мог не ехать туда. Геологи знали его теперь, брали с собой охотно. В сущности, он был удобен: неглуп и покладист.
Теперь Гриша прилетел в составе семнадцатой слеповской партии в Алыгджер, лежал на интернатской койке, курил, высказывал давние, важные мысли.
– Понимаешь, Ростислав, мне в жизни, в общем, надо немного. А может быть, больше этого нет ничего. Я должен обязательно каждый день знать, что сделал хоть самую малость в хозяйстве мира. Вот как сапожник: стачал сапоги, и спокойно, твердо живет дальше, не думает совсем о ней, а просто чувствует свою полезность. Самое страшное для меня – потерять это ощущение.
– Вот, вот, – сказал Слепов, – давай, ощути свою полезность, подбрось в печь полешко.
Ирония начальника не нарушила Гришин высокий настрой.
– Еще природа, – продолжал он. – Вот мы сегодня летели, я глядел на землю, на эти речки, на горы, на солнце и все время твердил бессмысленную фразу: «Спасибо тебе». Я ее иной раз твержу в самое неподходящее время. Снег повалит или дождь, а я бубню про себя: «Спасибо тебе». И чувствую счастье. Понимаешь?
– Ну, а чего же ты о «душевном элексире» толковал? Какой там у твоей души недуг? Часов двенадцать полазаешь по горкам с образцами да со шлифами в рюкзаке, всякая хворь отпадает к черту. Ни бессонницы, ни посторонних мыслей.
– Да нет, ничего, – сказал Гриша. – Лечиться мне, в общем, не надо. Совсем ни к чему. Я даже боюсь: вдруг вылечусь в самом деле? Очень боюсь.